





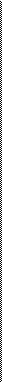

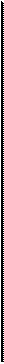

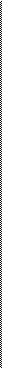
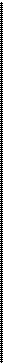 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГЕРМЕНЕВТИКИ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГЕРМЕНЕВТИКИ
В одном из прежних своих трудов2 я обсуждал изображение индивидуа-ции в человеческом мире — как творится оно искусством, в особенности же поэзией. Теперь же перед нами встает вопрос о научном познании отдельных лиц и даже великих форм единичного человеческого существования вообще. Возможно ли такое познание и какие средства имеются у нас для его достижения?
Вопрос огромного значения. Мы действуем, и это уже предполагает разумение других лиц, а человеческое счастье возникает по большей части оттого, что мы прочувствуем душевные состояния других; вся филология и история зиждется на той предпосылке, что подобное разумение неповторимого может быть возвышено до объективности. Все историческое знание, возводимое на таком основании, позволяет современному человеку обладать в себе, как настоящим, всем прошлым человечества: возвышаясь над любыми ограничениями современной культуры, он смотрит на прошлые культуры, вбирая в себя их силу и наслаждаясь их чарами; великое умножение счастья воспроисходит отсюда. И если систематические науки о духе выводят из такого объективного постижения единичного всеобщие закономерные отношения и общие взаимосвязи, то все же и для них основу составляют процессы разумения и экзегезы. Вот почему науки эти не менее истории зависят, что до их надежности, от возможности возвысить разумение единичного до общезначимости. Так что у врат наук о духе нас встречает проблема, свойственная им в отличие от любого познания природы.
Конечно у наук о духе есть преимущество перед любым познанием природы: их предмет — это не данные в чувствах явления, не простое
 Это эссе впервые опубликовано в Festschrift: Philosophische Abhandlungen,
Это эссе впервые опубликовано в Festschrift: Philosophische Abhandlungen,
Christoph Sigwart zu seinem 70. Geburtstag 28 März 1900 gewidmet, Tübin
gen 1900, S. 185-202. Перепечатка: W. Dilthey, Gesammelte Schriften, Bd. V, S.
317-338. (
Имеется в виду эссе Die Kunst als erste Darstellung der menschlichgeschichtlichen Welt in ihrer Individuation в сборнике: Beiträge zum Studium der Individualität (1895-1896). Перепечатка: W. Dilthey, Gesammelte Schriften, Bd. V, S. 273-303.
отражение чего-либо действительного в сознании, но)сама непосредственная внутренняя реальность, причем как взаимосвязь, переживаемая изнутри.1 Однако уже вследствие способа данности этой действительности во внутреннем опыте для ее объективного постижения возникают немалые трудности. Сейчас не станем обсуждать их. Кроме того, внутренний опыт, в каком я осознаю свои собственные состояния, все же никогда не может довести до моего сознания мою же собственную индивидуальность. Лишь сравнивая себя с другими, я постигаю в опыте индивидуальное в самом же себе; только теперь я сознаю то в своем индивидуальном существовании, что отклоняется от других, и Гёте следовательно прав, когда полагает, что нам лишь с большим трудом дается это самое важное во всем нашем опыте и что наше усмотрение меры, природы и пределов наших сил всегда лишь крайне несовершенно. Чужое же существование дается нам первым делом в чувственных фактах, жестах, звуках, действиях, что приходят извне. Лишь в процессе воссоздания того, что в виде отдельных знаков замечается нашими чувствами, мы восполняем это внутреннее. Все — материю, структуру, самые индивидуальные черты этого дополняемого — мы вынуждены переносить сюда изнутри собственной жизненности. Так как же индивидуально сложенное сознание может путем такого воспроизведения доводить до объективного познания чужую, совершенно иначе устроенную индивидуальность? Что это за процесс, который как нечто столь чужеродное занимает свое место среди иных процессов познания?
Процесс распознавания внутреннего по знакам, даваемым нам чувствами извне, мы называем разумением. Таково словоупотребление, а твердая психологическая терминология, в какой мы так нуждаемся, может быть достигнута лишь тогда, когда всякое выражение, четко отпечатлевшееся и ясно и практично ограниченное со всех сторон, будет однообразно фиксироваться всеми авторами. Разумение природы — interpretatio naturae — это образное выражение. Однако и постижение своих собственных состояний мы лишь в переносном смысле именуем S разумением. Правда, иной раз я говорю: не понимаю, как мог я так поступить, сам себя не понимаю, не разумею. Этим я хочу сказать, что такое-то проявление моей сущности, выступившее в чувственном мире, предстает передо мной как проявление кого-то чужого и что я не в состоянии интерпретировать его как таковое, или же в ином случае я хочу сказать, что очутился в состоянии, какому дивлюсь как чужому. Так что, согласно изложенному, разумением мы называем процесс, в
котором на основании чувственно данных знаков мы познаем нечто психическое, выражением чего эти знаки служат.
Такое разумение простирается от понимания младенческого лепета до постижения «Гамлета» или «Критики чистого разума». Один и тот же человеческий дух, нуждающийся в экзегезе, обращается к нам в камнях, мраморе, музыкально оформленных звуках, в жестах, словах и письменах, в действиях, хозяйственных уставах и укладах. Причем процесс разумения во всех случаях, где только определяется он общими условиями и средствами такого способа познания, обязан обладать и общими признаками. Он остается все тем же в своих основных чертах. Если, к примеру, я намереваюсь уразумевать Леонардо, то тут взаимодействует интерпретация действий, картин, полотен, письменных сочинений, причем в процессе гомогенном, едином.
Разумение отличается разными степенями. Таковые первым делом обуславливаются интересом. Если интерес ограничен, таким же будет и разумение. С каким нетерпением следуем мы, бывает, за какой-нибудь дискуссией; мы держимся в ней лишь какого-то одного ставшего важным для нас пункта, а внутренней жизнью говорящего не интересуемся. В иных же случаях мы всеми силами стремимся проникнуть во внутренний мир говорящего, следя за каждым выражением его лица, за всяким его словом. Но даже и самое напряженное внимание обратится в многоискусный процесс, достигающий контролируемой степени объективности, лишь при условии, что известное жизненное проявление зафиксировано, а потому мы можем снова и снова обращаться к нему. Такое искусное разумение длительно фиксируемых жизненных проявлений мы называем экзегезой или интерпретацией. В этом смысле бывает искусство экзегезы, предметом которого выступают скульптуры или картины, и уже Фридрих Август Вольф3 выдвинул требование археологической герменевтики и критики. Велькер4 высказался в ее пользу, а Преллер пытался провести в жизнь. Однако уже Преллер5 подчеркивает, что интерпретация безъязыких созданий зависит от объяснений, даваемых в литературе.
 Фридрих Август Вольф (1759-1824), античник, всвоих Prolegomena ad Ho-merum (1795) основавший немецкую школу классической филологии как науку.
Фридрих Август Вольф (1759-1824), античник, всвоих Prolegomena ad Ho-merum (1795) основавший немецкую школу классической филологии как науку.
Карл Теодор Велькер (1790-1869), законовед и политик. " Людвиг Преллер (1809-1861), немецкий филолог и историк.
В том-то и заключено неизмеримое значение литературы для разумения духовной жизни и истории, что^лишь в языке человеческое внутреннее обретает свое полное, исчерпывающее, объективно уразумеваемое выражение. Так что самый центральный пункт искусства разумения — это экзегеза или интерпретация сохраняющихся в письменном виде следов человеческого существования. '
Исходной точкой для филологии и стала экзегеза и неразрывно связанная с нею критическая обработка таких следов. Филология в самом своем существе и есть личное искусство, виртуозность в обработке всего письменно сохранившегося, и всякая иная интерпретация памятников или иных действий, сообщаемых исторической традицией, может процветать лишь в связи с таким искусством и его результатами. Мы можем заблуждаться относительно движущих причин поступков исторических личностей, сами действующие в истории личности могут проливать на них обманчивый свет. Но творение великого поэта или первооткрывателя, религиозного гения или же подлинного философа может быть лишь истинным выражением его душевной жизни; в человеческом обществе, полном лжи, такое творение — вечно истинно, и оно, в отличие от любого иного проявления в фиксируемых знаках, доступно полной и объективной интерпретации, и более того — оно впервые проливает сззет на иные художественные памятники эпохи, на исторические деяния своих современников.
Такое искусство интерпретации развивалось столь же постепенно, закономерно и медленно, что, к примеру, и вопрошание природы путем эксперимента. Оно возникло и сохранялось в личной гениальной виртуозности филолога. И, что совершенно естественно, оно преимущественно и передается благодаря личному соприкосновению с великим виртуозом экзегезы или же его творчеством. Одновременно же всякое искусство поступает согласно правилам. Правила учат преодолевать трудности. Поэтому из искусства экзегезы рано сложилось изложение его правил. А из спора между такими правилами, из борьбы разных направлений относительно экзегезы жизненно важных творений и из обусловленной всем этим потребности обосновывать правила возникла герменевтическая наука. Такая наука есть учение о правилах экзегезы письменных памятников.
Последнее, определяя возможность общезначимой экзегезы на основе анализа разумения, в конце концов достигает разрешения той самой совершенно всеобщей проблемы, с обсуждения которой мы всё начали, — к анализу внутреннего опыта добавляется анализ разумения, а тот
и другой анализ дают в своей совокупности подтверждение того, что в науках о духе возможно общезначимое познание — в границах, задаваемых тем способом, каким изначально даны нам психические факты. [
Сейчас же мне хотелось бы дать подтверждение столь закономерного хода на основе истории герменевтики. Как из потребности в глубоком общезначимом разумении возникла филологическая виртуозность, отсюда же — составление правил, подчинение их общей цели, конкретнее определяемой положением науки в такую-то эпоху, — пока, наконец, в анализе разумения не был обретен надежный исходный пункт для составления самих правил.
1.
Искусное истолкование (upn^veta) поэтов развилось в Греции из потребностей школьного обучения. В эпоху просвещения тут — всюду, где только говорили по-гречески, — весьма любили остроумно-глубокомысленную игру в толкование и критику Гомера и других поэтов. Более твердое основание было создано софистами и школами риторов, когда истолкование пришло в соприкосновение с риторикой. Ибо в риторике, примененной к красноречию, заключалось более общего свойства учение о писательской композиции. Аристотель, этот великий классификатор и аналитик органического мира, государств и литературных созданий, — Аристотель в своей «Риторике» учил тому, как надо разлагать на части целое литературного продукта, различать формы стиля, распознавать воздействие ритма, периода, метафоры6. В «Риторике к Александру» в еще более простом рядоположном виде содержатся понятийные определения действенных элементов речи, как-то: параболы, энтимемы, сентенции, иронии, метафоры, антитезы. А аристотелевская «Поэтика» во вполне явной форме предметом своим сделала внутреннюю и внешнюю форму поэзии и ее действенных элементов, выводимую из определения сущности и цели поэзии и ее видов.
Следующий важный шаг искусство интерпретации с его правилами сделало в александрийской филологии. Литературное наследие Греции было собрано в библиотеках, составлялись критически просмотренные тексты, а с помощью искусной системы критических знаков результаты критической работы особо отмечались. Вычленялись неподлинные
 Аристотель, Риторика, кн. Ill (1403b 5 слл.).
Аристотель, Риторика, кн. Ill (1403b 5 слл.).
Аристотель, Риторика к Александру, гл. 11 слл. (1430а 23 слл.).
16 — 6344
тексты, составлялись предметные каталоги всего книжного хранения. Уже наличествовала филология как основанное на углубленном разумении языка искусство критического издания текстов, высшей критики, истолкования и определения ценности — одно из последних, самых искусных творений греческого духа, для которого уже со времен Гомера одним из самых мощных импульсов служила доставляющая ему радость человеческая речь. Кроме того, александрийские филологи уже начали осознавать правила, содержавшиеся в их вдохновенной технике. Аристарх8 уже сознательно действовал согласно принципу строгого и всеобъемлющего установления гомеровского языкового узуса, на чем и основывалось его объяснение, определение текста. Гиппарх с полным сознанием дела основывал реальную интерпретацию на литературно-историческом исследовании, — так, он раскрыл источники «Феноменов» Арата и на их основании интерпретировал эту поэму8. Если же среди сохраненных традицией поэм Гесиода были выявлены неподлинные, из эпических поэм Гомера было исключено большое число стихов, а последняя песнь «Илиады» и — с еще большим единодушием — последняя песнь «Одиссеи» были признаны более поздними текстами, то все это происходило вследствие виртуозного владения принципом аналогии, согласно которому устанавливался как бы канон языкового употребления, круга представлений, внутреннего взаимосогласия и эстетической ценности поэмы, и вычленялось все противоречащее такому канону. Ведь Зенодот10 и Аристарх пользовались подобным нравственно-эстетическим каноном, что совершенно ясно вытекает из их обоснования своих атетез" — 6icc то шсрелб;, т.е. quid
 Аристарх Самофракийский (ок. 220 — ок. 143 до н.э.), грамматик и литературный критик, исследователь Гомера, ок. 153 управляющий знаменитой библиотекой в Александрии.
Аристарх Самофракийский (ок. 220 — ок. 143 до н.э.), грамматик и литературный критик, исследователь Гомера, ок. 153 управляющий знаменитой библиотекой в Александрии.
Гиппарх (ок. 190-180 — 125 до н.э.), один из основоположников астрономии, создатель системы географических координат, критик и комментатор современника Платона Евдокса и автора астрономических поэм Арата.
Зенодот (ок. 323 — 260 до н.э.), александрийский филолог, создал критические издания обеих гомеровских поэм, первый руководитель александрийской библиотеки.
Атетеза, букв, отказ в полагании — термин классического литературоведения, «отвод» определенного смысла или толкования.
heroum vel deorum gravitatem minus decere videbatur1*. К тому же Аристарх ссылался на Аристотеля.
Методичное сознание правильности интерпретации еще усиливалось в александрийской филологии вследствие противостояния ее филологии Пергама. Вот противоположность герменевтических направлений со всемирно-историческим значением! Ибо в христианской теологии она же выступила в новой ситуации, обусловив два великих исторических взгляда на поэтов и религиозных писателей.
Кратес из Малла занес в пергамскую филологию принцип аллегорической „интерпретации. Долговечность такого принципа истолкования прежде всего основывалась на том, что он сглаживал противоречия между религиозными писаниями и очищенным взглядом на мир. Вот почему метод такой был равно необходим истолкователям Вед, Гомера, Библии, Корана, — искусство столь же неизбежное, сколь и бесполезное. Однако в основе этого метода в то же самое время лежал и глубокий взгляд на поэтическое и религиозное творчество. Гомер — это визионер, и противоречие между его глубокими воззрениями и чувственно грубыми представлениями можно объяснить, лишь понимая последние просто как средства поэтического изображения. Однако как только такое отношение начинали понимать как преднамеренное облачение духовного смысла образами, возникала аллегорическая интерпретация.
2.
Если только я не ошибаюсь, та же самая противоположность только в изменившихся условиях, повторяется в борьбе александрийской и ап-тиохийской богословских школ. Было общее основание, — естественно, то, что Ветхий и Новый Завет соединены внутренней взаимосвязью пророчествования и осуществления. Такая взаимосвязь требовалась Новым Заветом с его пользованием предсказаниями и прообразами. Как только христианская церковь стала исходить из такого принципа, она оказалась в трудном положении в отношении к своим противникам, что касается истолкования Священного Писания. Перед лицом иудеев она нуждалась в аллегорическом истолковании, чтобы внести в
 «Через неподобие», «что представлялось неподобающим для героев или богов» (лат.).
«Через неподобие», «что представлялось неподобающим для героев или богов» (лат.).
Кратес из Малла в Киликии (3-2 вв. до н.э.), современник Аристарха, основатель Пергамской грамматической школы.
Ветхий Завет теологию логоса; перед лицом гностиков надо было наоборот противиться слишком далеко заходящему применению аллегорического метода. Следуя по стопам Филона14, Юстин15 и Ириней попытались установить ограничительные правила пользования аллегорическим методом. Тертулиан в своей борьбе с иудеями и гностиками подхватывает метод Юстина и Иринея, однако, с другой стороны, развивает правила лучшего, более плодотворного искусства истолкования, которым он, правда, не всегда бывал верен. В греческой церкви дошли до принципиального постижения этой противоположности. Антиохий-ская школа объясняла тексты лишь согласно грамматически-историческим принципам. Так, антиохиец Феодор в Песни Песней видел лишь эпиталаму. В Книге Иова он усматривал только поэтическую обработку исторической традиции. Он отвергал заголовки псалмов и в отношении значительной части мессианистских пророчествований отрицал прямую их связь с Христом. Он не признавал двоякого смысла текстов и допускал лишь более высокую взаимосвязь между событиями. В противоположность чему Филон, Климент и Ориген в самих текстах различали духовный и действительный смысл.
Для герменевтики же, которая возвышает искусство истолкования до научного сознания, новым шагом было то, что из всей этой борьбы вышли первые последовательные герменевтические теории, о каких только имеются у нас сведения. Уже согласно Филону существуют tcctvo-veg и vöuoi xfjt; aXkvffopiac,™, применяемые в Ветхом Завете, знание кото-
 Филон Александрийский (21 или 28 до н.э. — 41 или 49 н.э.), известнейший иудейско-греческий мыслитель, религиозно-философский аллегорический толкователь Торы и Платона.
Филон Александрийский (21 или 28 до н.э. — 41 или 49 н.э.), известнейший иудейско-греческий мыслитель, религиозно-философский аллегорический толкователь Торы и Платона.
Иустин Философ, Иустин Мученик (ок. 100 — ок. 165), ранний апологет христианства в античной культуре.
Ириней, еп. Лионский (2 в. н.э.), ранний отец Церкви, борец против ересей.
Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — ок. 240), первый западный отец Церкви, блестящий апологет христианства с солидной общекультурной и философской (стоицизм) базой.
Климент Александрийский (ок. 140 — ок. 220), александрийский философ-мистик и христианский писатель. Климент и его ученик Ориген своими разработками заложили основу почти всего последующего христианского богословия.
Ориген (ок. 185 — 254), разносторонний христианский писатель александрийской герменевтической школы. 20 «Каноны и законы аллегории», (грсч.).
рых и должно полагаться в основу его интерпретации. Ориген в 4-й книге своего сочинения Flepi ctp%6}V и Августин в 3-й книге De doctrina Christiana" и основали на этом свою взаимосвязно изложенную герменевтическую теорию. Против таковой выступали два, к сожалению, утраченные сочинения антиохийской школы, — Диодор Tu; Stowpopoc Betopicu; Kai ctM-tr/opia*;23, и Феодор De allegoria et historia contra Origenem \
3.
Начиная с Ренессанса, интерпретирование и правила такового вступили в новую стадию. Язык, условия жизни, национальность — все отделяло людей этого времени от классической и христианской античности. Поэтому, в степени куда большей, нежели некогда в Риме, интерпретировать означало теперь переноситься в чужую духовную жизнь посредством штудий грамматических, реальных, исторических. Нередко этой новой филологии, полиматии и критике доводилось работать лишь со свидетельствами и остатками текстов. Так что им приходилось быть по-новому и творческими и конструктивными. Вследствие этого филология, герменевтика и критика поднялись на более высокую ступень. Последующие четыре столетия принесли обширную герменевтическую литературу. Она составляет два различных потока, ибо теми великими силами, какие тут стремились усвоить себе, были сочинения классические и библейские. Правила классической филологии именовались ars critica. Сочинения, среди которых выдавались
Ттт 25 г- 2В л 27
труды Шоппиуса, Клерика и незаконченный труд Валезия, в первых своих частях излагали учение о герменевтических правилах. Бесчисленные статьи и предисловия трактовали de interpretatione. Из таких со-
 21 Ориген, О началах. Казань 1899 (есть перепечатки).
21 Ориген, О началах. Казань 1899 (есть перепечатки).
Августин, О христианском учении // Творения блаженного Августина, ч. 1-7. Киев 1907-1912 (есть перепечатки).
«В чем различие между созерцанием и аллегорией» (греч.), соч. Диодора, предположительно еп. Тарсийского (ум. до 394), в своей экзегезе Ветхого и Нового Заветов отвергавшего аллегоризм.
«Об аллегории и истории против Оригена», (лат.).
25 Гаспар Шоппий (1576-1649), один из создателей новоевропейской филологии, комментатор «Минервы» Санкция, латинист. 2GJohann Clericus (1657-1736), голландский богослов (арминианин). Генрих Валезий (1603-1676), церковный историк.
чинений первым значительным и, вероятно, самым глубоким был «Clavis» Флация (1567)28.
В нем вся совокупность обретенных до той поры правил интерпретации впервые обратилась в целое здание учения, причем через посредство следующего постулата— искусно-методичное следование этим правилам должно непременно привести к общезначимому разумению. Эта принципиальная точка зрения, каковая на деле управляет всей герменевтикой, была доведена до сознания Флация в итоге той борьбы, какая заняла весь XVI век. Самому Флацию приходилось воевать на два фронта. Как анабаптисты, так и переживший свою реставрацию католицизм одинаково настаивали на темноте Священного Писания. Фла-ций же выступает против этого, более всего учась у Кальвиновой экзегезы, нередко восходившей от интерпретации к ее принципам. Самым настоятельным занятием лютеранина тех дней было опровержение католического учения о традиции, тогда только что заново сформулированного. Право традиции определять истолкование Священного Писания могло в споре с протестантским принципом первенства Писания основываться лишь на том, что из самих библейских книг невозможно вывести достаточную и общезначимую интерпретацию^ Проходивший в 1545-63 годах в Триесте Собор обсуждал эти вопросы, начиная с 4-й сессии, а в 1564 году было опубликовано первое подлинное издание его постановлений. Позднее Беллармин29, представитель тридентского католицизма, проницательнее всех оспаривал понятность Библии — в памфлете 1581 г., спустя незначительное время после выхода в свет труда Флация, — стремясь доказать необходимость традиции, дополняющей Писание. В ходе этой борьбы Флаций предпринял попытку герменевтического обоснования возможности общезначимой интерпретации. Мучаясь над разрешением такой задачи он сумел осознать такие средства и такие правила, какие прежняя герменевтика не способна была выдвинуть.
Для толкователя, который наталкивается в своем тексте на трудные места, всегда существует отмеченное особой утонченностью средство, — это данная в живой христианской религиозности взаимосвязь Писания. Если это перевести с языка догматической мысли на наш язык, то
 О Флаций подробно см. конкурсную работу Дильтея «Герменевтическая система Шлейермахера в ее отличии от предшествующей протестантской герменевтики».
О Флаций подробно см. конкурсную работу Дильтея «Герменевтическая система Шлейермахера в ее отличии от предшествующей протестантской герменевтики».
Св. Роберт Беллармин (1542-1621), кардинал, богослов-иезуит.
герменевтическая ценность религиозного опыта выступит лишь как частный случай принципа, согласно которому во всякой методичной интерпретации, в качестве одного из факторов таковой, содержится толкование на основе реальной взаимосвязи. Однако наряду с таким религиозным принципом истолкования имеется и иной — сообразно рассудку. Ближайший ее принцип — грамматический. Но наряду с ним Флаций первым схватывает значение и того психологического или технического принципа истолкования, согласно которому отдельные места должны интерпретироваться на основании намерения и композиции целого. Он же первым методично использует для такой технической интерпретации выводы риторики — те, что относятся к внутренней взаимосвязи литературного продукта, его композиции и его эффективно воздействующих элементов. Предшественником его выступил Меланхтон, своим переустройством аристотелевской риторики-выполнивший для него предварительную работу. Сам Флаций хорошо сознает, что впервые методически использует вспомогательное средство однозначного определения отдельных мест, что заключено в контексте, цели, пропорции, совпадения отдельных частей, или членов целого. Он рассматривает герменевтическую ценность такого средства с точки зрения общего учения о методе. «Ведь и вообще отдельные части целого уразумеваются по их сопряженности с этим целым и с другими его частями». Он прослеживает такую внутреннюю форму сочинения вплоть до его стиля и отдельных функциональных элементов, набрасывая при этом уже весьма тонко прочувствованные характеристики стиля Павла или Иоанна. То был огромный прогресс, — правда, в рамках риторического постижения. Ведь любое сочинение в глазах Меланхтона30 и Флация и сделано по правилам, и уразумевается тоже по правилам. Каждое — что-то вроде логического автомата, облаченного в одежды стиля, образов, фигур речи.
Формальные недочеты Флациева труда были преодолены герменевтикой Баумгартена. В «Известиях об одной библиотеке в Галле» Баумгартена в горизонт немецкой мысли начали вступать, наряду с голландскими толкователями и английские вольнодумцы и толкователи Нового Завета на основе этнографических данных. Землер и Миха-
 О Меланхтоне также подробно см. указ. конкурсную работу Дильтея.
О Меланхтоне также подробно см. указ. конкурсную работу Дильтея.
Об авторах, трудах и биографических обстоятельствах, упоминаемых далее вплоть до конца данной работы, подробнее см. указ. конкурсную работу Дильтея.
элис сложились в общении с ним через участие в его трудах. Михаэлис первым приложил к интерпретации Ветхого Завета единый исторический взгляд на язык, историю, природу и право. Землер, предтеча великого Кристиана Баура, разрушил единство новозаветного канона, поставил правильную задачу — каждое отдельное из входящих в него сочинений постигать в его локальном характере, затем привел все эти сочинения в новое единство, заключающееся в живом историческом постижении раннехристианской борьбы между иудеохристианством и христианством более вольного толка и в своем «Приуготовлении к богословской герменевтике» с прямой решительностью возвел всю эту науку к двум моментам — интерпретации на основании языкового узуса и к интерпретации на основании исторических обстоятельств. Тем самым было завершено освобождение от догмата, — грамматическо-историческая школа была основана. Эренсти с его тонким, осторожным умом создал вслед за тем классический труд этой новой герменевтики — своего «Интерпретатора». И даже еще Шлейермахер развил свою собственную герменевтику, читая это сочинение. Конечно, и эти шаги вперед совершались в известных твердых рамках. В руках названных экзегетов и композиция и мыслительная ткань всякой книги, относящейся к такой-то эпохе, раскладывается все на одни и те же нити, — на круг представлений, обусловленный местом и временем. Согласно такому прагматическому постижению истории человеческая природа, в религиозном и моральном отношении устроенная везде одинаково, ограничивается лишь извне — местом и временем. Сама же она неисторична.
До той поры герменевтика классическая и библейская развивались параллельно. Так не следовало ли понимать их как применения одной общей герменевтики? Вольфианец Мейер так и поступил в своем «Опыте всеобщего искусства истолкования» (1757). Он действительно разумел понятие своей науки столь общо, насколько то было возможно, — ее дело предписывать правила, которые необходимо будет сонаблю-дать при любом истолковании знаков. Однако эта книга лишний раз показывает, что новую науку — не изобрести, опираясь на точку зрения архитектоники и симметрии. Иначе возникнут слепые окна, через которые никто не увидит ничего. Эффективная герменевтика могла возникнуть лишь в голове человека, соединявшего виртуозность филологической интерпретации с подлинно философским дарованием. Таким человеком был Шлейермахер.
4.
Условия, в каких он работал — винкельмановская интерпретация творений искусства, гердеровское конгениальное вчувствование в душу эпох и народов и работающая на новых эстетических позициях филология Гейне, Фридриха Августа Вольфа и учеников последнего, из числа которых Хейндорф жил в самой тесной общности платоновских штудий с Шлейермахером, — все это соединялось в нем с методом трансцендентальной философии, заходящим за данное в сознании и восходящим к творческой способности — к той, что действуя едино и не сознавая себя, производит в нас всю форму мира. Именно из соединения двух этих мотивов и возникло как его искусство интерпретации, так и окончательное обоснование научной герменевтики.
До той поры герменевтика в лучшем случае была зданием правил, части которого, отдельные правила, связывались воедино целью общезначимой интерпретации. Взаимодействующие в процессе интерпретации функции такая герменевтика разделяла — в виде истолкования грамматического, исторического, эстетически-риторического и реального. Из филологической виртуозности многих веков эта герменевтика вывела осознанные правила, согласно которым обязаны действовать все эти функции. Теперь же Шлейермахер, переходя границы этих правил, обратился к анализу самого разумения, т.е. к познанию самого этого целевого действия, и уже из такого познания он вывел возможность общезначимого истолкования, все его вспомогательные средства, границы и правила. Однако само разумение как повторное слагание и конструирование он мог анализировать лишь в его живой сопряженности с процессом самого литературного творчества. В живом созерцании творческого процесса, в каком возникает жизнеспособное литературное создание, он распознал условие для познания другого процесса — того, что на основе письменных знаков постигает целое творения, а на основе целого — намерение и духовный склад его создателя.
Однако чтобы решить так поставленную проблему, потребовался новый психолого-исторический взгляд. Мы прослеживали ту сопряженность, о какой тут идет речь, начиная со связи, какая образовалась между греческим способом интерпретации и риторикой как учением о правилах особого вида литературного творчества. Однако разумение всех этих процессов оставалось логико-риторическим. Категории, в каких оно совершалось, были все теми же — делание, логическая взаи-
мосвязь, логический порядок, затем же облачение такого логического продукта в одежды стиля, фигур речи, образов. Теперь же, чтобы уразумевать литературный продукт, применяются совершенно новые понятия. Тут выступает наконец единосогласно и творчески действующая способность, какая, не сознавая своей деятельности, своего слагания, вбирает в себя и начинает выстраивать первые веяния творения. Для этой способности нераздельны восприятие и самодеятельное слагание. Индивидуальность действует тут до самых кончиков пальцев, до отдельных слов. Величайшее изъявление ее — внешняя и внутренняя форма литературного творения. А затем навстречу такому творению выступает ненасытная потребность дополнить свою индивидуальность созерцанием иных. Так что разумение и интерпретация постоянно деятельны в самой жизни, а своего полного завершения они достигают в искусном истолковании жизнеспособных творений и взаимосвязи таковых в духе их создателя. Вот в чем заключается новое созерцание в особенной его форме, какую приняло оно в Шлейермахеровом духе.
Дальнейшее же условие для этого великого акта создания всеобщей герменевтики заключалось в том, что новые психологически-исторические воззрения были разработаны и доведены товарищами Шлейер-махера и им самим до филологического искусства интерпретации. Вот только что немецкий дух в лице Шиллера, Вильгельма фон Гумбольдта, братьев Шлегелей от поэтического творчества обратился к новому уразумению исторического мира. Могучее движение, — Бёк, Диссен, Вель-кер, Гегель, Ранке, Савиньи — все они были обусловлены им. Фридрих Шлегель направлял Шлейермахера в движении к филологическому искусству. Понятия, какие руководили Шлегелем в его блестящих работах о греческой поэзии, Гёте, Боккаччо, были понятиями внутренней формы творения, истории развития как писателя, так и почленен-ного в себе целого литературы. А за такими отдельными достижениями конструирующего задним числом филологического искусства для него выступал замысел науки критики — ars critica, какую надлежало основать на теории творческой литературной способности. Как тесно соприкасался такой замысел с герменевтикой и критикой Шлейермахера.
От Шлегеля же исходил и замысел перевода Платона. При переводе его и складывалась техника новой интерпретации, техника, какую Бёк и Диссен применили затем к Пиндару. Платона должно разуметь как философа-художника. Цель интерпретации — единство характера платоновского философствования и художественной формы его творений. Философия продолжает оставаться тут жизнью, она срослась с
I
беседой, а изложение ее на письме лишь фиксирует ее для памяти. Так что она обязана быть диалогом, причем столь искусным по своей форме, чтобы последняя побуждала каждого к собственному воспроизведению живого сцепления мыслей. Одновременно же, в соответствии со строгим единством Платонова мышления каждый диалог обязан продолжать начатое ранее, подготавливать позднейшее и вести нити разных разделов философии. Если прослеживать такие существующие между диалогами сопряжения, то между главными творениями возникает та взаимосвязь, какая раскрывает самую внутреннюю интенцию Платона. В постижении же такой искусно образованной взаимосвязи согласно Шлейермахеру возникает подлинное разумение Платона, и в сравнении с таковым менее существенно установление хронологической последовательности его творений, хотя, впрочем, последняя нередко попросту совпадает с той самой их взаимосвязью. Бек в своей знаменитой рецензии имел право сказать, что шедевр этот впервые раскрыл Платона для филологической науки.
Однако с подобной филологической виртуозностью в Шлейер-махеровом духе впервые соединялась гениальная философская способность. Причем школой для нее была трансцендентальная философия — та самая, которая впервые предложила вполне достаточные средства именно для всеобщего уразумения и разрешения герменевтической проблемы, — так и возникла всеобщая наука истолкования, возникло учение, излагавшее правила истолкования.
За чтением «Интерпретатора» Эрнести Шлейермахер осенью 1804 г. впервые разработал первый эскиз такого учения — в намерении н