Едва только Антон Прокофьевич появился в дверях, как в то же мгновение был обступлен всеми. Антон Прокофьевич на все вопросы закричал одним решительным словом: «Не будет». Едва только он это произнес, и уже град выговоров, браней, а может быть и щелчков, готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства, как вдруг дверь отворилась и — вошел Иван Никифорович.
Если бы показался сам сатана или мертвец, то они бы не произвели такого изумления на все общество, в какое повергнул его неожиданный приход Ивана Никифоровича. А Антон Прокофьевич только заливался, ухватившись за бока, от радости, что так подшутил над всею компаниею.
Как бы то ни было, только это было почти невероятно для всех, чтобы Иван Никифорович в такое короткое время мог одеться, как прилично дворянину. Ивана Ивановича в это время не было; он зачем-то вышел. Очнувшись от изумления, вся публика приняла участие в здоровье Ивана Никифоровича и изъявила удовольствие, что он раздался в толщину. Иван Никифорович целовался со всяким и говорил: «Очень одолжен».
Между тем запах борща понесся чрез комнату и пощекотал приятно ноздри проголодавшимся гостям. Все повалили в столовую. Вереница дам, говорливых и молчаливых, тощих и толстых, потянулась вперед, и длинный сгол зарябел всеми цветами. Не стану описывать кушаньев, какие были за столом! Ничего не упомяну ни о мнишках в сметане, ни об утрибке, которую подавали к борщу, ни об индейке с сливами и изюмом, ни о том кушанье, которое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе, ни о том соусе, который есть лебединая песнь старинного повара, — о том соусе, который подавался обхваченный весь винным пламенем, что очень забавляло и вместе пугало дам. Не стану говорить об этих кушаньях потому, что мне гораздо более нравится есть их, нежели распространяться об них в разговорах.
Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Он особенно занялся этим полезным и питательным упражнением. Выбирая самые тонкие рыбьи косточки, он клал их на тарелку и как-то нечаянно взглянул насупротив: Творец небесный, как это было странно! Против него сидел Иван Никифорович!
В одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорович!.. Нет!., не могу!.. Дайте мне другое перо! Перо мое вяло, мертво, с тонким расщепом для этой картины! Лица их с отразившимся изумлением сделались как бы окаменелыми. Каждый из них увидел лицо давно знакомое, к которому, казалось бы, невольно готов подойти, как к приятелю неожиданному, и поднесгь рожок с словом: «одолжайтесь», или: «смею ли просить об одолжении»; но вместе с этим то же самое лицо было страшно, как нехорошее предзнаменование! Пот катился градом у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича.
Присутствующие, все, сколько их ни было за столом, онемели от внимания и не отрывали глаз от некогда бывших друзей.
Дамы, которые до того времени были заняты довольно интересным разговором о том, каким образом делаются каплуны, вдруг прервали разговор. Все стихло! Это была картина, достойная кисти великого художника!
Наконец Иван Иванович вынул носовой платок и начал сморкаться; а Иван Никифорович осмотрелся вокруг и остановил глаза на растворенной двери. Городничий тотчас заметил это движение и велел затворить дверь покрепче. Тогда каждый из друзей начал кушать и уже ни разу не взглянули друг на друга.
Как только кончился обед, оба прежние приятели схватились с мест и начали искать шапок, чтобы улизнуть. Тогда городничий мигнул, и Иван Иванович, — не тот Иван Иванович, а другой, что с кривым глазом, — стал за спиною Ивана Никифоровича, а городничий зашел за спину Ивана Ивановича, и оба начали подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, пока не подадут рук. Иван Иванович, что с кривым глазом, натолкнул Ивана Никифоровича, хотя и несколько косо, однако ж довольно еще удачно и в то место, где стоял Иван Иванович; но городничий сделал дирекцию слишком в сторону, потому что он никак не мог управиться с своевольною пехотою, не слушавшею на тот раз никакой команды и, как назло, закидывавшею чрезвычайно далеко и совершенно в противную сторону (что, может, происходило оттого, что за столом было чрезвычайно много разных наливок), так что Иван Иванович упал на даму в красном платье, которая из любопытства просунулась в самую средину. Такое предзнаменование не предвещало ничего доброго. Однако ж судья, чтоб поправить это дело, занял место городничего и, потянувши носом с верхней губы весь табак, отпихнул Ивана Ивановича в другую сторону. В Миргороде это обыкновенный способ примирения. Он несколько похож на игру в мячик. Как только судья пихнул Ивана Ивановича, Иван Иванович с кривым глазом уперся всею силою и пихнул Ивана Никифоровича, с которого пот валился, как дождевая вода с крыши. Несмотря на то что оба приятеля весьма упирались, однако ж таки были столкнуты, потому что обе действовавшие стороны получили значительное подкрепление со стороны других гостей.
Тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор, пока они не решились подать друг другу руки.
— Бог с вами, Иван Никифорович и Иван Иванович! Скажите по совести, за что вы поссорились? не по пустякам ли? Не совестно ли вам перед людьми и перед Богом!
— Я не знаю, — сказал Иван Никифорович, пыхтя от усталости (заметно было, что он был весьма не прочь от примирения), —я не знаю, что я такое сделал Ивану Ивановичу; за что же он порубил мой хлев и замышлял погубить меня?
— Не повинен ни в каком злом умысле, — говорил Иван Иванович, не обращая глаз на Ивана Никифоровича. — Клянусь и пред Богом и пред вами, почтенное дворянство, я ничего не сделал моему врагу. За что же он меня поносит и наносит вред моему чину и званию?
— Какой же я вам, Иван Иванович, нанес вред? — сказал Иван Никифорович.
Еще одна минута объяснения — и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иван Никифорович полез в карман, чтобы достать рожок и сказать: «Одолжайтесь».
— Разве это не вред, — отвечал Иван Иванович, не подымая глаз, — когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чин и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать?
— Позвольте вам сказать по-дружески, Иван Иванович! (при этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположение), — вы обиделись за черт знает что такое: за то, что я вас назвал гусаком...
Иван Никифорович спохватился, что сделал неосторожность, произнесши это слово; но уже было поздно: слово было произнесено.
Все пошло к черту!
Когда при произнесении этого слова без свидетелей Иван Иванович вышел из себя и пришел в такой гнев, в каком не дай Бог видывать человека,— что ж теперь, посудите, любезные читатели, что теперь, когда это убийственное слово произнесено было в собрании, в котором находилось множество дам, перед которыми Иван Иванович любил быть особенно приличным? Поступи Иван Никифорович не таким образом, скажи он птица, а не гусак, еще бы можно было поправить.
Но — все кончено!
Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд— и какой взгляд! Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича. Гости поняли этот взгляд и поспешили сами разлучить их. И этот человек, образец кротости, который ни одну нищую не пропускал, чтоб не расспросить ее, выбежал в ужасном бешенстве. Такие сильные бури производят страсти!
Целый месяц ничего не было слышно об Иване Ивановиче. Он заперся в своем доме. Заветный сундук был отперт, из сундука были вынуты — что же? карбованцы! старые, дедовские карбованцы! И эти карбованцы перешли в запачканные руки чернильных дельцов. Дело было перенесено в палату. И когда получил Иван Иванович радостное известие, что завтра решится оно, тогда только выглянул на свет и решился выйти из дому. Увы! с того времени палата извещала ежедневно, что дело кончится завтра, в продолжение десяти лет!
Назад тому лет пять я проезжал чрез город Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень с своею грустно-сырою погодою, грязью и туманом. Какая-то ненатуральная зелень — творение скучных, беспрерывных дождей — покрывала жидкою сетью поля и нивы, к которым она так пристала, как шалости старику, розы — старухе. На меня тогда сильное влияние производила погода: я скучал, когда она была скучна. Но, несмотря на то, когда я стал подъезжать к Миргороду, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! я двенадцать лет не видал Миргорода. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека, два единственные друга. А сколько вымерло знаменитых людей! Судья Демьян Демьянович уже тогда был покойником; Иван Иванович, что с кривым глазом, тоже приказал долго жить. Я въехал в главную улицу; везде стояли шесты с привязанным вверху пуком соломы: производилась какая-то новая планировка! Несколько изб было снесено. Остатки заборов и плетней торчали уныло.
День был тогда праздничный; я приказал рогоженную кибитку свою остановить перед церковью и вошел так тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было. Церковь была пуста. Народу почти никого. Видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свечи при пасмурном, лучше сказать — больном дне, как-то были странно неприятны; темные притворы были печальны; продолговатые окна с круглыми стеклами обливались дождливыми слезами. Я отошел в притвор и оборотился к одному почтенному старику с поседевшими волосами:
— Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович?
В это время лампада вспыхнула живее пред иконою, и свет прямо ударился в лицо моего соседа. Как же я удивился, когда, рассматривая, увидел черты знакомые! Это был сам Иван Никифорович! Но как изменился!
— Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели!
— Да, постарел. Я сегодня из Полтавы, — отвечал Иван Никифорович.
— Что вы говорите! вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду?
— Что ж делать! тяжба...
При этом я невольно вздохнул. Иван Никифорович заметил этот вздох и сказал:
— Не беспокойтесь, я имею верное известие, что дело решится на следующей неделе, и в мою пользу.
Я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь об Иване Ивановиче.
— Иван Иванович здесь,— сказал мне кто-то,— он на крылосе.
Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли Иван Иванович? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно белые; но бекеша была все та же. После первых приветствий Иван Иванович, обратившись ко мне с веселою улыбкою, которая так всегда шла к его воронкообразному лицу, сказал:
— Уведомить ли вас о приятной новости?
— О какой новости? — спросил я.
— Завтра непременно решится мое дело. Палата сказала наверное.
Я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься, потому что я ехал по весьма важному делу, и сел в кибитку. Тощие лошади, известные в Миргороде под именем курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Дождь лил ливмя на жида, сидевшего на козлах и накрывшегося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. — Скучно на этом свете, господа!
Малороссийские слова,
встречающиеся в первом и втором томах
 инструмент, род гитары.
инструмент, род гитары.
род плоского бочонка.
кнут.
растенье.
место, засеянное арбузами и дынями, веред, бочар.
круглый крендель, баранок.
чертополох.
свекла.
небольшой белый хлеб.
вареная водка с пряностями и плодами, кукольный театр.
ужин, ужинать.
откидная шапка из сукна, пришитая, к кобе няку.
винокурня.
воин.
трудные па.
движимость, имущество.
клёцки.
род бумажника, где хранится огниво, кре мень, трут, табак, иногда и деньги, делать плотину.
сочельник.
бедняк, бобыль.
танцы.
гречневый хлеб.
гусь-самец.
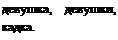 |
ей-Богу (польское),
| Добродию, | сударь, милостивец. |
| Довбиш, | литаврщик. |
| Домовина, | гроб. |
| Дрибушки, | мелкие косы. |
| Дуля, | шиш. |
| Дукат, | червонец. |
| Жинка, | жена. |
| Жупан, | род кафтана. |
| Завзятый, | задорный. |
| Заводы, | залив. |
| Загадаться, | задуматься. |
| Замурованный, | заделанный камнем. |
| Знахор, -ка, | колдун, ворожея. |
| Исподница, | юбка. |
| Кавун, | арбуз. |
| Каганец, | светильник, состоящий из черепка, наполненного салом. |
| Казан, | котел. |
| Канупер, | трава. |
| Канчук, | нагайка. |
| Карбованец, | целковый. |
| Кацап, | русский мужик с бородой. |
| Качка, | утка. |
| Клепки, | выпуклые дощечки, из которых составляется бочка. |
| Книш, | род печеного белого хлеба. |
| Кнур, | боров. |
| Кобеняк, | род суконного плаща с пришитою сзади вид- логою. |
| Кожух, | тулуп. |
| Комдра, | амбар. |
| Кораблик, | старинный головной убор. |
| Корж, | сухая лепешка из пшеничной муки, часто с салом. |
| Коровай, | свадебный хлеб. |
| Кдрчик, | род деревянного ковша, которым пересыпают хлеб, совок. |
| Коханка, | возлюбленная. |
| Кунтуш, | верхнее старинное платье. |
| Курень, | соломенный шалаш. |
| Курень | у запорожцев, отделение военного стана запорожцев. |
| Кухоль, | кружка. |
| Кухва, | род кадки. |
| Левада, | поле, окопанное рвом. |
| Лихо, лйшечко, | беда. |
| Лысый дидъко, | домовой, демон. |
| Люлька, | трубка. |
| Мазница, | род ведра, в котором держат деготь в дороге. |
| Макитра, | горшок, в котором трут мак и прочее. |
| Макогон, | пест для растирания. |
| Малахай, | плеть. |
| Миска, | чашка для похлебки. |
| Мнйшки, | кушанье из муки с творогом. |
| Молодица, Нагйдка, | молодая замужняя женщина. |
| нагйдочка, | ноготок, растение. |
| Наймыт, | нанятой работник. |
| Наймычка, | нанятая работница. |
| Намйтка, | белое женское покрывало из редкого полотна с откидными концами. |
| Нечуй-ветер, | трава, которую дают свиньям для жиру. |
| Оселедец, | длинный клок волос на голове, заматывающийся за ухо; в собственном смысле — сельдь. |
| Охочекомонный, | вольные кавалерийские войска. |
| Очерет, | тростник. |
| Очйпок, | род женской шапочки. |
| Очкур, | шнурок, которым стягиваются шаровары. |
| Палянйца, | небольшой хлеб, несколько плоский. |
| Пампушки, | вареное кушанье из теста. |
| Пасичник, | пчеловод. |
| Парубок, | парень. |
| Пейсики, | жидовские локоны. |
| Пекло, | ад. |
| Перепелйчка, | молодая перепелка. |
| Перекупка, | торговка. |
 испуг; выливать переполох — лечить от испуга.
испуг; выливать переполох — лечить от испуга.
дикий цикорий.
двадцать пять копеек.
пищалка, свисток.
нижняя одежда женщин из шерстяной клетчатой материи, уезд, уездный, сарай.
заседатель уездного суда.
тяжебное прошение.
мякина.
старинная шелковая материя.
место под образами.
поздороваться.
польское бранное слово.
кушанье, род каши.
совет.
растолстеть.
казак, записанный на службу.
утиральник.
ополчение.
место, где откармливают скотину, толокно.
род полукафтанья.
перекладина под потолком, узкие ленты, большой сундук, пышки.
наливка из слив.
гусиный жир.
мерлушки.
боль в животе.
дудка, свирель.
ленты.
кулак.
одежда женщин из сукна.
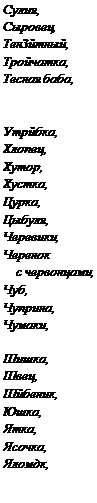 большая бутыль.
большая бутыль.
хлебный квас.
слабосильный, нежный.
тройная плеть.
игра, в которую играют школьники в классе: жмутся на скамье, покамест одна половина не вытеснит другую.
кушанье из внутренностей.
мальчик.
небольшая деревушка.
платок.
девушка, дочь (польское).
лук.
башмаки.
пояс, в который насыпали червонцы, длинный клок волос на голове.
обозники, едущие в Крым за солью и на Дон за рыбою.
небольшой хлеб, делаемый на свадьбах, сапожник.
висельник.
суп, жижа.
род палатки или шатра.
светик мой.
жидовская шапочка.
Комментарии
Том I
...И по ту, и по эту сторону Диканьки
До настоящего времени книга повестей Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832) не утратила той свежести, какую почувствовали в ней ее первые читатели. Сам Гоголь в 1831 году, посылая матери экземпляр книги, писал: «Она понравилась здесь всем, начиная от Государыни...». А. С. Пушкин сообщал тогда же А. Ф. Воейкову: «Сейчас прочел “Вечера близ Диканьки”. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность!»
«Старайтесь лучше видеть во мне христианина и человека, чем литератора», — писал Гоголь. Это пожелание автора отнюдь не случайная обмолвка. С самого первого художественного цикла Гоголь вступает в литературу не только как веселый, оригинальный рассказчик, но и как глубокий, связанный с православной отечественной традицией мыслитель. В 1831 году мать Гоголя, Мария Ивановна, получив от сына первую часть «Вечеров...», писала близкой родственнице О. Д. Трощинской: «Николай мой все стремится быть полезным для родного края, и я несколько понимаю его цель; в сей книге он коснулся ее...» Позднее, в 1847 году, поэт и критик Ап. Григорьев, говоря о лиризме «Вечеров...» в связи с позднейшим творчеством писателя, проницательно заметил: «...в то же самое время и здесь... выступает ярко особенное свойство таланта нашего поэта — свойство очертить всю пошлость пошлого человека и выставить на вид все мелочи, так что они у него ярко бросаются в глаза... Ни один писатель... не одарен таким полным, гармоническим сочувствием с природою... и... ни один писатель не обдает вашей души такою тяжелою грустью, как Гоголь, когда он... обливается... негодованием над утраченным образом Божиим в человеке...»
Не только собственно «реалистическая», бытовая сторона повестей «Вечеров...», но даже и сама их «фантастика», при всей кажущейся произвольности, подчинена у Гоголя глубокому внутреннему смыслу. По словам протопресвитера Василия Зеньков- ского (в одной из его ранних работ), «Гоголь гораздо более, чем Достоевский, ощущал своеобразную полуреальность фантастики, близость чистой фантастики к скрытой сущности вещей. Уже в “Вечерах на хуторе близ Диканьки” это чувствуется очень сильно...». Добавим, что ранние повести Гоголя помогают, в частности, понять и то, почему писатель так и не связал себя, по обыкновению, семейными узами, но оставался до конца своих дней «монахом в миру».
Сорочинская ярмарка
«Сорочинская ярмарка» — первая (в композиции) повесть цикла, в которой вполне раскрылся талант Гоголя не только как занимательного рассказчика, но и как верного бытописателя. Материал для создания повести Гоголь черпал из своих детских и юношеских воспоминаний. Четыре раза в год ярмарки проводились в Васильевке — родовом имении Гоголей, при этом скотная, по словам самого писателя, была крупнейшей в губернии.
Неудивительно, что за шуточным повествованием встают в «Сорочинской ярмарке» темы весьма серьезные — почерпнутые из самой жизни. Подчеркнем чрезвычайно существенный для всей повести «морально-экономический» подтекст, осмысление которого мы находим и в зрелом творчестве писателя. Так, весь итог ярмарки в отношении к главному герою, Солопию Черевику, заключается, как изображает Гоголь, в том, что на деньги, вырученные от продажи пшеницы, его «сожительница» Хивря бежит закупать себе всяких «плахт и дерюг». Соответственно этому строится и зачин «Сорочинской ярмарки», где вслед за ремесленником-гончаром, везущим на ярмарку ярко расписанные миски и горшки, — привлекающие, как сказано в черновой редакции повести, «завистливые взгляды поклонников роскоши», — появляется тут же воз Солопия Черевика с мешками пшеницы и с сидящей на возу щеголихой Хиврей.
Созвучен трате Хиврей денег на щегольские наряды и другой «итог» ярмарки — женитьба казака Грицька на Параске — брак, как показывает писатель, чреватый воцарением новой щеголихи. Изображаемое в повести всеобщее веселье по поводу состоявшейся свадьбы вызывает у самого автора скорее грустные, чем веселые чувства: «И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему!»
«Громкое хлопанье по рукам и распиванье магарыча... дадут знать вам, что сделка или покупка совершены», — как бы подсказывает рассказчик в черновой редакции повести мысль о том, что заключение брака между его героями отнюдь не принадлежит к сфере «возвышенной» жизни, но, напротив, относится к весьма обыденной и «низменной» ее области — столь же «низменной», как и заключение прозаической торговой сделки: «Что? по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай магарычу!»
«Мачеха, — рассуждает далее в повести хорошенькая Параска, — делает все, что ей ни вздумается; [разве и я не женщина] разве и я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямства-то и у меня достанет». «...Дай примерить очипок, хоть мачехин, как-то он мне придется!» — спешит она — еще до замужества — освоиться на «царстве». Нетерпение Параски Гоголь подчеркивает, имея в виду прямо противоположное поведение невесты в традиционном украинском свадебном обряде, описание которого он внес в 1829 году в свою «Книгу всякой всячины, или подручную Энциклопедию»: «...женщины... с пеньем расплетают ей косу и подают очипок, который она бросает, и за третьим уже разом надевают ей на голову и выпроваживают ее к мужу».
Роднит юную Параску с мачехой и страсть к нарядам и украшениям. «Так и дергала» ее, — замечает рассказчик в черновой редакции повести, — «непонятная сила под ятки к крамаркам, где развешены были самые яркие ленты, перстни, серьги, монисты». Очевидно, вполне применим к юной Параске — по сокрытым, но уже начинающим проявляться в ней задаткам — и эпиграф из «Энеиды» И. П. Котля- ревского к четвертой главе «Сорочинской ярмарки» (относящийся здесь к Хивре) — в котором объясняется, за что женщины терпят муки в аду:
...За то, что были верховодки,
Мудрили, ладили свое.
Хоть муженьку и неохота,
Да жёнке, вишь, приспичит что-то...
Ну как не ублажить ее?
Объединяющим же оба женских образа щеголих «Сорочинской ярмарки» — «ведьмы» Хиври и юной Параски — является в повести изображение роскошной — и «своенравной» — «реки- красавицы» (над которой задумывается, проезжая мост, «славная дивчина» Параска) — что «с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризам ее конца нет...»
С другой стороны, как дает понять рассказчик, и Параске не очень-то повезло с ее женихом — таким же, как она, щеголем, да к тому же изрядным любителем «пенной». «Достоинства» в этом отношении будущего супруга Параски хорошо поясняет эпиграф к третьей главе «Сорочинской ярмарки» — тоже взятый Гоголем из «Энеиды» Котляревского: «Сивуху так, как брагу, хлище», — «на св1ти трохи <мало> есть таких». Обращаясь к Параске, ее отец простодушно восклицает: «Какого я жениха тебе достал! Смотри, смотри, как он молодецки тянет пенную!..» Очевидно, Параске предстоит испытать с таким «суженым» много горя. «Не знаю, люблю ли я тебя, — говорит своему жениху героиня незавершенной повести Гоголя «Страшный кабан» (1831), — знаю только, что ни за что бы на свете не вышла за пьяницу. Кому любо жить с ним? Несчастная доля семье той, где выберется такой человек; в хату и не заглядывай: нищенство да голь; голодные дети плачут...»
Одним из основополагающих мотивов «Вечеров на хуторе близ Диканьки» является тема отпадения человека от данного ему Божественного откровения — тема преступления христианских заповедей ради пустых — продиктованных тщеславием и гордостью — светских приличий, или же нарушение заповедей ради плотских, греховных удовольствий. Непосредственным проявлением этой темы можно назвать часто изображаемое Гоголем в его «сказках» несоблюдение героями церковных постов. На эту черту героев Гоголь указывает почти во всех повестях цикла — в «Вечере накануне Ивана Купала», «Пропавшей грамоте», «Ночи перед Рождеством», «Иване Федоровиче Шпоньке»... Особым образом этот мотив преломляется в «Майской ночи», в «Страшной мести».
Соответствующее упоминание о посте есть и в «Сорочинской ярмарке». Слова автора о том, что действие его рассказа начинается в «один из дней жаркого августа», и диалог героев о только что прошедшем посте, указывают здесь на Успенский пост (продолжающийся с 1 по 14 августа ст. ст.). Как и в других повестях, главной здесь является мысль о его преступном нарушении. «...Батюшка всего получил за весь пост мешков пятнадцать ярового, проса мешка четыре... — сообщает “любезнейшей” Хавронье Никифоровне пришедший к ней в гости попович. — Но единственно сладостные приношения... единственно от вас предстоит получить, Хавронья Никифоровна!» Замечателен сам этот весьма легкий — как бы вполне «естественный» для героя — переход от разговора о приношениях прихожан священнику во время поста — к предвкушению «сладостных приношений» Хиври. Сама возможность сравнения доброхотных пожертвований мирян на поддержание в селе атмосферы набожности и благочестия (средоточие которых и являет в миру духовное лицо) — с греховными удовольствиями показывает, что смысл поста, заключающийся в сугубом воздержании от греха, совершенно утрачен для «поповича» Афанасия Ивановича (пост для которого — всего лишь время «приношений»). В библейской истории, которую, вероятно, имел в виду Гоголь, создавая образ своего «поповича» (сына священника), находится прямое соответствие этому эпизоду повести. Это рассказ о «погибельных сыновьях» священника Илия в Первой Книге Царств, которые, презирая «долг священников в отношении к народу», развращали народ, отнимая приносимое в жертву Богу, — «что вынет вилка, то брал себе... и говорил приносившему жертву: дай мяса на жаркое священнику», — и спали с «женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания» (гл. 2, ст. 12—17, 22).
Важен для понимания замысла повести эпиграф к ее кульминационной восьмой главе, как бы прообразующий настигающее героев за грехи возмездие:
...Пиджав хвист, мов собака,
Мов Каин, затрусывсъ увесь;
Из носа потекла табака.
Котляревский. Энеида.
(Поджав хвост, как собака, как Каин, затрясся весь, из носа потек табак; укр.)
Так в «Энеиде» Котляревского описывается состояние главного героя, Энея, когда тот, забыв о своем назначении и погрузившись в разгульное пьянство, получает от Зевеса порядочный нагоняй. По своему содержанию («Ужас оковал всех находившихся в хате») эта глава «Сорочинской ярмарки» представляет собой как бы будущую немую сцену комедии Гоголя «Ревизор», в которой, по замыслу автора, Сам Бог наказывает обремененных грехами чиновников, попуская им испытать при известии о грядущей ревизии разные «степени боязни и страха» — «вследствие великости наделанных каждым грехов».