Этот очерк — попытка наблюдения и анализа, за исключением ясно оговоренных утверждений,—не является выражением личного кредо автора, его предпочтений и оценок. Об этом приходится говорить с самого начала не только для того, чтобы отграничить наш очерк от других, которые представляют собой скорее апологии или же призывы работать в тех областях истории, где работают их авторы (в настоящее время социальная история не нуждается ни в защите, ни в призывах), но и для того, чтобы избежать двух недоразумений. С последними особенно часто сталкиваешься в дискуссиях остроидеологического содержания. Таковы все дискуссии по социальной истории.
Первое недоразумение — это тенденция читателей отождествить взгляды автора с теми, о которых он пишет. Здесь иногда не помогают даже совершенно недвусмысленные протесты с его стороны. Второе недоразумение — это тенденция смешивать идеологические или политические мотивы исследования, способы его использования с его научной ценностью. Когда идеологические установки или побуждения автора приводят к тривиальностям или ошибкам, как это часто бывает в общественных науках, мы можем с легким сердцем осудить мотивацию автора, его методы и результаты. Однако жизнь была бы значительно проще, если бы наше понимание исторических событий развивалось только благодаря работам тех историков, со взглядами которых по всем общественным и даже личным вопросам мы либо согласны, либо же им симпатизируем. Социальная история сегодня в моде. Никто из тех, кто занимается ею, не очень бы желал, чтобы его идеологические установки были отождествлены с установками других историков, работающих в том же самом направлении. И все-таки сегодня не так важно точное определение своих собственных позиций, как решение вопро-[289]cа о том, каково место социальной истории после ее плодотворного, хотя и несистематического, периода двадцатилетнего развития и каковы ее будущие перспективы.
I
Термин «социальная история» всегда был трудно определим. До недавнего времени к этому особенно и не стремились, так как на точных разграничениях настаивали в основном в силу ведомственных и профессиональных интересов, которые, однако, не выражались в достаточно четкой форме. Вообще говоря, до современной моды на эту дисциплину (или по крайней мере на ее название) термин «социальная история» использовался в трех, иногда перекрывающихся смыслах.
Во-первых, им обозначали историю низших классов, точнее говоря — историю движений бедноты («социальные движения»). Термин мог бы быть еще более конкретизирован, если его отнести к истории профсоюзных и социалистических идей и организаций. Целый ряд историков был привлечен в эту область исторической науки[1].
Во-вторых, этот термин использовался для обозначения исторических работ по самым разнообразным вопросам человеческой деятельности. Последние было бы трудно определить, не обращаясь к таким понятиям, как «манеры, обычаи, повседневная жизнь».
Таково понимание социальной истории англосаксами, для которого по каким-то, может быть, лингвистическим причинам в английском языке отсутствуют подходящие термины для соответствующего обозначения; немцы, пишущие по тем же самым вопросам, весьма поверхностно и по-журналистски назвали бы его Кultur-Sittengeshichte (нем.: «история культуры», «история нравов»). Этот тип социальной истории не был всецело ориентирован на низшие классы. Скорее дело обстояло иначе, хотя политические радикалы в этой области и обращали на них большое внимание. Такой смысл термина создавал не явно выраженную основу тому, что может быть названо «остаточным» подходом к социальной истории. Последний был на-[290]иболее рельефно определен Дж. М. Тревельяном в его работе «Английская социальная история» (Лондон, 1944). Для него—это «история, из которой исключена политика». Данное определение не нуждается в комментариях.
Третье значение этого термина, безусловно, является наиболее распространенным. Оно особо важно для наших целей. Термин «социальная» используется в этом случае в совокупности с термином «экономическая история». И действительно, до второй мировой войны, вне англосаксонского мира названия самых важных специальных журналов в этой области всегда объединяли оба эти термина, как, например: Vierteljahrschrift für Sozial-u. Wirtschaftgeschichte, Revue d'Histoire E. and S, Annales d'Histoire E. And S. Необходимо признать, однако, что экономическая половина в такой комбинации терминов явно доминировала. Едва ли существовала социальная история, которую можно было бы сопоставить по объему с многочисленными томами, посвященными экономической истории различных стран, периодов и отраслей. Действительно же экономических и социальных историй было мало. До 1939 года мы можем назвать только несколько работ этого типа, хотя и написанных маститыми авторами (Пиренн, М. Ростовцев, Дж. Томпсон, может быть, Допш)*. Монографических исследований и журналов по этим вопросам было еще меньше. Тем не менее весьма примечательно ставшее привычным объединение в один термин понятий экономического и социального как при определениях общего предмета исторической специализации, так и в более специализированных рамках экономической истории.
Здесь обнаруживалось стремление к такому подходу к истории, которое бы принципиально отличалось от подхода Ранке. Историков этого типа интересовало развитие экономики, так как оно проливало свет на структуру и изменения в обществе, более конкретно — на отношения между классами и социальными группами, как это отметил Джордж Анвин**[2]. Этот социальный параметр прослеживается даже в работах наиболее осторожных историков-экономистов, коль скоро они притязают на то, чтобы быть историками. Даже Клэпхэм*** доказывал, что экономическая история является самой фунда-[291] 



 ментальной из всех разновидностей истории, так как ней рассматривается основа общества[3]. Преобладание экономического над социальным в этой комбинации, по нашему мнению, объяснялось двумя причинами. Частично оно было связано с определенными положениями самой экономической теории, которая, как, например, в марксизме или же в немецкой исторической школе, отказывалась изолировать экономику от социальных, институциональных и других элементов общества. Частично — с тем, что политическая экономия в своем развитии опережала другие общественные науки. Если история намеревалась органически включиться в другие общественные науки, то ей прежде всего надлежало установить взаимопонимание с политической экономией. Можно было бы пойти и дальше, доказывая вместе с Марксом, что при всей неразделимости экономического и социального аналитической основой исторического исследования эволюции человеческих обществ должен быть процесс общественного производства.
ментальной из всех разновидностей истории, так как ней рассматривается основа общества[3]. Преобладание экономического над социальным в этой комбинации, по нашему мнению, объяснялось двумя причинами. Частично оно было связано с определенными положениями самой экономической теории, которая, как, например, в марксизме или же в немецкой исторической школе, отказывалась изолировать экономику от социальных, институциональных и других элементов общества. Частично — с тем, что политическая экономия в своем развитии опережала другие общественные науки. Если история намеревалась органически включиться в другие общественные науки, то ей прежде всего надлежало установить взаимопонимание с политической экономией. Можно было бы пойти и дальше, доказывая вместе с Марксом, что при всей неразделимости экономического и социального аналитической основой исторического исследования эволюции человеческих обществ должен быть процесс общественного производства.
Ни одна из этих трех версий социальной истории не сложилась в специализированную академическую дисциплину до 50-х годов нашего века, хотя и было время, когда знаменитые «Анналы» Марка Блока и Люсьена Февра отказались от экономической части своего названия. Однако это было временным эпизодом военных лет и название, под которым этот журнал известен уже в течение четверти столетия, а именно как Annales: economies, societétes, civilisations (Анналы: экономики, общества, цивилизации.— Ю. А.), равно как и его содержание, отражают глобальные и всеохватывающие установки его основателей. Ни сама социальная история, ни характер рассмотрения ее проблем не развивались серьезно до 1950 года. Специальные журналы, все еще очень немногочисленные, появились лишь в конце 50-х годов. В качестве первого журнала в этой области (1958 г.) мы можем назвать «Comparative studies in Society and History».Таким образом, социальная история как специализированная академическая дисциплина совсем нова.
Чем же объясняется столь быстрое развитие и все возрастающая самостоятельность социальной истории за [292] последние двадцать лет? На этот вопрос можно ответить, только приняв во внимание методические и организационные изменения в общественных науках, а именно планомерно осуществляемую специализацию экономической истории, отвечающую требованиям быстро развивающейся экономической теории и анализа. Хорошим примером этой специализации является «новая экономическая история». Замечательное и всеохватывающее развитие социологии как самостоятельной области знания и как моды в свою очередь потребовало создания вспомогательных исторических дисциплин. Здесь дело обстояло так же, как и с развитием экономической теории. И мы не можем пренебрегать всеми этими факторами. Многие историки, ранее называвшие себя экономическими, не нашли себе места в быстро сужающихся рамках экономической истории. Они-то и приветствовали звание «социальных историков». В атмосфере 50-х и 60-х годов такой исследователь, например, как Р. Тони*, едва ли был бы принят в число экономических историков, будь он молодым историком, а не президентом Общества экономической истории. Однако подобные академические переименования и профессиональные перемещения вряд ли могут объяснить многое, хотя их и не следует упускать из виду.
Значительно более важна общая историзация общественных наук, которая ретроспективно представляется наиболее существенным явлением. Здесь нет необходимости подробно объяснять причины этих перемен в общественных науках, достаточно только указать на огромное значение революций и борьбы за политическое и экономическое освобождение колониальных и полуколониальных стран, которые привлекли внимание правительственных, международных и исследовательских организаций, а следовательно, и специалистов по общественным наукам к тому, что, в сущности, является проблемами исторического преобразования[4]. Все эти проблемы до настоящего 
 времени были вне или в лучшем случае на периферии внимания академической ортодоксии в общественных науках и неизменно пренебрегались историками.
времени были вне или в лучшем случае на периферии внимания академической ортодоксии в общественных науках и неизменно пренебрегались историками.
Как бы то ни было, исторические по своему существу проблемы и понятия (иногда это лишь сырые полуфабрикаты: «модернизация» или «экономический рост») проникли в дисциплины ранее весьма невосприимчивые к истории, если не прямо враждебные ей, как, например в случае социальной антропологии Редклифа-Брауна. Прогрессирующее проникновение истории в общественные науки особенно наглядно на примере экономической науки. Здесь в так называемой «экономике роста» предписания (хотя и достаточно утонченные, но все же напоминающие рецепты из поварской книги) претерпели существенное изменение благодаря растущему пониманию того, что экономическое развитие определяют и внеэкономические факторы. Короче, ученый-обществовед, пренебрегающий понятиями социальных структур и их трансформацией, игнорирующий историю обществ, может получить только самые тривиальные результаты в своих исследованиях. Забавный парадокс сегодня заключается в том, что экономисты начинают нащупывать некоторые пути к пониманию социального (или же по крайней мере не чисто экономического). В то же время историки-экономисты, осваивая экономические модели пятнадцатилетней давности, настолько озабочены тем, чтобы их построения выглядели как можно более жесткими, что забывают обо всем, кроме уравнений и статистики.
Какой вывод можно сделать из этого краткого обзора возникновения и развития социальной истории? Едва ли этот обзор может служить хорошим введением в ее предмет и рассматриваемую ею проблематику. Но он может объяснить, почему некоторые более или менее разнородные предметы объединились в дисциплину с общим на-[294]званием и каким образом развитие других общественных наук подготовило почву для создания академической теории, названной этим термином. В лучшем случае в нем содержатся некоторые намеки, на одном из которых нам хотелось бы остановиться.
Обзор социальной истории в прошлом, по-видимому, показывает, что ее наиболее крупные и известные представители всегда испытывали определенное неудобство при использовании этого термина. Они или по примеру великих французов, которым мы стольким обязаны, предпочитали называть себя просто историками, а свою задачу — «тотальной» или «глобальной» историей, или же но примеру некоторых других исследователей пытались включить в состав истории все завоевания социальных наук, не уповая в отдельности на какую-либо из них. Марк Блок, Фернан Бродель, Жорж Лефевр — все это имена, которые нелегко включить в рубрику социальных историков. Они являются таковыми лишь постольку, поскольку все они принимают утверждение Фюстель де Куланжа: «История — это не совокупность фактов, случившихся в прошлом. Это наука о человеческих обществах».
Социальная история никогда не сможет стать специализированной дисциплиной, как, например, экономическая или любая иная история, так как ее предмет невозможно изолировать. Некоторые виды человеческой деятельности можно определить как экономические, по крайней мере с целью их анализа, и подвергнуть их историческому исследованию. Хотя это выделение экономического (если только при этом не преследуются строго определенные цели) может быть и искусственным, оно не бесполезно. Точно так же, как небесполезна история идей старого типа, в которой цели, зафиксированные в письменной форме, изолированы от их человеческого контекста, и их филиация прослеживается от одного автора к другому. Но социальные или же социетальные аспекты человеческого бытия не могут быть отделены от других его аспектов. Такая дифференциация может основываться лишь на тавтологии или же на чрезмерных упрощениях проблемы. Их нельзя даже на мгновение отделить от способов, с помощью которых человек получает средства к существованию из своего материального окружения. Точно так же эти аспекты нельзя отделить и от его идей, ибо отношения людей друг с другом выражаются [295] и формулируются в языке, который органически связан с понятиями. Этот перечень взаимосвязей можно было бы продолжить. Историк идей может и не обращать внимания на экономику, а историк экономики — на Шекспира. Но социальный историк, который выпустил бы из поля своего зрения то или иное, продвинулся бы не слишком далеко. И хотя в высшей степени невероятно, чтобы монография по провансальской поэзии оказалась экономической историей, а исследование по инфляции в шестнадцатом веке — интеллектуальной историей, оба эти явления могут рассматриваться таким образом, что они войдут в социальную историю.
II
Рассмотрим теперь проблемы создания истории общества. Первый вопрос, с которым сталкивается социетальный историк, состоит в том, чем он может воспользоваться в других общественных науках и в какой мере они остаются науками об обществе, когда они обращаются к прошлому? Это резонный вопрос, и опыт двух последних десятилетий показывает, что на него можно дать два ответа. С одной стороны, совершенно очевидно, что с 1950 года социальная история формировалась не только под влиянием профессиональных структур других общественных наук (например, специфических требований к университетским курсам для студентов, изучающих эти дисциплины) и их методов и методик, но также и под влиянием их проблематики. Едва ли будет преувеличением сказать, что недавний расцвет исследований по промышленной революции в Великобритании (вопрос, которым эксперты по экономической истории пренебрегали, сомневаясь в правильности самого термина «промышленная революция») объясняется прежде всего стимулирующими требованиями экономистов ответить на вопросы, как происходят индустриальные революции, что к ним приводит в каковы их социально-политические последствия. За некоторыми выдающимися исключениями этот поток стимулирующего влияния за прошедшие двадцать лет был однонаправленным. С другой стороны, посмотрев на недавнее развитие общественных наук под иным углом зрения, мы будем поражены очевидным сближением представите-[296]лей различных дисциплин в направлении социоисторической проблематики. Примером здесь может служить исследование долговременных процессов. Среди авторов, пишущих по данной проблематике, мы встречаем иантропологов, и социологов, и историков, и представителей политических наук, не говоря уже об исследователях литератур и религий. Хотя, насколько я знаю, экономисты еще не встречаются. Можно также отметить случаи, когда исследователи с неисторической профессиональной подготовкой, по крайней мере временно, занимаются работой, которую историки назвали бы исторической. Примером могут служить социологи Ч. Тилли и Н. Смелсер, антрополог Э. Вольф, специалисты по политической экономии Э. Хаген и Дж. Хикс*.
Не следует забывать, что если обществоведы (неисторики) начинают задавать собственно исторические вопросы и обращаются к историкам за ответами, то это происходит потому, что у них самих этих ответов нет. И если они иногда сами превращаются в историков, то только потому, что историки, работающие в данной области, не дают им нужных ответов. Заметное исключение в этом отношении представляют марксисты [5].
Кроме того, хотя в настоящее время и есть некоторые представители других общественных наук, обнаруживающие достаточную компетентность в нашей области, все же больше оказывается таких, которые ограничиваются использованием нескольких плохо усвоенных механических моделей и понятий. Я уже не говорю о достаточно большом числе других ученых-обществоведов, отваживающихся на рискованные экскурсы в области исторических источников без достаточного знания опасностей, которые [298] 
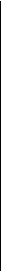


 их здесь подстерегают, или же средств преодоления и избежания этих опасностей. Одним словом, ситуация в настоящее время такова, что историки, при всей их готовности учиться у других наук, скорее, должны учиться сами. Нельзя создать историю общества, используя фрагментарные модели других наук. Она требует адекватных новых моделей или по крайней мере разработки существующих набросков к ним.
их здесь подстерегают, или же средств преодоления и избежания этих опасностей. Одним словом, ситуация в настоящее время такова, что историки, при всей их готовности учиться у других наук, скорее, должны учиться сами. Нельзя создать историю общества, используя фрагментарные модели других наук. Она требует адекватных новых моделей или по крайней мере разработки существующих набросков к ним.
Все это, конечно, не относится к вопросу о методиках и методах. Здесь историки не только в значительной степени должники, но и продолжают одалживать им необходимое. Я не намереваюсь рассматривать данный аспект проблемы истории общества, но одно или два замечания в этой связи можно было бы сделать. Учитывая характер наших источников, мы вряд ли можем ожидать большого прогресса в методологии исторических исследований без методик выявления, статистической группировки и обработки большого количества данных. Мы должны чаще прибегать к разделению труда в исследовании и техническим средствам, разработанным другими общественными науками. Вне всего этого история останется комбинацией гипотез и случайных фактических иллюстраций к ним.
В равной мере мы нуждаемся и в методиках наблюдения и глубинного анализа отдельных индивидов, небольших групп и ситуаций. Все эти методики были разработаны вне истории и могут быть применены для наших целей. Например, включенное наблюдение социальной антропологии, глубинные интервью, возможно даже некоторые психоаналитические методы. Во всяком случае, все они могут стимулировать поиск их эквивалентов и видоизменений для нашей области. Это может помочь найти ответы на вопросы, которые до сих пор были неразрешимы[6].
Я очень сомневаюсь в реальности перспективы превращения социальной истории в спроектированную в прош-[298]лое социологию, равно как и экономической истории в ретроспективную экономическую теорию. Эти науки в настоящее время не дают нам полезных моделей или же общих аналитических схем для изучения длительных по времени исторических социально-экономических трансформаций. За исключением такой школы, как марксизм, можно сказать, что основная масса соображений в них была направлена не на исследование этих изменений. Они даже не интересовались ими. Кроме того, можно было бы доказать, что аналитические модели в этих науках были получены в их систематической и наиболее убедительной форме именно с помощью абстракции от исторического изменения. Я бы сказал, что это особенно верно применительно к социологии и социальной антропологии.
Основоположники социологии мыслили более исторически по сравнению с главной школой неоклассической экономической теории*. Но социология — менее развитая наука. Стенли Хоффман совершенно справедливо указал на различие между «моделями» экономистов и «опросными листами» социологов и социальных антропологов[7]. Эти науки также дают определенное видение схемы возможных структур, образованных из элементов, которые можно скомбинировать разными способами, несколько напоминающими кольцо Кекуле. Однако их недостатком является их неверифицируемость. В лучшем случае такие структурно-функциональные схемы могут быть эвристически полезными, по крайней мере для некоторых исследователей. При более скромной их оценке мы можем сказать, что они снабжают нас хорошими метафорами, понятиями или же терминами (такими, как «роль»), представляя удобные средства для упорядочивания собранного материала.
Кроме того, можно было бы показать, что теоретические конструкции социологии (или же социальной антропологии) оказывались наиболее плодотворными тогда, когда они исключали историю как направленное или же ориентированное изменение[8]. В целом же структурно-[299] 







 функциональные схемы выявляют то общее, что характерно для различных обществ, в то время как наша проблема заключается в выявлении специфических различий. Вопрос совсем не в том, какой свет могут пролить племена Амазонки, изученные Леви-Строссом, на современное (или любое иное) общество. Действительная проблема состоит в том, как человечество перешло от первобытнообщинного строя к современному индустриальному или постиндустриальному обществу; какие изменения в обществе имели место в связи с этим движением, были необходимы для этого прогресса и явились его следствием. Или же, иначе говоря, задача состоит не в том, чтобы констатировать постоянную необходимость для всех человеческих обществ обеспечивать себя пищей, выращивая ее или же приобретая каким-либо иным способом. Важно исследовать, что происходит, когда эта функция, с периода неолитической революции в подавляющем большинстве случаев выполняемая классом крестьян, преобладающим в любом аграрном обществе, начинает выполняться небольшими группами других производителей сельскохозяйственных продуктов либо же передается неаграрному производству. Как это происходит и почему? Я не думаю, что социология и социальная антропология, сколь бы ни были они полезны, могут дать сегодня ответы на эти и все другие аналогичные вопросы.
функциональные схемы выявляют то общее, что характерно для различных обществ, в то время как наша проблема заключается в выявлении специфических различий. Вопрос совсем не в том, какой свет могут пролить племена Амазонки, изученные Леви-Строссом, на современное (или любое иное) общество. Действительная проблема состоит в том, как человечество перешло от первобытнообщинного строя к современному индустриальному или постиндустриальному обществу; какие изменения в обществе имели место в связи с этим движением, были необходимы для этого прогресса и явились его следствием. Или же, иначе говоря, задача состоит не в том, чтобы констатировать постоянную необходимость для всех человеческих обществ обеспечивать себя пищей, выращивая ее или же приобретая каким-либо иным способом. Важно исследовать, что происходит, когда эта функция, с периода неолитической революции в подавляющем большинстве случаев выполняемая классом крестьян, преобладающим в любом аграрном обществе, начинает выполняться небольшими группами других производителей сельскохозяйственных продуктов либо же передается неаграрному производству. Как это происходит и почему? Я не думаю, что социология и социальная антропология, сколь бы ни были они полезны, могут дать сегодня ответы на эти и все другие аналогичные вопросы.
С другой стороны, хотя некоторые и проявляют известный скепсис в отношении способности большинства положений современных экономических теорий служить категориальной основой для исторического анализа обществ (откуда следует необходимость новой экономической истории), я все же склонен думать, что. возможное значение экономической теории для истории очень велико. По своей природе она имеет дело с тем элементом истории, который динамичен по самому своему существу, а именно с процессом и (если использовать большие масштабы времени) прогрессом общественного производства. В той мере, в какой экономическая теория исследует эти стороны производства, она, как это ясно увидел Маркс,— историческая наука. Приведем один пример. Понятие экономического прибавочного продукта, с таким успехом возрожденное и использованное Полем Бараном, совершенно необходимо для любого историка обществен-[300]ного развития[9]. Оно представляется мне не только более объективным и квантифицируемым но и, говоря в терминах анализа, более первичным, чем дихотомия Ое-шешзсЬагк — СеееПзспаЙ (нем. общность — общество) *. Безусловно, Маркс полагал, что экономические модели, обладающие некоторой ценностью для исторического анализа, не могут быть оторваны от социальных и институциональных реальностей, включающих основные типы человеческих общностей, системы родства, не говоря уже о социальных структурах и предпосылках, специфичных для конкретных социально-экономических формаций или культур. И тем не менее, хотя Маркс с полным основанием считается одним из основоположников современной социологической мысли (прямо или косвенно, через его последователей или критиков), его основное интеллектуальное достижение—«Капитал»—является работой, посвященной экономическому анализу. Мы не требуем соглашаться ни с его выводами, ни с его методологией. Но было бы неразумным пренебрегать трудом мыслителя, который больше, чем кто бы то ни было, сформулировал и поставил исторических вопросов, разрешением которых занимаются сегодня общественные науки.
III
Как мы должны работать над историей общества? Я не могу предложить читателю определение или модель того, что мы понимаем под обществом, или же то, что мы хотим знать о его истории. Даже если бы я и мог это сделать, я не уверен, насколько все это было бы полезно. Однако представляется целесообразным предложить небольшой перечень требований к такой истории с тем, чтобы ориентировать и предостеречь будущих исследователей.
1) История общества — это история. Это значит, что одним из измерений общества является реальное хронологическое время. Мы изучаем не только структуры и механизмы их сохранения и изменения, не только общие возможности и схемы их трансформаций, но и то, что[301] имеет место в действительности. Если мы итого не делаем, то, как напомнил нам Фернан Бродель в своей статье «История и долговременность», мы не историки[10]. Гипотетическая история характерна и для нашей дисциплины, хотя ее основная ценность состоит в том, что она помогает нам осмыслить возможности не столько прошлого, сколько настоящего и будущего. Применительно к прошлому этим целям служит сравнительная история. Но наша задача состоит в объяснении действительных исторических событий. Анализ возможностей развития капитализма в императорском Китае, например, важен для нас лишь постольку, поскольку он помогает нам объяснить тот реальный факт, что данный тип экономической системы развился впервые полностью, по крайней мере в одном, и только одном, регионе мира. Это обстоятельство в свою очередь может быть не без пользы противопоставлено (опять же в свете общих моделей экономического развития) существующей тенденции других систем социальных отношений, например феодальных, развиваться в значительно большем числе регионов. Таким образом, история общества — это взаимодействие общих моделей социальной структуры и изменений конкретных, фактически совершившихся феноменов. Последнее остается правильным как для временных, так и для пространственных рамок наших исследований.
2) История общества — это, кроме того, те конкретные общности людей, различия между которыми определяются социологией. Это история человеческого общества в отличие, скажем, от сообществ (обезьян и муравьев) или определенных типов обществ и их возможных взаимоотношений. К таким типам общества применимы термины «буржуазное» или «пастушеское». История общества — это вместе с тем история общего развития человечества, рассматриваемого как единое целое. Определение общества в этом смысле поднимает целый ряд сложных вопросов, даже если мы допустим, что наше определение содержит нечто объективно реальное, что весьма вероятно. Трудности остаются, если мы не отбросим как незаконные такие, например, утверждения, как «Японское общество в 1930 году отличалось от английского общест-[302]ва»*. Но даже если мы устраним путаницу различных значений слова «общество», мы столкнемся с целым рядом проблем, потому что, во-первых, размеры, сложность и объем этих объединений изменяются на разных исторических периодах или стадиях развития, и, во-вторых, то, что мы называем обществом, есть одна из совокупностей человеческих взаимоотношений. Существуют и другие иных масштабов и степени полноты понятия, с помощью которых можно классифицировать объединения людей, причем мы часто сталкиваемся с одновременным и перекрещивающимся употреблением возможных классификаций. В таких крайних случаях, как племена папуасов и племена бассейна Амазонки, разные совокупности межчеловеческих отношений могут определять одну и ту же группу людей. Но это весьма маловероятно. Как правило, эти группы не совпадают ни с такими важными для социологии единицами, как, например, община, ни с более широкими системами отношений, из которых строятся те или иные его части и которые в функциональном отношении могут быть или существенны (например, совокупность экономических отношений), или же несущественны (отношения культуры).
Христианство и ислам существуют и признаются в качестве некоторых самоклассификаций. Но хотя они и могут определять некоторый класс обществ, имеющих общие характеристики, они не являются обществами в том смысле, в котором мы говорим о греках или о современной Швеции. С другой стороны, хотя Детройт и Куско являются сегодня частями единой системы функциональных взаимозависимостей (например, как части единой экономической системы), лишь очень немногие стали бы рассматривать их в качестве частей одного и того же общества с социологической точки зрения. Точно так же не стали бы относить к одному обществу римлян и гуннов, которые, совершенно очевидно, вступали в сложные взаимоотношения друг с другом. Как определить совокупности такого рода? На этот вопрос ответить довольно трудно, хотя большинство из нас решили бы его (или же ушли от решения), выбрав некоторый внешний критерий объединения — территориальный, этнический, политический и т. д. Но это решение не всегда удовлетворительно. Проблема группировки сталкивается не только с методологическими трудностями. Одной из главных тенден-[303]ций истории современных обществ является увеличен их масштабов, внутренней однородности (или по крайней мере централизации и ясности социальных отношений переход от существенно плюралистической к существен но унитарной структуре. В свете всего этого проблемы определения становятся очень затруднительными. И об этом знает каждый исследователь.
3) История обществ требует от нас применять если не формализованную и тщательно отработанную модель таких структур, то по крайней мере приближенную схему, устанавливающую первоочередные и второстепенные исследовательские задачи. Мы должны использовать и рабочие гипотезы по отношению к тому, что образует центральное звено или комплекс связей предмета нашего исследования. Все это, конечно, предполагает существование некоторой модели общества. Каждый социальный историк фактически пользуется такими гипотезами и устанавливает относительную важность предметов своего исследования. Так, я сомневаюсь, что исследователь Бразилии XVIII века придал бы большее значение ее католицизму, чем ее рабству. Сомнительно также, чтобы исследователь Великобритании XIX века рассматривал бы родственные связи как основные социальные связи.
По-видимому, среди историков установилось молчаливое согласие относительно принятия достаточно общих рабочих моделей такого рода с некоторыми вариантами. Начинают с материального и исторического окружения, переходят к производительным силам и методам производства (демография занимает некоторое промежуточное положение); затем исследуется структура соответствующих экономических отношений (разделение труда, обмен, накопление, распределение прибавочного продукта и т. д.); затем переходят к социальным отношениям, возникающим из экономических. Далее может следовать изучение институтов общества тех представлений об обществе и его функциях, которые лежат в основе этих институтов. Так устанавливается форма социальной структуры, определяются ее специфические характеристики и детали. Последнее, как правило, сопоставляется с ДРУГИ~ ми источниками методом сравнительного исследования. Таким образом, практика исторического исследования состоит в том, что от процесса общественного производства в его специфическом окружении мысль историка[304] движется «вверх» и «вовне». Историки всегда будут подвергаться искушению (с моей точки зрения, совершенно оправданному) выбрать один из комплексов отношений как центральный и характерный для данного общества, а весь остальной материал группировать вокруг него. Так, например, сделал Марк Блок, выбрав «отношения взаимозависимости» в своем исследовании «Феодальное общество». Таким ядром могут быть и отношения промышленного производства в любом индустриальном обществе. Что же касается капиталистической формы такого общества, то здесь анализ этих отношений в качестве ядра социальной структуры обязателен. Коль скоро установлена структура общества, оно может рассматриваться в его историческом движении. Во французском языке термин «структура» достаточно тесно связан с понятием «конъюнктура», хотя последняя и не должна представляться как единственная и наиболее существенная форма исторических изменений. И снова мы сталкиваемся с тенденцией рассматривать экономическое движение (в самом широком смысле) как основу анализа исторического изменения вообще. Напряженность, которой подвергается общество в процессе исторического изменения и трансформации, позволяет историку выявить: 1) общий механизм, с помощью которого структура общества одновременно проявляет тенденции к потере и восстановлению равновесия, 2) феномены, которые по традиции интересуют социальных историков (например, коллективное сознание, социальные движения, социальные измерения интеллектуальных и культурных изменений и т. д.).
Суммируя и обобщая то, что я называю (может быть, и ошибочно) широко распространенным рабочим планом социальных историков, я не ставлю перед собой задачи рекомендовать его другим, хотя лично высказываюсь за него. Моя цель, скорее, в обратном. Я предлагаю попытаться выявить в эксплицитной форме скрытые предпосылки наших исследований, поставить вопрос о том, является ли этот план наилучшим для определения природы и структуры общества и механизмов их исторических трансформаций (или стабилизации).
Мы должны задаться вопросом, насколько другие планы исследования совместимы с данным, следует ли отдать им предпочтение или же мы можем просто наложить их один на другой, создав исторический эквивалент[305] 


 тех портретов Пикассо, которые одновременно передают лицо и в анфас и в профиль.
тех портретов Пикассо, которые одновременно передают лицо и в анфас и в профиль.
Короче, если наша задача как историков общества состоит в том, чтобы помочь всем остальным социальным наукам выработать значимые модели социоисторической динамики, мы должны добиться большего единства нашей теории и практики. В настоящее время, по-видимому, решение этой задачи сводится к наблюдению за тем, что мы делаем, обобщению и корректировке нашей практики в свете проблем, вырастающих из наших исследований.
IV
Поэтому я хотел бы за