Мы знаем только один случай, когда подводный клад принес богатство счастливцу. Это было на острове До Сал в архипелаге Зеленого Мыса. В этом глухом уголке к нам на судно неожиданно пришел старый знакомый – водолаз‑любитель с Ривьеры.
– Что ты здесь делаешь? – спросили мы его.
– Спасаю груз с затонувшего судна.
– Кто ваш подрядчик?
– Никто, – ответил он. – Работаю один.
Я заподозрил, что он морочит нам голову. Но наш приятель клялся, что заключил контракт на подъем груза с судна, лежащего на глубине двадцати пяти футов. Работает один, пользуясь лишь маской и ластами.
– Я привез сюда один из ваших аппаратов «Наргиле», но здесь все равно не нашлось ни одного воздушного насоса, – сообщил он.
«Наргиле» (так называется турецкий курительный прибор) – разновидность легководолазного аппарата; воздух накачивается в маску через шланг с поверхности.
Ожидая услышать обычную историю о золотых и серебряных слитках, я спросил, что за клад он нашел.
– Бобы какао, – последовал неожиданный ответ. – Четыре тысячи тонн бобов какао. Уже открыл люк и начал поднимать груз.
Наша встреча была слишком краткой, чтобы мы могли проверить его слова, но в Дакаре представитель крупной страховой компании подтвердил:
– Он подписал контракт с нами. И работает без специального снаряжения, если не считать сачка.
– Сачок! – воскликнул Диди.
– Вот именно. Джутовые мешки с бобами какао плавают в трюме под самой палубой. Наверху, в лодке, сидит туземец. Пловец набирает в легкие воздух, ныряет через люк в трюм и разрезает мешки. Потом гонит бобы к люку, и они всплывают на поверхность. Здесь помощник вылавливает их сачком. У него на берегу уже целая гора бобов лежит.
Год спустя мы с Диди решили навестить «ловца какао» в его доме на Лазурном берегу. Вид хозяина красноречиво говорил о его благополучии.
– Друзья, – сказал он нам, – это был лучший год в моей жизни. Контракт принес мне восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч франков.
И выходит, что на дне моря в самом деле можно найти настоящий клад.
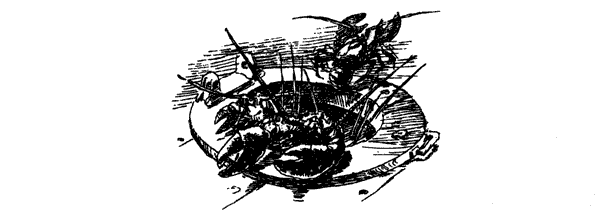
Глава седьмая
Необычный музей

Но есть на дне морском еще более замечательные сокровища, доступные человеку с аквалангом. Древнейшие очаги цивилизации возникли на берегах Средиземного моря, и самым выдающимся подводным открытием нам кажутся находки затонувших кораблей, построенных еще до нашей эры. Мы обследовали два таких судна и нашли то, что неизмеримо дороже золота: произведения античного искусства и ремесла. Кроме того, мы нашли еще три погибших древних корабля, которые ожидают своих исследователей.
На суше не сохранилось ни одного грузового судна античной поры. Шнеки викингов, найденные при раскопках, и увеселительные лодки императора Траяна, которые извлекли, осушив озеро Неми в Италии, – замечательные образцы древнего кораблестроения, но нам очень мало известно о торговых судах, связывавших между собой разные народы.
Первым, что толкнуло меня искать суда классической древности, была бронзовая скульптура, найденная одним рыбаком сорок лет тому назад в Санарской бухте. Увы, когда я попал в Санари, этого рыбака уже не было в живых, и мне так никогда и не удалось узнать, где именно он ее нашел.
Много лет спустя Анри Бруссар, руководитель Каннского клуба подводных скалолазов, ныряя с аквалангом, обнаружил греческую амфору. Этот изящный керамический сосуд с двумя ручками был грузовой тарой древности; в нем перевозили вино, растительное масло, зерно, воду. Финикийские, греческие, карфагенские, римские суда везли в своих трюмах тысячи амфор. У амфоры вид сужающегося книзу конуса. На суше их устанавливали, втыкая в землю. На кораблях амфоры, вероятнее всего, вставляли в отверстия в досках. Бруссар сообщил, что на дне, на глубине шестидесяти футов, лежит груда амфор. Ему и в голову не пришло, что здесь захоронено целое судно – так основательно оно было занесено илом.
Мы обследовали это место с «Эли Монье». Амфоры валялись в беспорядке на ложе из уплотненного органического вещества; кругом простирался серый подводный ландшафт. Мощный землесос позволил нам углубиться в грунт. Из промоины извлекли около сотни амфор; большинство закупоренные. На некоторых сохранились даже восковые печати с инициалами древнегреческих виноторговцев.
Несколько дней мы откачивали ил и поднимали амфоры. Зарывшись в грунт на пятнадцать футов, натолкнулись на дерево. Это был палубный настил античного торгового судна, второго найденного в наше время.
К сожалению, у нас не было ни времени, ни снаряжения, чтобы поднять редкую находку. Мы покинули это место, увозя амфоры и образцы дерева; было очевидно, что здесь находится уникальный гидроархеологический объект, требующий сравнительно несложных работ. Судя по всему, корпус сохранился и его можно поднять целиком. Как много рассказало бы это судно о кораблестроении и международной торговле далекого прошлого!
Мы очень смутно представляли себе древнее судоходство, да и то по росписям на стенах и вазах, и можем только догадываться, каким было навигационное искусство той поры. Античные грузовые суда были короткими и широкими и вряд ли могли идти против ветра. Немногочисленные маяки отличались простотой устройства: на берегу разжигали обычные костры. Не было ни бакенов, ни буев, чтобы обозначать рифы и мели. Вряд ли мы ошибемся, предположив, что судоводители старались не терять из виду сушу, а на ночь предпочитали стать на якорь в надежном месте. Вынужденные все время плотно прижиматься к берегу, античные корабли оказывались легкой добычей внезапных штормов и коварных рифов. Поэтому большинство затонувших судов надо искать в сравнительно мелких прибрежных водах, то есть в пределах досягаемости для подводного пловца. Морские битвы и пиратские налеты множили число погибших кораблей. Не сомневаюсь, что в иле на дне моря погребено немало хорошо сохранившихся античных судов, до которых совсем нетрудно добраться.
Суда, лежащие на глубине до шестидесяти футов, скорее всего уничтожены разрушительным действием течений и приливов. Зато те, которые затонули на большей глубине, по сей день хранятся в огромных залах подводного музея. На каменистом грунте их быстро освоили бурно размножающиеся организмы. Губки, водоросли и гидроиды скрыли борта и надстройки. Прожорливые представители морской фауны нашли здесь пищу и приют. Целые поколения моллюсков кончили свое существование и были съедены другими жителями моря, горы экскрементов накрывали разрушающееся судно. Все эти процессы вместе приводят к тому, что за несколько веков морское дно сглаживается и остается разве что чуть заметный бугор.
Только подводный пловец с наметанным глазом обнаружит признаки такого судна: маленькая неровность, необычный утес или плавные линии обросшей амфоры. Сосуд, найденный Бруссаром, наверно, стоял на палубе; трюмный груз море поглощает вместе со всем судном. Следы многих античных кораблей безвозвратно утрачены, потому что ловцы губок и кораллов, не подозревая, что поблизости от амфор может быть затонувшее судно, поднимали сосуд на поверхность и никак не отмечали место находки.
Первое из двух известных грузовых судов классической древности – так называемая «галера Махдиа». Правда, название это неверно: у судна нет отличающих галеру рядов уключин, это был самый настоящий парусник, предназначенный для перевозки внушительных по тому времени грузов – не менее четырехсот тонн. Махдийский корабль был построен в Древнем Риме около двух тысяч лет тому назад для вывоза из Греции награбленных предметов искусства. Наши поиски этого корабля вылились в настоящую археолого‑детективную историю.
В июне 1907 года один из тех приземистых греческих ныряльщиков, которых можно встретить по всему Средиземноморью, в поисках губок разведывал воды у Махдии на восточном побережье Туниса. На глубине ста двадцати семи футов он неожиданно увидел лежащие в несколько рядов наполовину занесенные илом большие предметы цилиндрической формы. Он сообщил, что дно здесь сплошь устлано пушками.
Адмирал Жан Бэм, командующий военно‑морским округом Французского Туниса, послал туда водолазов. Они насчитали шестьдесят три орудия, которые лежали на одинаковом расстоянии друг от друга, образуя правильный овал. Рядом покоились на дне какие‑то прямоугольники. Все густо обросло морской живностью. Водолазы подняли один из цилиндров. Соскребли наслоения, а под ними был… мрамор. Пушки оказались ионическими колоннами!
Правительственный чиновник Альфред Мерлен, знаток античной культуры, написал о тунисском открытии знаменитому археологу и искусствоведу Соломону Рейнаху. Рейнах обратился к меценатам за средствами, чтобы поднять со дна моря памятники древности. На его призыв откликнулись два американца: некий эмигрант, назвавшийся герцогом Лубатским, и Джеймс Хайд, пожертвовавший двадцать тысяч долларов. Рейнах предупредил, что не может ручаться за успех, но это не испугало Хайда. Возглавил экспедицию лейтенант Тавера. Он набрал в Италии и Греции самых искусных водолазов и выдал им новейшее снаряжение.
При тогдашнем развитии водолазной техники и такая глубина была крепким орешком. Как раз в том году водолазное управление английского военного флота составило первый график ступенчатой декомпрессии для работ на глубинах до ста пятидесяти футов. Тавера об этом не знал. Из набранных им водолазов несколько человек навсегда вышли из строя из‑за кессонной болезни. Трудная и опасная операция продолжалась пять лет.
Затонувший корабль оказался настоящим музеем античного изобразительного искусства. На нем были не только капители, колонны, цоколи и другие элементы ионической архитектуры, но и резные садовые вазы в рост человека. Водолазы нашли мраморные и бронзовые скульптуры. Судя по тому, как их разбросало, корабль опускался на дно, словно летящий с дерева на землю листок.
Мерлен, Рейнах и другие эксперты предполагали, что эти предметы были изготовлены в Афинах в первом веке до нашей эры. Скорее всего, судно затонуло около 80 года до нашей эры, участвуя в вывозе богатейшей добычи, награбленной римским диктатором Луцием Корнелием Суллой, который опустошил Афины в 86 году до нашей эры. Это подтверждается и тем, что архитектурные детали представляют собой части разобранного храма или роскошной виллы. Очевидно, люди Суллы погрузили их на корабль в Афинах, а по пути в Рим судно сбилось с курса; это нередко случалось при тогдашнем уровне навигационного дела.
Поднятые водолазами произведения искусства заняли пять залов в тунисском музее Алауи, где их можно видеть и по сей день. В 1913 году работы были прекращены: кончились деньги.
Впервые мы услышали об этом корабле в 1948 году, когда проводили подводные археологические исследования там, где, как предполагалось, ушел под воду торговый порт древнего Карфагена. Годом раньше генерал авиации Верну, занимавший командную должность в Тунисе, летом заснял с воздуха несколько интересных фотографий карфагенского мелководья. Сквозь прозрачную воду отчетливо виднелись правильные геометрические линии, поразительно напоминавшие очертания молов и пристаней коммерческой гавани. Фотографии были изучены патером Пуадебаром, ученым‑иезуитом, который служил священником в военно‑воздушных силах. В начале двадцатых годов Пуадебар нашел затопленные остатки портов Тира и Сидона; теперь он очень заинтересовался новым открытием.
Патер прибыл на борт «Эли Монье», и мы составили бригаду из десяти человек для исследования «порта». Увы, нам не удалось найти следов каменной кладки или другого строительства. Для проверки мы мощной драгой прорыли траншеи, где снимки показывали что‑то вроде портовых сооружений. Но в извлеченном драгой грунте не было никаких строительных материалов.
Зато мы напали в тунисских архивах и в музее Алауи на материалы о махдийском корабле. Прочтя труды Мерлена и отчет лейтенанта Тавера, мы заключили, что они подняли далеко не все сокровища. Я с интересом увидел имя адмирала Жана Бэма: это был дед моей жены. Мы нашли зарисовки Тавера и отправились туда, где лежало затонувшее судно.
В ослепительно яркое воскресное утро мы шли вдоль берега, неотступно следя за чертежом. Тавера нанес на свой план три сухопутных ориентира; затонувший корабль находился на скрещении воображаемых прямых, проведенных от этих ориентиров. Первый ориентир – замок, стоящий на одной линии с каменным устоем, остатком разрушенной пристани. Замок мы увидели сразу, но устоев было четыре – выбирай любой!
Вторым ориентиром Тавера выбрал куст на дюнах и гребень холма. Но за тридцать пять лет здесь вырос целый лес… Последним ключом служила точка в оливковой роще, сопряженная с ветряной мельницей. Мы все глаза проглядели, вооружившись биноклями, но мельницы не нашли. Немало нелестных замечаний было высказано в адрес лейтенанта Тавера, которому явно следовало бы поучиться картографии у Роберта Стивенсона.
Мы решили искать на берегу. Погрузили в машину доски, чтобы соорудить вышку, и покатили по пыльным дорогам, опрашивая местных жителей. Никто не помнил никакой мельницы, однако в одном месте нам посоветовали обратиться к старику евнуху. Он встретился нам на дороге: дряхлый восьмидесятилетний хромой старец с обрамленной белым пушком блестящей лысиной. Трудно было угадать в нем когда‑то упитанного заправилу арабского гарема. В потухшем взоре старца вспыхнул обнадеживающий огонек.
– Ветряная мельница? – проскрипел он. – Я проведу вас к ней.
Мы прошли с ним несколько миль; наконец добрались до какой‑то груды камня и, не мешкая, воздвигли вышку. Вдруг старик, озабоченно поглядев на меня, пробормотал:
– Тут подальше была другая мельница…
Он показал нам еще одну груду развалин. Мы с ужасом заметили, что он старается припомнить, где стояла третья мельница. Казалось, махдийское побережье – сплошное кладбище мельниц.
Мы вернулись на «Эли Монье» и устроили совет. Решили положиться на акваланги и вести поиски так, как если бы вообще ничего не знали о местонахождении корабля. Собственно, так оно и было. Сведения были очень скудные: судно лежит где‑то поблизости на глубине ста двадцати семи футов. Эхолот показывал, что дно почти совсем гладкое, с небольшими неровностями. Мы долго кружили, пока не пошли глубины, близкие к данным Тавера. Теперь круг поисков намного сузился, и мы опустили на дно сеть из стального троса площадью в сто тысяч квадратных футов. Получилось нечто вроде американского футбольного поля с поперечными линиями через каждые пятьдесят футов. Суть подводного «матча» заключалась в том, что аквалангисты плавали вдоль линий, изучая грунт по обе стороны. За два дня мы осмотрели всю площадь, но счет был явно не в нашу пользу.
Лейтенант Жан Алина вызвался прокатиться на подводных санях. Мы протащили его на буксире вокруг стальной сети; он ничего не нашел. Уже пять дней прошло в бесплодных поисках. Вечером мы с горя постановили перейти ближе к берегу.
На следующее утро наш начальник Тайе, не полагаясь на сани, решил плыть, держась за трос, на буксире у вспомогательного катера.
Помню, утром шестого дня я уже ни на что не надеялся; за все время наших поединков с непокорной морской стихией у меня не было такого мрачного настроения. Мысленно я сочинял рапорт начальству в Тулоне, объясняя, почему счел нужным неделю занимать две плавучие единицы военно‑морского флота и тридцать человек на поисках судна, которое было обследовано еще в 1913 году. Нетерпеливый Пуадебар напоминал скорее разгневанного адмирала, чем патера.
Вдруг – крик наблюдателя. На залитой солнцем глади моря мелькала оранжевая точка: сигнальный буек Тайе. Значит, подводный пловец обнаружил что‑то важное! Тайе всплыл, выдернул изо рта мундштук и завопил:
– Колонна! Я нашел колонну!
Старые записи указывали, что одну колонну, в стороне от судна, оставили, когда пришлось прекратить работы. Теперь корабль не уйдет от нас! Мы зашли на ночь в Махдиа и основательно кутнули, как и положено морякам, отыскавшим сокровище. Город гудел. Прошел слух, что мы нашли мифическую золотую статую, о которой тридцать лет толковали все местные легенды. Молва превратила источенную моллюсками колонну в золотой клад. Нас без конца поздравляли восторженные почитатели.
С рассветом закипела работа. Мы с Дюма нырнули первыми и разыскали наш основной объект. С виду ничего похожего на корабль. Оставшиеся на дне пятьдесят восемь колонн покрылись толстым слоем растительности и живых существ. Поглощенные илом загадочные цилиндры едва выступали над грунтом. Мы призвали на помощь все воображение, чтобы мысленно воссоздать очертания корабля. Измерив площадь, занятую колоннами, мы получили цифры, отвечающие длине судна в сто тридцать и ширине в сорок футов. Внушительно для той поры! Другими словами, древний корабль вдвое превосходил водоизмещением стоявший наверху «Эли Монье».
Корабль лежал в прозрачной воде на теряющейся вдали голой илисто‑песчаной равнине и представлял собой подлинный оазис для рыб. Над экспонатами подводного музея плавали крупные полиприоны. Среди облепивших колонны губок не было видов, представляющих промышленный интерес. Дотошные ловцы губок – современные греки – очевидно, собрали все, что им годилось. Возможно, они подняли также и мелкие предметы искусства, возвратив себе много веков спустя кое‑что из украденного римлянами.
Нам предстояли довольно обширные работы. Правда, с тех пор, как храбрецы Тавера отважно проникали в глубины, водолазная наука шагнула далеко вперед, и все ее завоевания были к нашим услугам. Располагали мы также и таблицами для подводных пловцов, только что разработанными под руководством лейтенанта Жана Алина; акваланги позволяют совершать серию быстрых кратковременных погружений, не боясь, что кровь будет перенасыщена азотом.
Для той глубины, с которой мы столкнулись здесь, график водолаза предусматривает после сорока пяти минут работы подъем с остановками для ступенчатой декомпрессии: на глубине тридцати футов – четыре минуты, потом двадцать шесть минут на глубине двадцати и столько же на глубине десяти футов. Иначе говоря, почти час. По графику Алина подводный пловец погружается трижды на пятнадцать минут, с двумя трехчасовыми перерывами для отдыха. После третьего погружения аквалангисту нужна пятиминутная декомпрессия на глубине десяти футов: одна двенадцатая того, что требуется водолазу.
Чтобы развить на основе расчетов Алина успешное наступление на древнеримское судно, наши двойки должны были уходить в воду и возвращаться точно по расписанию. На то, что они сами будут следить за временем, надеяться не приходилось. Поэтому мы изобрели «стреляющие часы»: дежурный с винтовкой стрелял в воду через пять, десять и пятнадцать минут после погружения. Звук от удара пули о воду отчетливо доносился до затонувшего судна.
В первый же день один из аквалангистов вернулся, неся какой‑то небольшой блестящий предмет. Мое сердце учащенно забилось: мы мечтали найти античную бронзу. Увы, это была всего‑навсего пуля от наших стреляющих часов. Постепенно все дно усеяли золотистые шарики. Вот бы спрятаться за колонну и посмотреть на ловца губок, который, придя сюда после нас, увидит на дне золотую россыпь!
Наш график был все время под угрозой. «Эли Монье» сносило ветром и течением, и подводным пловцам приходилось тратить лишнее время и энергию, чтобы попасть к цели. Дюма притащил на палубу кучу железного лома. Остальные смеялись над его мальчишеской затеей, однако пятнадцатифунтовый груз позволял быстрее достичь дна и маневрировать под водой. Стало легче добираться до затонувшего корабля; регулируя балласт, можно было как угодно двигаться по горизонтали и по вертикали, аквалангист приходил на место неуставшим и сбрасывал груз.
Диди добросовестно подчинялся стреляющим часам, пока однажды, всплывая после третьего погружения, не заметил что‑то очень уж заманчивое. Грунт еще был озарен солнечным светом. Дюма не устоял и быстро пошел вниз. Увы, это был обман зрения, пришлось ему возвращаться ни с чем. За обедом Дюма пожаловался, что у него колет плечо. Мы немедля взяли его в плен, заперли в установленную на борту рекомпрессионную камеру и подняли давление до четырех атмосфер. Иначе нельзя, слишком велика опасность кессонной болезни. В рекомпрессионке был телефон, соединенный с динамиком в каюте аквалангистов. Только мы поели, вдруг послышался голос Диди: он укорял друзей, способных уморить товарища голодом. Мы охлаждали его кипучий нрав около часа. За все время это был единственный раз, когда нам пришлось воспользоваться рекомпрессионной камерой.
Древнеримский корабль лежал в сумеречном голубом мире, где человеческое тело казалось зеленоватым. Приглушенные солнечные лучи рождали блики на хромированных легочных автоматах, на масках, серебрили пузырьки выдыхаемого воздуха. Желтоватый грунт отражал достаточно света, и мы сняли первый на такой глубине цветной фильм о работе подводных пловцов.
От слоя морских организмов афинские колонны стали темно‑голубыми. Мы рыли под ними ямы руками, по‑собачьи, чтобы можно было продеть тросы. Во время подъема на поверхности колонн постепенно как бы проявлялась гамма ярких красок. Извлечешь из воды – залюбуешься, но на палубе тень смерти скоро ложилась на изобилие морской флоры и фауны. Мы усердно чистили, мыли, и обнажался снежно‑белый мрамор, не видевший солнца почти две тысячи лет.
Всего мы подняли четыре колонны, две капители и два основания. Достали также загадочные свинцовые части древних якорей. Судя по тому, как они лежали, корабль стоял на якоре, когда случилась катастрофа. Видимо, беда пришла внезапно. Частей было две, каждая весом в три четверти тонны, продолговатой формы, с отверстием посредине: очевидно, сюда вставлялась деревянная часть, которая давно уже истлела. Прямые полосы металла никак не могли быть лапами якоря, но мы напрасно искали лапы. Оставалось предположить, что свинцовые части были грузилами и крепились в верхней части деревянного якоря. Но тогда возникал новый вопрос: почему древние судостроители сосредоточивали главный вес якоря вверху?
Основательно все обсудив, мы пришли к такому выводу. Античные суда пользовались не цепями, а канатами. Когда на современное судно, стоящее на якоре, напирает ветер или течение, нижняя часть якорной цепи натягивается горизонтально. Деревянные крючья римского якоря в таком случае оторвало бы от дна, не будь верхушка прижата свинцовым грузом, который гасил натяжение.
Мы работали шесть дней, все более увлекаясь находками, позволяющими судить о первых шагах судоходства. Хотелось откопать самый корабль. Записи Тавера сообщали, что его водолазы провели большие раскопки у кормы. Выбрав участок посредине правого борта, я очистил его от обломков мрамора, чтобы можно было углубиться в грунт в этом месте. Мы решили размывать грунт мощной струей воды из шланга. В ходе работ подтвердилась наша догадка, что надстройки были разрушены, а главная палуба продавлена грузом, когда тяжелый корабль ударился о дно.
Углубившись на два фута, мы наткнулись на крытую свинцовым листом толстую палубу. Море быстро заносило илом промытый нами ход, так что дело подвигалось плохо. Все же нам удалось выяснить, что корабль в основном сохранился. Мы нашли погребенную илом ионическую капитель, на которой не успели поселиться ни водоросли, ни моллюски. Нетронутая прелесть замечательного изделия перенесла нас в те далекие дни, когда над ним работали искусные руки древних мастеров.
Я убежден, что в средней части махдийского корабля лежит неповрежденный груз. Все говорит о том, что команда тогда, как и теперь, жила в наименее приятной части судна – на баке. Значит, и там можно найти интересные вещи, которые многое расскажут о людях, ходивших на судах Рима.
За несколько дней работы на огромном древнем корабле мы разве что тихонько постучались в двери истории. Нашли изъеденные морем железные и бронзовые гвозди; подняли жернова, которыми коки мололи хранившееся в амфорах зерно. Извлекли из ила большие обломки бимсов из ливанского кедра, сохранившие древнее лаковое покрытие. (Не худо бы узнать состав этого лака, который выдержал разрушительное действие двадцати веков!) Проникнув на пять футов в грунт под носом корабля, я добрался до форштевня, сделанного из толстых кедровых брусьев.
Спустя четыре года я встретил в Нью‑Йорке председателя Французских обществ США и Канады, энергичного старого джентльмена по имени Джеймс Хайд. «Уж не тот ли это Хайд, который давал деньги на подъем сокровищ махдийского корабля?» – спросил я себя. Это был он. Хайд пригласил меня на обед, и я показал ему цветной фильм о работе подводных пловцов.
– Замечательно, – сказал он. – Знаете, я ведь так и не увидел, что там подняли. У меня тогда было много денег, своя паровая яхта. Когда шли работы, я ходил в Эгейском море, а в Тунисский музей не попал. Соломон Рейнах прислал мне фотографии найденных ваз и статуй, Мерлен написал любезное письмо, а тунисский бей наградил меня орденом. Да, интересно увидеть эти вещи с опозданием в сорок пять лет…

Глава восьмая
Пятьдесят саженей

Нас по‑прежнему занимало глубинное опьянение. Хотелось наперекор всему проникнуть еще глубже. То, что испытал Дюма в 1943 году во время рекордного погружения, заставило нас очень серьезно подойти к этой проблеме. Группа составляла подробные отчеты в каждом случае, когда кто‑нибудь из ее членов погружался на большую глубину. И все‑таки мы знали о глубинном опьянении далеко не все. Наконец летом 1947 года мы начали серию опытных погружений.
Должен сразу сказать, что не рекорды нас манили, хотя во время этих опытов старые мировые достижения были превзойдены. Мы считаем, что очень важно вернуться живым из морской пучины; даже бесстрашный Диди знает чувство меры. Мы шли все дальше вглубь потому, что только так можно было исследовать глубинное опьянение и выяснить, какую работу позволяет выполнить акваланг на той или иной глубине. Каждый опыт тщательно готовился, аквалангисты погружались под строгим контролем, и мы получали абсолютно точные данные. Предварительные наблюдения позволили нам заключить, что предельная глубина для подводного пловца – триста футов, или пятьдесят саженей; между тем еще ни один пловец с автономным снаряжением не побил рекорд Дюма, равный двумстам десяти футам.
Глубину погружения измеряли канатом с борта «Эли Монье». Через каждые шестнадцать с половиной футов (пять метров) на канате были укреплены белые дощечки. Подводный пловец брал с собой химический карандаш, чтобы оставить свой автограф на дощечке, до которой доберется, и записать несколько слов о своих ощущениях.
Чтобы сберечь силы и воздух, аквалангист шел вниз без излишних движений, увлекаемый десятифунтовым балластом в виде железного лома. Замедлить спуск можно было притормозив рукой за канат. Достигнув намеченной или посильной для себя глубины, пловец расписывался, сбрасывал балласт и возвращался по тросу на поверхность. Чтобы избежать кессонной болезни, он делал короткие остановки на глубине двадцати и десяти футов, как этого требовала декомпрессия.
К началу опыта я пришел в отличной форме. Всю весну работал на море, и это было хорошей тренировкой; уши легко переносили давление.
Войдя в воду, я стал быстро спускаться, придерживаясь за канат правой рукой, сжимая балласт левой. В голове неприятно отдавался гул движка на «Эли Монье», снаружи ее сдавливал растущий столб воды. Был жаркий июльский полдень, но вокруг меня быстро темнело. Я скользил вниз в сумерках, наедине со светлым канатом, однообразие которого нарушалось только теряющимися вдали белыми дощечками.
На глубине двухсот футов я ощутил во рту металлический привкус сжатого азота. Глубинное опьянение поразило меня внезапно и сразу же очень сильно. Я сжал правую руку и остановился. Меня обуревало беспричинное веселье, все стало нипочем. Попробовал заставить мозг сосредоточиться на чем‑нибудь реальном: скажем, определить цвет воды на этой глубине. Не то ультрамарин, не то аквамарин, не то берлинская лазурь… Отдаленный рокот не давал покоя, вырастая в оглушительный перестук, словно билось сердце вселенной.
Я взял карандаш и записал на дощечке: «У азота противный вкус». Рука почти не чувствовала карандаша; в уме проносились забытые кошмары. Я перенесся в детство: лежу больной в постели, и все на свете кажется мне распухшим. Пальцы превратились в сосиски, язык – в теннисный мяч, мундштук сжимают чудовищно распухшие губы. Воздух сгустился в сироп, вода стала как студень.
Я висел на канате совсем отупевший. Рядом со мной, весело улыбаясь, стоял другой человек, мое второе «я», оно отлично владело собой и снисходительно посмеивалось над невменяемым аквалангистом. Это длилось несколько секунд; потом второй человек принял командование на себя, приказал отпустить веревку и продолжать погружение.
Я медленно шел вниз сквозь вихрь видений…
Вода вокруг дощечки с отметкой двести шестьдесят четыре фута светилась сверхъестественным сиянием. Из ночного мрака я вдруг перешел в область занимающейся зари. Это отражался от грунта свет, который не поглотили верхние слои. Внизу, в двадцати футах от дна, висел конец каната с грузом. Я остановился у предпоследней дощечки и поглядел на последнюю, белевшую пятью метрами ниже. Пришлось напрячь всю умственную энергию, чтобы трезво, не обманывая себя, оценить обстановку. И я двинулся к нижней дощечке, привязанной на глубине двухсот девяноста семи футов.