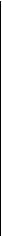
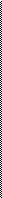
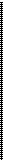
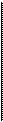 ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ XX ВЕКА*
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ XX ВЕКА*
Философская ситуация нашего столетия восходит в конечном счете к той критике по-: нятия сознания, начало которой было положено Ницше. В чем ее отличие от критики понятия субъективного духа, предпринятой Гегелем? Ответить на этот вопрос нелегко. Можно, пожалуй, привести доводы следующего порядка. То обстоятельство, что сознание и предмет сознания — это не два изолированных друг от друга мира, нигде не осознавалось так хорошо, как в немецком идеализме. Немецкий идеализм даже слово нашел для этого, выработав понятие «философия тождества». Он показал, что сознание и предмет суть две взаимосвязанные стороны одного целого и что всякий отрыв чистого сознания от чистой объективности есть не что иное, как догматизм мысли. Драма духа, развертывающаяся в гегелевской «Феноменологии», состоит как раз в постепенном осознании того, что всякое сознание, мыслящее некоторый предмет, само изменяется, но вместе с тем необходимым образом изменяет и свой предмет и что истина познается лишь в результате полного снятия предметности мышления в «абсолютном» знании. Не является ли критика понятия субъекта, предпринимаемая нашим столетием, лишь простым повторением того, что было достигнуто немецким идеализмом — с той, разумеется, оговоркой, что критика эта несопоставимо ниже по абстрагирующей способности и лишена той созерцательной силы, что прежде была присуща понятию? Дело, однако, обстоит не так. Критика субъективного духа в наш век носит в некоторых решающих моментах иной характер потому, что она уже не может отмахнуться от вопросов, поставленных Ницше. Есть три пункта первостепенной важности, по которым идет разоблачение наивных допущений немецкого идеализма, не принимаемых современным мышлением. Это, во-первых, наивность полагания, во-вторых, наивность рефлексии и, в-третьих, наивность понятия.
© Перевод В. С. Малахова, 1991 г.
Начнем с наивности полагания. Вся логика, со времен Аристотеля, построена на понятии apophansis, то есть высказывания-суждения. В классическом пассаже Аристотель подчеркивает, что его занимает исключительно «апофанти-ческий» логос, то есть такие виды речи, в которых дело идет лишь об истинном или ложном бытии, и оставляет в стороне такие явления, как просьба, приказание или вопрос, так как они, хотя и представляют собой виды речи, не имеют дела с чистым раскрытием сущего, а значит, не имеют отношения к истинному бытию. Аристотель обосновывает тем самым приоритет «суждения» в сфере логики. В новой философии такое понятие высказывания сопряжено с понятием «суждение восприятия». Чистому высказыванию соответствует чистое восприятие; но оба эти понятия в нашем зараженном ницшевскими сомнениями веке оказались не более как хрупкими абстракциями, не выдержавшими феноменологической критики. Ни чистого восприятия, ни чистого высказывания не существует.
Разрушение понятия «чистое восприятие» — итог совместных усилий многих исследователей. В Германии это произошло в первую очередь благодаря Максу Шел еру, сумевшему переработать полученные результаты со свойственной ему мощью феноменологического созерцания. В книге «Формы знания и общество» он показал сугубо искусственный характер такой абстракции, как понятие восприятия, возникающего в результате определенного чувственного раздражения. То, что мною воспринимается, ни в коей мере не соответствует испытываемому мною чувственному раздражению. Как раз наоборот, относительная адекватность восприятия — тот факт, что мы видим нечто действительно наличное, не больше и не меньше, — представляет собой результат направляющего наше видение процесса обретения ясности, отсечения иллюзорных образований. Чистое восприятие есть абстракция. Абстракцией является и чистое высказывание, что показал, между прочим, Ганс Липпс. Я позволю себе привести в качестве примера высказывания, имеющие место в ходе судопроизводства, рассмотрев таковые как особое языковое явление. На высказываниях этого рода видно, насколько трудно бывает говорящему узнать в протоколе, где записаны его свидетельские показания, исчерпывающе истинное выражение. того, что он имел в виду. Высказывание, вырванное из непосредственного воп-
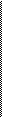 росно-ответного контекста, изменившее свою форму в результате отнесения к иным целям и включения в иной контекст, подобно ответу на вопрос, когда спрашиваемый не знает, почему этот вопрос задан. И это не случайно. Общепризнанный идеал высказывания-показания и вообще существенный момент наших представлений о доказательстве как раз в этом и заключаются: высказать нечто, не зная, что это высказывание «значит». Схожая ситуация складывается на экзамене, когда преподаватель обращается к студенту с вопросом, на который, будем откровенны, ни один разумный человек ответить не может. Этой темы касается в своей великолепной статье «О постепенном вызревании мысли в речи» Генрих фон Клейст, сам сдававший прусский экзамен на получение чина. Критика абстракции высказывания и абстракции чистого восприятия в наши дни была радикализирована Хайдеггером, поставившим вопрос в трансцендентально-онтологическом плане. Я имею в виду прежде всего разоблачение Хайдеггером понятия факта, соответствующего понятиям чистого восприятия и чистого высказывания, — Хайдеггер вскрыл в этом понятии онтологический предрассудок, который пронизывает также понятия ценности. Хайдеггер показал тем самым проблематичность различения между суждениями факта (как если бы чистые фактические утверждения вообще были возможны) и суждениями ценности. Возникшую в результате новую сферу проблематики я обозначу как сферу герменевтическую.
росно-ответного контекста, изменившее свою форму в результате отнесения к иным целям и включения в иной контекст, подобно ответу на вопрос, когда спрашиваемый не знает, почему этот вопрос задан. И это не случайно. Общепризнанный идеал высказывания-показания и вообще существенный момент наших представлений о доказательстве как раз в этом и заключаются: высказать нечто, не зная, что это высказывание «значит». Схожая ситуация складывается на экзамене, когда преподаватель обращается к студенту с вопросом, на который, будем откровенны, ни один разумный человек ответить не может. Этой темы касается в своей великолепной статье «О постепенном вызревании мысли в речи» Генрих фон Клейст, сам сдававший прусский экзамен на получение чина. Критика абстракции высказывания и абстракции чистого восприятия в наши дни была радикализирована Хайдеггером, поставившим вопрос в трансцендентально-онтологическом плане. Я имею в виду прежде всего разоблачение Хайдеггером понятия факта, соответствующего понятиям чистого восприятия и чистого высказывания, — Хайдеггер вскрыл в этом понятии онтологический предрассудок, который пронизывает также понятия ценности. Хайдеггер показал тем самым проблематичность различения между суждениями факта (как если бы чистые фактические утверждения вообще были возможны) и суждениями ценности. Возникшую в результате новую сферу проблематики я обозначу как сферу герменевтическую.
В этой области мы сталкиваемся с хорошо известной проблемой, которая была проанализирована Хайдеггером как проблема герменевтического круга. Субъективное сознание поразительно наивно, когда оно, думая, что им понят некоторый текст, восклицает: «Но вот тут же написано!» Хайдеггер показал, что, хотя это «вот тут же» представляет собой совершенно естественную реакцию (причем реакция эта довольно часто бывает весьма самокритичной), на самом деле не существует ничего просто «вот тут», поскольку все, что высказывается и что записывается в тексте, определено той или иной антиципацией. В позитивном плане это означает следующее: понять нечто можно лишь благодаря заранее имеющимся относительно него предположениям, а не когда оно пред* стоит нам как что-то абсолютно загадочное. То обстоятельство, что антиципации могут оказаться источником
ошибок в толковании и что предрассудки, способствующие пониманию, могут вести и к непониманию, лишь указание на конечность такого существа, как человек, и проявление %той его конечности. Неизбежное движение по кругу именно в том и состоит, что за попыткой прочесть и намерением понять нечто «вот тут» написанное «стоят» собственные наши глаза (и собственные наши мысли), коими мы это «вот» видим. Между тем мне представляется, что эту мысль нужно еще более заострить, что я и сделал, придя в ходе собственных исследований к следующему тезису: постулат, согласно которому подразумеваемое автором надлежит понимать в «его собственном смысле», совершенно справедлив. Но «в его собственном смысле» не означает «то, что этот автор имел в виду». Значение этого постулата радикально иное: понимание может выходить за пределы субъективного замысла автора, более того, оно всегда и неизбежно выходит за эти рамки. Герменевтика на ранних стадиях своего развития — пока не произошел психологический поворот, называемый теперь историзмом — это сознавала, да и каждый из нас сам приходит к такому сознанию, стоит лишь поставить перед мысленным взором некоторую знакомую нам модель понимания (скажем, понимание исторических фактов или, что то же самое, понимание исторических событий). Никто не станет утверждать, что историческое значение действия или события измеряется субъективным сознанием вовлеченных в него лиц. Чтобы понять историческое значение некоторого действия, нельзя ставить его в зависимость от субъективных планов, идей и замыслов его агентов. Это очевидно. По меньшей мере со времен Гегеля ясно: история так устроена, что прокладывает себе путь вовне, за пределы знания единичных субъектов о самих себе. В полной мере это относится и к опыту искусства. Я полагаю, что мысль эту надлежит применить и к сфере интерпретации текстов, хотя смысловое содержание последних и не допускает той неопределенности в истолковании, какая возможна с произведениями искусства. «Подразумеваемое» в этой области тоже не является элементом субъективного внутреннего мира, что убедительно продемонстировал своей критикой психологизма Гуссерль.
Второй момент, который мне хотелось бы затронуть, я назвал наивностью рефлексии. Тут наш век сознательно
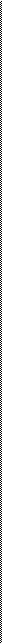

 отмежевывается от критики субъективного духа спекулятивным идеализмом, и особый вклад внесло в это отмежевание феноменологическое движение.
отмежевывается от критики субъективного духа спекулятивным идеализмом, и особый вклад внесло в это отмежевание феноменологическое движение.
Речь идет вот о чем. Рефлектирующий дух кажется сначала безгранично свободным. В своем возвращении к себе он всецело у себя. В самом деле, немецкий идеализм — в фих-тевском понятии деятельности или в гегелевском понятии абсолютного знания — мыслил это осуществление у-себя-бытия духа как наивысший из всех возможных способов наличного бытия вообще, присутствия вообще. Но как только понятие полагания было подвергнуто феноменологической критике, обнаружилось, что главенство рефлексии основательно подорвано. В ходе этой критики выяснилось, что не всякая рефлексия выполняет объективирующую функцию или, иначе говоря, не всякая рефлексия превращает в предмет то, на что она направлена. Возможны рефлексивные акты иного порядка, которые в момент осуществления «интенции» обращены на сам процесс своего осуществления. Вот известный пример: когда я слышу звук, первичным предметом моего слышания является, разумеется, звук, но я осознаю при этом также и свое слышание звука, причем осознаю его не как предмет последующей рефлексии. Это сопутствующая рефлексия, всегда сопровождающая слышание. Звук — всегда слышимый звук, мое слышание звука всегда присутствует в нем. Об этом можно прочесть уже у Аристотеля, который совершенно верно сформулировал: всякий aisthesis есть aisthesis aistheseos. Всякое восприятие есть восприятие и воспринимаемого, и самого воспринимания и не содержит рефлексии в современном смысле слова. Аристотель выделяет феномен, который, на его взгляд, свидетельствует о таком— единстве. И лишь в процессе систематизации аристотелевского учения комментаторами восприятие воспринимания было отнесено и к понятию coine aisthesis, которое Аристотель употреблял в совсем другой связи.
Когда Франц Брентано, учитель Гуссерля, создавал свою эмпирическую психологию, этот описанный Аристотелем феномен играл не последнюю роль. Брентано подчеркнул, что мы не обладаем опредмечивающим сознанием наших душевных актов. Вспоминаю, как мы, молодые люди, воспитанные марбургским неокантианством и абсо- лютно ничего не знавшие о схоластике, услышали от Хайдеггера о схоластическом различении между actus signatus и actus exercitus, и какое колоссальное впечат-
ление это произвело на все наше поколение. Сказать «я вижу нечто» и сказать «я говорю, что я нечто вижу» — Г разные вещи. Однако осознание акта происходит не посредством сигнификации типа «я говорю, что...». Осуществляющийся акт есть всегда уже акт, а это значит, что он с самого начала есть нечто, в чем жизненно налично мое собственное осуществление, — преобразование же в сигнификацию создает новый интенциональный предмет.
Об этих забытых ныне отправных пунктах ранней феноменологии я решил напомнить для того, чтобы показать, какую роль играет эта проблематика в сегодняшней философии. Ограничусь двумя фигурами — Ясперсом и Хайдег-гером. Понятию принудительного знания, мироориентации, как он ее называет, Ясперс противопоставляет высвечивание экзистенции, вступающее в игру в пограничных ситуациях знания, ситуациях, в которых научная и вообще человеческая способность знания наталкивается на собственные границы.
Пограничные ситуации, по Ясперсу, суть те ситуации человеческого здесь-бытия, где становится невозможным рассчитывать на анонимные силы науки, где, стало быть, человек должен полагаться только на самого себя и где в самом человеке обнаруживаются содержания, какие всегда -~ бывают скрыты в процессе чисто функционального применения науки, нацеленного на овладение миром. Таких пограничных ситуаций много. У самого Ясперса особо выделена ситуация смерти, наряду с ней — ситуация вины. В том, как человек ведет себя, когда он виновен, более того, когда он оказывается лицом к лицу со своей виной, нечто выходит наружу, об-наруживается — existit. Способ, каким он ведет себя, таков, что сам человек — всецело внутри того, что с ним происходит. В такой форме Ясперс вводит в свою систему кьеркегоровское понятие экзистенции. Экзистенция — это об-наружение всего, что в человеке, соб- 'Умственно, есть, происходящее в ситуации, когда анонимные ■.■'■ ■<'■*■ силы науки перестают действовать. Решающее значение имеет здесь то обстоятельство, что такое обнаружение представляет собой не смутное проявление эмоций, а высветление, высвечивание. Ясперс употребляет термин «высвечивание экзистенции», а это значит: то, что было спрятано и существовало в скрытом виде, возгоняется в свет экзистенциального единства, собирающего внутри себя свою решимость. Опредмечивающей рефлексии тут нет и в по-
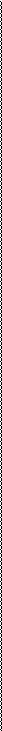
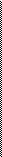 мине. Ситуации, в том числе и ситуации пограничные, требуют такого знания, какое, несомненно, не есть знание опредмечивающее, и познавательных возможностей науки недостаточно для того, чтобы его схватить.
мине. Ситуации, в том числе и ситуации пограничные, требуют такого знания, какое, несомненно, не есть знание опредмечивающее, и познавательных возможностей науки недостаточно для того, чтобы его схватить.
Начиная свое фундаментальное продумывание смысла бытия, Хайдеггер подхватил этот мотив; главными темами «Бытия и времени» стали «здесь-бытие», которое всегда «мое», «бытие виновным», «движение-к-смерти» и т. п. К несчастью, в первые десятилетия усвоения хайдегге-ровских идей этим понятиям придали моральное значение, что было очень созвучно ясперовскому пониманию экзистенции. Но морализация коснулась и такого понятия «Бытия и времени», как «собственное». Собственно человеческое бытие, принципиально отличаясь от несобственного «поддержания жизни», от «публичности», от man, от «болтовни», от «любопытства» и от всех прочих форм впадения в социум и исходящей из него нивелирующей силы, выступает в пограничных ситуациях, в движении к смерти — словом, выступает как человеческая конечность. Надо признать, что в этих рассуждениях чувствуется пафос последователя Кьеркегора, мыслителя, давшего мощный импульс всему нашему поколению. Но фиксация этого влияния скорее скрывает действительные интенции хайдеггеровской мысли, чем помогает нам увидеть их. Для Хайдеггера дело заключалось в том, чтобы перестать мыслить сущность конечности как стену, о которую разбивается наш порыв к бесконечному, и научиться позитивно понимать конечность как собственную основу всего состава человеческого бытия. Конечность значит временность, а «сущность» человеческого бытия заключается в его историчности — таковы знаменитые положения Хайдеггера, на которые он опирался, ставя свой вопрос о бытии. «Понимание», описанное Хайдеггером как подвижная основа человеческого бытия, — это не «акт» субъективности, а сам способ бытия. Применительно к конкретному случаю — пониманию традиции — я показал, что понимание есть всегда ^дбытиеГ1*ечь идет не о том, что осуществлению понимания постоянно сопутствует сознание, по своему Содержанию не являющееся опредмечивающим, а о том, что понимание вообще не может быть схвачено как сознание чего-то, поддающегося исчислению, что целое самого осуществления понимания вовлечено в событие, им овременено и им пронизано.
Свобода рефлексии, это мнимое у-себя-бытие, в понимании вообще не имеет места — настолько всякий его акт определен историчностью нашей экзистенции.
И наконец, третий момент, быть может, наиболее глубоко определяющий нашу философскую современность: уразумение наивности понятия.
И тут, как мне кажется, решающее значение в формировании сегодняшей проблемной ситуации имело феноменологическое движение — прежде всего в Германии, но, что интересно, не только в Германии, но и в воспринявшем германское влияние англоязычном мире. Отвечая на вопрос, что, собственно, значит слово «философствовать», дилетант обычно прибегает к представлению о философствовании как о составлении дефиниций и, соответственно, как о потребности в дефинициях, в реализации которой якобы и заключается человеческое мышление. А поскольку мы на самом деле обходимся, как правило, без дефиниций, дилетант опирается на учение об имплицитных дефинициях. Собственно говоря, такое «учение» представляет собой чистый вербализм. Когда дефиницию называют имплицитной, хотят, очевидно, сказать, что связь предложений в речи обусловлена тем, что тот, кто эти предложения высказывает, подразумевает под используемыми им понятиями нечто однозначное. В этом отношении философы ничем не отличаются от всех прочих людей. Они также имеют обыкновение мыслить нечто определенное и избегать противоречий. Упомянутому дилетантскому мнению довлеет, по сути, номиналистическая традиция Нового времени. В феномене языка традиция эта усматривает лишь один из видов применения знаков. Всякому ясно, что искусственные языки требуют таких правил своего введения и упорядочивания, чтобы двусмысленность исключилась сама собой. Отсюда требование, давшее начало (особенно под воздействием Венской школы) широко распространившемуся в англоязычных странах исследовательскому направлению, стремящемуся посредством создания однозначных искусственных языков освободиться от мнимых проблем «метафизики». Одно из наиболее радикальных и успешных воплощений это направление нашло в «Tractatus logico-philosophicus» Витгенштейна. Но Витгенштейн, между прочим, в поздних своих работах показал, что идеал искусственного языка внутренне противоречив, причем в первую очередь даже не по той, часто приводимой в цитатах причине, что всякий ис-
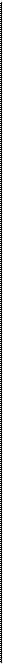

 кусственный язык нуждается для своего введения в другом, уже находящемся в употреблении языке, а в конечном счете — в естественном языке. Для позднего Витгенштейна в высшей степени характерно уразумение того, что язык всегда определенным образом организован, а, значит, собственная функция языка состоит в осуществлении понимания, и что мнимые философские проблемы возникают на самом деле не в силу порочности языка, а из-за ложной догматизации мышления в метафизике, из-за гипостазиро-вания метафизикой используемых ею слов. Язык подобен игре. Витгенштейн заводит речь о языковых играх — это нужно ему для утверждения чисто функционального смысла слов. Язык есть язык только в том случае, если он представляет собой actus exercitus, то есть совпадает с самовыявлением сказанного, самоустраняясь при этом.
кусственный язык нуждается для своего введения в другом, уже находящемся в употреблении языке, а в конечном счете — в естественном языке. Для позднего Витгенштейна в высшей степени характерно уразумение того, что язык всегда определенным образом организован, а, значит, собственная функция языка состоит в осуществлении понимания, и что мнимые философские проблемы возникают на самом деле не в силу порочности языка, а из-за ложной догматизации мышления в метафизике, из-за гипостазиро-вания метафизикой используемых ею слов. Язык подобен игре. Витгенштейн заводит речь о языковых играх — это нужно ему для утверждения чисто функционального смысла слов. Язык есть язык только в том случае, если он представляет собой actus exercitus, то есть совпадает с самовыявлением сказанного, самоустраняясь при этом.
Осознание того, что язык есть способ мироистолкова-ния, предпосланный любому акту рефлексии, явилось тем пунктом, с которого развитие феноменологического мышления Хайдеггером и его последователями пошло в новом направлении и повлекло за собой ряд философских следствий, в особенности же следствий из историзма. Мышление всегда движется в колее, пролагаемой языком. Языком заданы как возможности мышления, так и его границы. Но о том же самом говорит и опыт интерпретации, которая, в свою очередь, имеет языковой характер. Когда, например, мы не понимаем некоторый текст и отдельное слово озадачивает нас своей многозначностью, предлагая разные возможности своего истолкования, мы, бесспорно, имеем дело с препятствием на пути языкового осуществления понимания. Когда же нам в конце концов удается справиться с этой многозначностью и добиться однозначной ясности, мы приходим к твердому убеждению, что поняли, как этот текст следует читать. Не только грамматическая, но, как мне кажется, всякая истинная интерпретация текста «предопределена» к самоупотреблению. Она должна играть, то есть входить в игру, снимая себя в своем осуществлении. Сколь бы несовершенным ни было это мое описание, из него явствует следующсёГ между критикой английской семантики, проведенной Витгенштейном, и критикой аисторических процедур феноменологического описания, проводимой критикой языка, то есть герменевтическим сознанием, существует нечто вроде конвергенции. Способ, каким мы сегодня погружаем
используемые нами понятия в историю, пройденную ими в качестве слов естественного языка, стремясь тем самым пробудить в понятиях изначально присущий им живой смысл, совпадает, на мой взгляд, с тем, что делал Витгенштейн, обращаясь к живым языковым играм, не говоря уже о других исследованиях в этом направлении.
В этом и заключается критика субъективного сознания, которая ведется в нашем столетии. Язык и понятие столь очевидно и столь тесно друг с другом связаны, что допущение, будто понятия можно «применять», или заявление типа «я называю данный предмет так-то и так-то» равносильны разрушению самой ткани философствования. Единичное сознание, если, конечно, оно претендует быть сознанием философским, такой свободой не располагает. Оно вплетено в язык, последний же никогда не есть язык говорящего, но всегда язык беседы, которую ведут с нами вещи. Язык сегодня представляет собой тот философский предмет, где происходит встреча науки и опыта человеческой жизни.
Подводя итог этим размышлениям, уместно, мне кажется, сказать о диалоге сегодняшней философии с тремя великими собеседниками, выступившими из глубины веков на авансцену нашего сознания. В первую очередь я имею в виду присутствие в современном мышлении греков. Современность греков нашему веку вызвана прежде всего тем, что слово и понятие у них еще не перестали перетекать друг в друга. Бегство в Logoi, которым Платон в «Федоне» положил начало специфически западному направлению метафизики, уже предполагает близость мышления к целостности языкового опыта мира. Греки дали нам образец противостояния догматизму понятия и мании все подводить под систему. Заслуга их в том, что феномены, составляющие главный предмет нашего спора с собственной традицией — самость, самосознание, а также всю связанную с ними сферу этического и политического бытия, — они умели мыслить, не впадая в апории современного субъективизма.
Другого собеседника в ведущемся сквозь века диалоге я вижу в Канте, и кажется он мне таковым потому, что раз навсегда с предельной четкостью установил различие между мыслящим себя мышлением и познанием. Даже если мы отказываемся от кантовского взгляда на познание как на переработку опыта математического естествознания, все равно остается бесспорным, что познание есть нечто иное, чем мыслящее самое себя и не нуждающееся
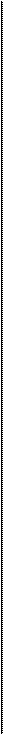
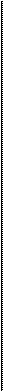
 в опыте мышление. Кант, как я полагаю, это убедительно показал.
в опыте мышление. Кант, как я полагаю, это убедительно показал.
Третьим собеседником я считаю Гегеля — невзирая на его спекулятивно-диалектическое притязание преодолеть кантовскую конечность и выйти за границы, задаваемые опытом. Понятие духа, которое Гегель позаимствовал в традиции христианского спиритуализма, заново вдохнув в него жизнь, еще и сегодня образует основание всей критики субъективного духа, унаследованной нами как задача вместе с опытом послегегелевской эпохи. Понятию духа, выходящего за пределы субъективности ego, имеется действительное соответствие. Это явление языка, все более и более перемещающегося в центр современной философии, и как раз по той причине, что феномен языка, сопоставленный с почерпнутым Гегелем из христианской традиции понятием духа, воздает должное нашей конечности, будучи бесконечным как дух и конечным как всякое событие. Думать, будто в наш век сциентизма нам нечему поучиться у Гегеля, — заблуждение. Предел, который Гегель кладет тотальному онаучиванию мира, не нами самими полагается: он всегда есть нечто такое, что наука уже застает имеющимся в наличии. Именно в неприятии всякого догматизма, в том числе и догматизма науки, мне видится глубоко скрытое и вместе с тем могучее духовное основание нашего века.