Однажды на берегу океана
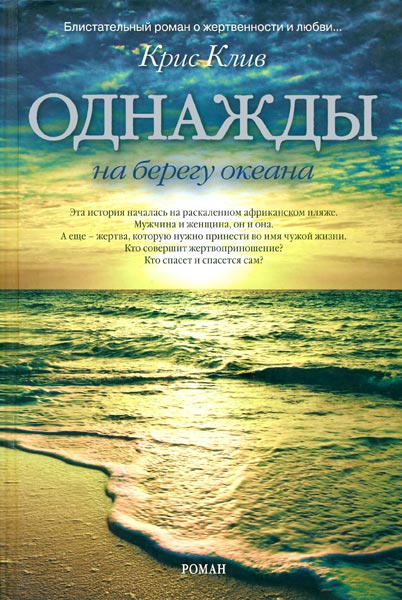
Аннотация
Эта история началась на раскаленном африканском пляже. Эта история ждет, когда вы откроете ее для себя. Эта история заставит вас задуматься. Она заставит вас горько улыбнуться. Она обязательно вас заденет.
В какой-то момент вы отложите ее на некоторое время, чтобы решить, нужно ли вам знать, что будет дальше. Но мы совершенно уверены, что вы вновь возьмете в руки книгу, чтобы прочесть эту историю до конца.
А после — в своих мыслях — вы опять вернетесь на этот пляж.
Вы вернетесь туда снова… и снова… и снова…
Крис Клив
Однажды на берегу океана
Джозефу
Британия гордится своей традицией предоставления надежного убежища людям, спасающимся от преследований и скандалов.
Жизнь в Соединенном Королевстве: путь к гражданству.
Министерство внутренних дел Великобритании, 2005
Чаще всего я жалею о том, что я — не Британская фунтовая монета, а девушка-африканка. Все бы мне радовались. Может быть, я погостила бы у вас в выходные, а потом вдруг, поскольку я такая ветреная и непостоянная, нанесла бы визит хозяину магазинчика на углу. Но вы бы не огорчились, потому что ели бы булочку с корицей или пили бы холодную кока-колу из банки, — и никогда бы обо мне больше не вспомнили. Мы были бы счастливы, как любовники, которые познакомились в отпуске и забыли имена друг друга.
Фунтовая монета может идти туда, где, на ее взгляд, безопаснее. Она может пересекать пустыни и океаны, оставляя позади треск ружейной пальбы и горький запах горящего тростника. Когда ей тепло и уютно, она перевернется и улыбнется вам, как улыбалась моя старшая сестра Нкирука парням в нашей деревне тем коротким летом, когда еще была девочкой, но вот-вот должна была стать женщиной, и конечно же это было до того вечера, когда моя мать увела ее в дальнюю комнату для серьезного разговора.
Конечно, фунтовая монета может быть и серьезной. Она может притвориться и властью, и имуществом, и когда ты девушка, у которой нет ни того, ни другого, это чревато серьезными проблемами. Ты должна попытаться схватить монету и спрятать в карман, чтобы она не убежала в безопасную страну, не взяв тебя с собой. Но монета в один фунт умеет колдовать. Я сама видела: когда за ней гнались, она отбрасывала хвост, будто ящерица, и в итоге оставался всего один пенс. А когда в конце концов удается поймать эту монету, британский фунт способен совершить величайшее чудо — превратиться не в одну, а в две одинаковые американские долларовые купюры. И в руке не остается ничего — вы уж мне поверьте на слово.
Как бы мне хотелось стать британским фунтом. Фунт может спокойно путешествовать туда, где ему безопасно, а нам остается только провожать его глазами. Это — триумф человечества. Это называется глобализацией. Девушку вроде меня останавливают у стойки иммиграционного контроля, а фунт может перепрыгнуть через турникет, ускользнуть из сетей, расставленных здоровяками в форменных фуражках, и впрыгнуть прямо в поджидающее возле аэропорта такси. «Куда едем, сэр?» Западная цивилизация, господи боже. Главное — быстрее вперед.
Вот видите, как мило разговаривает британский фунт? Он говорит голосом английской королевы Елизаветы II. На монете изображено ее лицо, и порой, когда я приглядываюсь хорошенько, я вижу, как шевелятся губы королевы. Я прижимаю монету к уху. Что она говорит? «Отпустите меня немедленно, юная леди, иначе я позову моих телохранителей».
Если бы королева заговорила с вами таким тоном, думаете, вы могли бы ослушаться? Я читала, что у людей, которые окружают ее — даже королей и премьер-министров, — тело как бы само собой реагирует на ее приказы. Тело реагирует раньше, чем мозг успевает задать вопрос: «А если нет?» Я вам так скажу: дело тут не в короне и не в скипетре. И я бы могла напялить корону на мои короткие курчавые волосы и взять в руку скипетр, вот так, а полицейские в своих здоровенных ботинках все равно подошли бы ко мне и сказали: «Симпатичный ансамблик, мэм, а теперь давайте-ка поглядим ваши документы, а?» Нет, вашей страной правят не скипетр и корона королевы. Все дело в том, как грамотно она выражается, а еще — в ее голосе. Вот почему желательно говорить, как она. Тогда вы сможете сказать полисменам голосом чистым и прозрачным, как алмаз «Куллинан»: «Бог мой, да как вы смеете!»
Я и жива-то только потому, что выучила английский, язык, на котором говорит королева. Вам, может быть, кажется, что это не так уж сложно. В конце концов, английский — это государственный язык моей страны, Нигерии. Да, но беда в том, что дома мы говорим по-английски совсем по-другому. Чтобы заговорить на королевском английском, мне пришлось забыть самые чудесные обороты речи моей мамочки. Ну, к примеру, королева ни за что не сказала бы: «Было жуть сколько вахалы, и эта девчонка задницей еще как вертела, чтоб окрутить моего старшенького, а ведь ежу было понятно, что ей дорога под грязные кусты». А королева сказала бы так: «Моя покойная невестка употребила все свои женские чары, чтобы обручиться с моим наследником, и следовало предвидеть, что это закончится плохо». Немного грустно, правда? Изучать королевский английский — это почти то же самое, что снимать ярко-красный лак с ногтей утром после танцулек. Получается долго, а все равно под конец остается немножко красного по краешкам ногтей, и это напоминает тебе, как здорово ты повеселилась. В общем, сами понимаете, училась я медленно. С другой стороны, времени у меня полно. Я ваш язык изучала в центре временного содержания иммигрантов, в Эссексе — это на юго-востоке Соединенного Королевства. Два года меня там держали. Время — это все, что у меня было.
Но зачем мне понадобилось так напрягаться? Да из-за того, что девушки постарше мне втолковывали: чтобы выжить, ты должна хорошо выглядеть, а говорить должна еще лучше. С простушками и молчуньями всегда кажется, что у них с бумагами не все в порядке. Вы говорите: их репатриировали. Мы говорим: их рано отослали домой. Будто ваша страна — это детский праздник, что-то слишком чудесное, чтобы продолжаться вечно. А вот хорошеньким и говорливым — таким разрешают остаться. И тогда ваша страна становится веселой и более красивой.
Я вам расскажу, что случилось, когда меня выпустили из центра временного содержания иммигрантов. Офицер выдал мне какую-то справку, и еще транспортный ваучер, и сказал, что я могу вызвать такси по телефону. Я сказала: «Благодарю вас, сэр, и да будет Господь к вам милосерден, и да наполнит он радостью ваше сердце, и да одарит процветанием ваших близких». Офицер поднял глаза к потолку, будто увидел там что-то очень интересное, и произнес: «Боже». А потом указал в дальний конец коридора и добавил: «Телефон там».
Ну, и я встала в очередь к телефону. Я думала: я ведь просто осыпала этого офицера благодарностями с головы до ног. А королева просто сказала бы: «Благодарю вас» — и все. Да нет, на самом деле королева бы велела этому офицеру, чтобы он сам вызвал такси, а не то она прикажет его пристрелить, отрубить ему голову и выставить ее напоказ перед лондонским Тауэром. Вот тут-то я и поняла, что одно дело — учить королевский английский по книжкам и газетам в маленькой комнате центра временного содержания иммигрантов, а совсем другое — говорить на этом языке с англичанами. Я на себя разозлилась. Я подумала: ты не можешь позволять себе таких ошибок, подруга. Если будешь говорить как дикарка, выучившая английский на корабле, люди сразу поймут, что ты за птица, и сразу отправят тебя домой. Вот так я подумала.
В очереди передо мной стояли три девушки. Нас всех отпустили в этот день. Была пятница. Ясное, солнечное майское утро. Коридор был грязный, а пахло чистотой. Это такой фокус. Полы моют с хлоркой.
За столиком сидел офицер. На нас он не смотрел. Он читал газету. Она лежала перед ним на столике. Это была не Times, не Telegraph и не Guardian — не одна из тех газет, по которым я училась разговаривать на вашем языке. Нет, эта газета была не для таких людей, как вы или я. На фотографии в этой газете была изображена белая девушка, и она была топлес. Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду, потому что мы же говорим на вашем языке. Но если бы я эту историю рассказывала моей старшей сестре Нкируке и другим девушкам из моей родной деревни, тут бы мне пришлось остановиться и объяснить им, что «топлес» не означает, что у этой дамочки на фотографии в газете не было верхней части тела. Это значит, что на верхней части тела у нее нет никакой одежды. Видите разницу?
— Погоди. Даже лифчика нет?
— Даже лифчика.
— Ой!
Потом я стала бы рассказывать дальше, но девушки из моей деревни шептались бы между собой и хихикали бы, прикрывая рот ладошками. А потом, когда я вернулась бы к своей истории про то утро, когда меня выпустили из иммиграционного центра, эти девушки снова меня прервали бы. Нкирука сказала бы:
— Послушай, ладно? Послушай. Чтобы все было ясно. Эта девушка на фотографии в газете. Она была проститутка. Да? Шлюха? Она смотрела себе под ноги, сгорая от стыда?
— Нет, она не смотрела себе под ноги, сгорая от стыда. Она смотрела прямо в камеру и улыбалась.
— Что? В газете?
— Да.
— Значит, в Великобритании не позорно показывать свои сиськи в газете?
— Нет. Это не позорно. Парням это нравится, и в этом нет никакого стыда. Иначе бы эти девушки, «топлес», они бы так не улыбались, понимаете?
— И что же, там все девушки вот так себя показывают? Ходят с голыми сиськами? В церковь так ходят, по улицам, по магазинам?
— Нет, это только в газетах.
— Почему же они все не выставляют свою грудь напоказ, если мужчинам это так нравится и если это не стыдно?
— Я не знаю.
— Ты там больше двух лет прожила, маленькая мисс. Как же так, что ты этого не знаешь?
— Там много такого. Сколько я там прожила, а многое осталось непонятным. Иногда мне кажется, что британцы сами не знают, как отвечать на такие вопросы.
— Ой!
Вот как бы получилось, если бы я стала растолковывать девушкам из моей деревни разные мелочи. Мне пришлось бы объяснять им, что такое линолеум, что такое хлорка, что такое «мягкое порно», мне пришлось бы рассказать им о чудесных превращениях британской монеты достоинством в один фунт так, будто все эти будничные вещи — какие-то чудесные тайны. И очень скоро моя собственная история потонула бы в этом огромном океане диковинок, потому что стало бы казаться, что ваша страна — это заколдованная федерация чудес, а моя история внутри нее совсем маленькая и не волшебная. Но с вами все намного проще, потому что вам я могу сказать: послушайте, в то утро, когда нас выпустили из центра временного содержания, дежурный офицер пялил глаза на фотографию девушки в газете, и девушка была «топлес». Вот зачем я два года учила королевский английский: чтобы мы с вами могли разговаривать вот так, без остановок и объяснений.
Офицер — тот, который рассматривал фото девушки «топлес» в газете, — он был невысокого роста, и волосы у него были белесые, как суп из консервированных грибов, которым нас кормили по вторникам. Запястья у него были тонкие и белые, похожие на электрические провода с пластиковой изоляцией. Форма была ему велика. Плечи форменной куртки по обе стороны его головы поднимались горбиками — так, словно там у него прятались какие-то маленькие зверушки. Я еще представила, как эти зверушки щурятся от яркого света, когда он по вечерам снимает свою форменную куртку. И я подумала: да, сэр, если бы я была вашей женой, я бы лифчик не сняла, спасибо большое.
А потом я подумала: мистер, а почему вы пялитесь на эту девицу в газете, а не на нас — девушек, стоящих в очереди к телефону? А вдруг мы все разбежимся? Но тут я вспомнила: нас же отпустили. Трудно было в это поверить — так много прошло времени. Два года я прожила в этом центре временного содержания. Мне было четырнадцать, когда я приехала в вашу страну, но у меня с собой не было никаких бумаг, чтобы подтвердить мой возраст, вот меня и поместили в один центр вместе со взрослыми. Но вот беда: мужчин и женщин тут держали вместе. На ночь мужчины уходили в другое крыло. После захода солнца их запирали, будто волков в клетке, а днем мужчины были рядом с нами и ели ту же самую еду, что и мы. И все равно мне казалось, что они голодные. Мне казалось, что они смотрят на меня жадными глазами. И когда девушки постарше стали шептать мне: «Чтобы выжить, ты должна хорошо выглядеть или хорошо говорить», я решила, что для меня будет лучше выучиться хорошо говорить.
Я всеми силами старалась не вызывать у мужчин желания. Я редко мылась, и кожа у меня стала жирной. Груди я туго обвязывала широкой полосой хлопчатобумажной ткани, чтобы они казались маленькими и плоскими. Когда из благотворительных фондов привозили коробки, набитые ношеной одеждой и обувью, некоторые девушки старались приодеться как можно лучше, а я все время искала для себя одежду, которая помогала бы мне спрятаться, скрыть мои формы. Я носила мешковатые синие джинсы, мужскую гавайскую рубаху и тяжелые черные ботинки со стальными носками, просвечивавшими через прохудившуюся кожу. Я сходила к медсестре и упросила ее, чтобы она меня очень коротко подстригла своими медицинскими ножницами. Два года я не улыбалась и даже не смотрела в глаза ни одному мужчине. Мне было страшно. Только по ночам, когда мужчин запирали в другом крыле, я уходила в свою комнатку, развязывала тряпку на груди и глубоко дышала. Потом снимала ботинки, садилась и прижимала колени к подбородку. Раз в неделю я садилась на поролоновый матрас на кровати и красила ногти на ногах. На дне одной из коробок, присланных из благотворительного фонда, я нашла маленькую бутылочку с лаком для ногтей. На ней даже ценник сохранился. Если я когда-нибудь встречу человека, который отдал в фонд этот пузырек, я ему (или ей) скажу, что эта бутылочка с лаком за один фунт и девяносто девять пенсов спасла мне жизнь. Потому что, крася лаком ногти на ногах, я напоминала себе, что я еще жива: под стальными носками тяжелых ботинок я прятала ярко накрашенные ногти. Иногда, снимая ботинки, я едва сдерживала слезы, и качалась вперед и назад, и дрожала от холода.
Моя старшая сестра Нкирука стала женщиной под африканским солнцем, и кто может винить ее, если африканское солнце такое жаркое, что распалило ее, что она стала вертлявой и кокетливой? Кто бы, прислонившись к столбику веранды у своего дома, не улыбнулся бы добродушно, глядя на мою мать, укоризненно говорящую: «Нкирука, доченька, ты не должна так улыбаться взрослым парням»?
А я… Я была женщиной под белыми лампами дневного света, в подвальной комнатушке центра временного содержания, в сорока милях от Лондона. Там не было времен года. Там было холодно, холодно, холодно, и некому мне было улыбаться. Те холодные годы превратились в льдинку внутри меня. Та африканская девчонка, которую заперли в центре временного содержания, бедняжка, она не ушла безвозвратно. В моей душе она до сих пор заперта там, навсегда, под безжалостным светом ламп дневного света, она так и сидит на зеленом линолеумном полу, согнув ноги в коленях и прижав к ним подбородок. А та женщина, которую выпустили из центра временного содержания, то существо, которое я собой представляю, — это совсем другой человек. Новая порода. Во мне нет ничего естественного. Я родилась — вернее, переродилась — в плену. Я выучила ваш язык по вашим газетам, я одета в ваши обноски, и мои карманы болят из-за того, что в них нет вашего фунта. Будьте добры, представьте себе рекламную вырезку из журнала Save the Children [1]: улыбающаяся молодая женщина, одетая во что-то розовое, поношенное, вынутое из мусорного бака на стоянке возле вашего местного супермаркета, которая говорит по-английски так, как пишут в передовых статьях Times. Я бы перешла на другую сторону, чтобы с собой не встретиться. Честно говоря, это единственное, в чем согласны между собой люди из вашей страны и люди из моей. Они говорят: «Эта девчонка-беженка — не одна из нас. Этой девчонке среди нас не место». Эта девчонка — полукровка, дитя, родившееся от неестественного союза, незнакомое лицо при свете луны.
Итак, я беженка, и мне бывает очень одиноко. Моя ли вина в том, что я не выгляжу как англичанка и не говорю как нигерийка? А кто говорит, что англичанка должна иметь кожу бледную, как облака, проплывающие над ней летом? Кто говорит, что нигерийка обязана говорить по-английски неграмотно, будто английский язык столкнулся с языком ибо[2]где-то высоко-высоко, в атмосфере, и пролился дождем, и попал ей в рот, и она чуть не захлебнулась, и ей остается только рассказывать истории про яркие африканские краски и вкус жареного плантайна[3]? Причем рассказывать не просто так, а так, словно она несчастная, которую спасли во время наводнения, и она до сих пор выкашливает из своих легких колониальную воду.
Простите меня за то, что я слишком хорошо изучила ваш язык. Я здесь для того, чтобы рассказать вам настоящую историю. Я не для того пришла, чтобы поговорить с вами про яркие африканские краски. Я — переродившаяся гражданка развивающейся страны, и я докажу вам, что цвет моей жизни — серый. А если так уж обязательно нужно, чтобы я втайне обожала жареный плантайн, тогда пусть это останется между нами, и я вас умоляю: никому не рассказывайте. Ладно?
В то утро, когда нас отпустили из центра временного содержания, нам отдали все наши личные вещи. Я держала свои вещи в прозрачном пластиковом пакете. Карманный английский словарь Collins Gem, пара серых носков, серые шорты, водительское удостоверение (не мое) и промокшая, а потом высушенная визитная карточка (тоже не моя). Если так уж хотите знать, эти вещи принадлежали белому мужчине по имени Эндрю О’Рурк. Я встретила его на берегу моря.
Вот этот маленький пластиковый пакет я держала в руке, когда сотрудник центра временного содержания велел мне пойти и встать в очередь к телефону. Девушка, стоявшая первой, была высокая и красивая. Ее оружием была красота, а не грамотная речь. Я тогда подумала: кто из нас двоих сделал лучший выбор, чтобы выжить? Эта девушка выщипала себе брови, а потом нарисовала их карандашом. Вот что она сделала, чтобы спасти себе жизнь. На ней было лиловое платье с открытыми плечами и рисунком из розовых звездочек и полумесяцев. Волосы она повязала симпатичным розовым шарфом, а на ногах у нее были лиловые шлепанцы. Я подумала, что ее, наверное, долго держали в нашем центре временного содержания. Понимаете, нужно очень долго копаться в коробках с поношенными вещами, чтобы собрать вот такой ансамбль.
На коричневых икрах девушки я заметила много маленьких белых шрамов и подумала: может быть, ты вся покрыта этими шрамиками, как твое платье — звездочками и полумесяцами? Я подумала, что это было бы красиво, и теперь я хочу попросить вас согласиться со мной в том, что шрамы — это вовсе не уродливо. Просто те, кто оставляет шрамы, хотят, чтобы мы с вами так думали. Но мы с вами должны прийти к согласию и возразить им. Мы должны считать все шрамы красивыми. Договорились? Это будет наш секрет. Потому что у тех, кто умирает, шрамов не бывает. Шрам означает: «Я выжил».
Еще немного — и я скажу вам несколько горьких слов. Но вам все равно придется выслушать их, как придется согласиться с тем, что я только что сказала насчет шрамов. Горькие слова — это тоже красиво. Печальная история означает, что тот, кто ее рассказывает, жив. И вы понимаете, что с ней, с рассказчицей, вот-вот произойдет нечто чудесное, и тогда она обернется и улыбнется.
Девушка в лиловом платье с открытыми плечами и шрамиками на ногах уже говорила с кем-то по телефону:
— Алё, такси? Ну, вы за мной подскакать, да? Здорово. Чего ты говорить? Откуда я? Я-то с Ямайки, милок, представлять себе. А? Чего? Откуда я щас звонить? Погоди, щас скажу.
Она прикрыла трубку рукой, обернулась к девушке, стоявшей за ней, и сказала:
— Послушать меня, дорогуша, как это место называться, где мы щас торчать?
Но та девушка посмотрела на нее и пожала плечами. Она была тоненькая, кожа у нее была темно-коричневая, а глаза зеленые, как леденец, когда его обсосешь и посмотришь сквозь него на луну. Девушка была такая хорошенькая, что даже и не расскажешь. На ней было желтое сари. Она держала такой же прозрачный пластиковый пакет, как у меня, но в нем ничего не было. Мне сначала показалось, что пакет пустой, и я подумала: зачем он тебе, девушка, если в нем ничего нет? Через пакет просвечивала ткань ее сари, и я решила, что пакет просто наполнен лимонно-желтым цветом. Больше у нее ничего не было в тот день, когда нас отпустили из центра временного содержания.
Эту девушку, вторую, я немного знала. Мы две недели прожили в одной камере, но я с ней ни разу не разговаривала. Она по-английски ни слова не говорила. Вот почему она просто пожала плечами, крепко сжимая в руке свой пустой прозрачный пакет. А та, которая говорила по телефону, закатила глаза — совсем как офицер, которого я поблагодарила на прощание.
А потом эта девушка обратилась к той, которая в очереди стояла третьей, и спросила:
— Ты хоть знаешь, как это место называться, где мы щас?
Но и третья девушка этого не знала. Промолчала. На ней были голубая футболка, синие джинсы и белые кроссовки Dunlop Green Flash, и она просматривала содержимое своего прозрачного пластикового пакета, а ее пакет был набит письмами и документами. Там было так много разных бумажек, и все мятые, в жирных пятнах, и ей приходилось одной рукой придерживать пакет снизу, чтобы он не порвался. Эту девушку я тоже немного знала. Она была некрасивая, и с языком у нее тоже было не очень, но знаете, есть еще одно, что может вас спасти от того, чтобы вас рано отправили домой. У этой девушки вся ее история была записана — официально. И в конце этой записанной истории стояли печати. Печати были красные, они подтверждали, что все написанное ПРАВДА. Помню, она как-то раз рассказала мне свою историю. Что-то вроде: Пришли-люди-и-они-
сожгли-мою-деревню-
связали-моих-девочек-
насиловали моих девочек -
забрали-моих-девочек-
избили-моего-мужа-
отрезали-мне-грудь-
я-бежала-через-лес-
нашла-корабль-
переплыла-через-море-
а-потом-меня-отправили-сюда. Примерно такая история. Я в центре временного содержания таких историй столько наслушалась, что у меня голова шла кругом. У всех девушек истории начинались так: Пришли-люди-и-они-. И все истории заканчивались словами а-потом-меня-отправили-сюда. Все истории были грустные, но мы с вами уже договорились насчет грустных слов. А эта девушка — стоявшая третьей в очереди к телефону, — она была такая грустная из-за своей истории, что даже не знала названия места, где сейчас находится, и знать не хотела. Это не вызывало у нее любопытства.
Ну, и девушка у телефона снова спросила:
— Чего? И ты туда же? Тут чего, никто не знать, где мы все щас?
Тут третья девушка в очереди возвела глаза к потолку, а та, которая держала в руке телефонную трубку, посмотрела на потолок во второй раз. А я стояла и думала: ну вот, офицер из центра временного содержания посмотрел на потолок один раз, третья девушка — один раз, а первая — два раза, так, может быть, на потолке есть какой ответ? Может быть, там есть что-то веселое? Может, на потолке написаны какие-то истории вроде: пришли-люди-и-они-
подарили-нам-яркие-платья-
принесли-хворост-для-костра-и-
рассказывали-смешные-анекдоты-
пили-с-нами-пиво-и-
гонялись-за-нами-а-
мы-хохотали-а-они-
сделали-так-что-комары-перестали-кусаться-и-
научили-нас-ловить-британскую-фунтовую-монету-и-
превратили-луну-в-сыр-
Ну да. А потом меня отправили сюда.
Я посмотрела на потолок, но там ничего не было, кроме белой краски и ламп дневного света.
Девушка, стоявшая у телефона, наконец посмотрела на меня. И я ей сказала:
— Это место называется Центр временного содержания иммигрантов «Блэк Хилл».
Девушка округлила глаза.
— Шутишь, да? — Она хмыкнула. — Это разве так может место называться?
А я указала на маленькую металлическую табличку, прикрепленную шурупами к стене над телефоном. Девушка глянула на эту табличку, снова посмотрела на меня и сказала:
— Прости, дорогуша, я тут ни черта не разбирать.
И я прочла для нее все, что было написано на табличке, показывая пальцем на каждое слово по очереди. ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИММИГРАНТОВ «БЛЭК ХИЛЛ», ХАЙ ИСТЕР, ХЕЛМС-ФОРД, ЭССЕКС.
— Спасибо, дорогуша, — кивнула девушка и проговорила в трубку: — В общем, слушать, мистер, я тут щас в этом… Короче, временный центр «Блэк Хилл», так, кажись. Чего? Погоди. Да погоди ты!
Она вдруг стала печальная и повесила трубку.
— Что случилось? — спросила я.
Девушка ответила со вздохом:
— Этот таксист гребаный говорить, что не забирать нас отсюдова. И еще говорить: «Вы не люди, а плесень». Ты знать, что это значить?
Я сказала, что не знаю, потому что и вправду точно не знала. И я вытащила из пакета карманный толковый английский словарь Gollins Gem и поискала это слово. Нашла и сказала девушке, стоявшей у телефона:
— Это значит, что ты «слой грибковой растительности, образующийся на поверхности испорченного продукта».
Девушка непонимающе посмотрела на меня, и мы обе рассмеялись, потому что не сообразили, как это понимать. У меня всегда возникали такие сложности, когда я изучала ваш язык. Каждое слово способно себя защитить. Только тебе кажется, что ты улавливаешь смысл, как слово может разделиться на два разных значения, и ты уже ничего не понимаешь. Я вами восхищаюсь. Вы просто как волшебники. Заколдовали свой язык, как и свои деньги.
В общем, я и та девушка, которая стояла первой в очереди к телефону, смеялись, глядя друг на дружку, и я держала свой прозрачный пакет, а она держала свой прозрачный пакет. У нее в пакете лежали карандаш для бровей, пинцет и три колечка сушеного ананаса. Девушка заметила, что я смеюсь и смотрю на ее пакет, и перестала хихикать.
— И на чего ты пялиться? — спросила она.
Я сказала, что не знаю.
А она заявила:
— Знаю я, чего ты думать. Ты думать вот чего: ну вот, такси за ней не приезжать ни фига, и далеко ли она потопать с карандаш для бровей, пинцет и три кусочек ананас?
А я ей сказала:
— Может быть, ты могла бы воспользоваться карандашом для бровей, чтобы написать на листочке: «ПОМОГИТЕ», а потом ты могла бы отдать кусочки ананаса первому, кто помог бы тебе.
Девушка посмотрела на меня как на ненормальную.
— Слушать, дорогуша, — медленно проговорила она. — Раз, у меня нету бумажка, чтоб писать записка. Два, писать и не уметь ни фига, я только уметь рисовать брови. И три, эти ананас я есть сама.
Она сделала большие глаза и уставилась на меня.
Пока все это происходило, девушка, стоявшая в очереди второй — та, что была в лимонно-желтом сари, с пустым прозрачным пакетом, — стала в очереди первой. Она взяла трубку и стала что-то шептать на каком-то языке, звучавшем так, будто мотыльки тонут в меду. Я тихо похлопала ее по плечу, потянула за краешек ее сари и сказала ей:
— Пожалуйста, ты должна попробовать поговорить с ними по-английски.
Девушка в сари глянула на меня и перестала лопотать на своем мотыльковом языке. Очень медленно и неуверенно, будто вспоминая слова, привидевшиеся ей во сне, она проговорила в телефонную трубку:
— Англия. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, спасибо, я хочу идти в Англию.
После этих слов девушка в лиловом платье с открытыми плечами наклонилась и почти прижалась носом к носу девушки в лимонно-желтом сари, постучала пальцем по ее лбу и, сложив губы, издала звук, похожий на тот, который получился бы, если бы рукояткой швабры постучали по пустому ведру.
— Бонг! Бонг! — произнесла она, глядя в упор на девушку в сари. — Ты уже есть в Англия, понимать? — И направила оба указательных пальца на линолеумный пол. — Это есть Англия, дорогуша, или ты не видеть? Прям тут, ага? Уже тут мы.
Девушка в желтом сари молчала, распахнув свои зеленые глаза, похожие на леденцовые луны. А девушка в лиловом платье — девушка с Ямайки — сказала:
— А ну дать-ка сюда.
Она выхватила телефонную трубку у девушки в сари и проговорила:
— Слушайте, ждите минутка, пожалста…
Но тут она умолкла и протянула трубку мне. Я приложила ухо к трубке, но услышала только длинный гудок. Я повернула голову к девушке в сари.
— Нужно сначала набрать номер, — сказала я. — Понимаешь? Сначала набери номер, а потом скажи таксисту, куда ты хочешь поехать. Хорошо?
Но девушка в сари только прищурилась и крепче прижала к себе свой пустой прозрачный пакет, будто испугалась, что я отберу его у нее, как другая девушка отобрала телефонную трубку. Девушка в лиловом платье повернулась ко мне.
— Ни фига так не получаться, дорогуша, — сказала она со вздохом. — Бог свои детишки звать домой скорей, чем этот деваха вызывать такси. — Она снова протянула мне телефонную трубку и добавила: — Ну-ка, лучше ты говорить.
Я указала на девушку, стоявшую в очереди третьей — ту, которая была в голубой футболке, синих джинсах, белых кроссовках и с полным пакетом документов.
— Как насчет нее? — спросила я. — Она стоит в очереди передо мной.
— Угу, — кивнула девушка в лиловом платье, — да только у нее нету ни фига му-ти-ВАЙ-ции. Прально я говорить, дорогуша? — И она воззрилась на девушку с полным пакетом документов, но та только пожала плечами и стала разглядывать свои белые кроссовки Dunlop Green Flash. Девушка в лиловом платье снова обратилась ко мне: — Давай ты, дорогуша. Уж поболтать с ними, пускай нас увозить, а не то еще они передумать и опять нас тут запирать.
Я посмотрела на телефонную трубку. Она была серая и грязная, и мне стало немного страшно. Я посмотрела на девушку в лиловом платье.
— Куда ты хочешь поехать? — спросила я.
— Да на все четыре, — ответила она.
— Прошу прощения?
— Без разница, дорогуша.
Она это таким тоном произнесла, будто сделала мне большое одолжение.
— Доброе утро. Я хотела бы вызвать такси, пожалуйста.
— Вам кеб нужен?
— Да. Пожалуйста. Такси-кеб. Четыре пассажирки.
— Откуда?
— От центра временного содержания иммигрантов «Блэк Хилл». Это в Хай Истер, недалеко от Хелмс-форда.
— Знаю я, где это. А теперь послушай меня…
— Пожалуйста, все в порядке. Я знаю, вы не возите беженцев. Мы не беженки. Мы уборщицы. Мы тут прибираем.
— Уборщицы, говоришь?
— Да.
— Правду говоришь? А то ведь, если бы мне приплачивали по фунту за каждого гребаного иммигранта, который в такси садится, а потом не знает, куда ему ехать надо, и начинает моему водителю мозги конопатить своим суахили, а потом еще пытается сигаретами расплатиться, я бы сейчас в гольф играл, а не с тобой разговаривал.
— Мы уборщицы.
— Ладно. Ты-то точно говоришь не как беженка. Куда ехать-то?
Я запомнила тот адрес, который был указан на водительском удостоверении, лежавшем в моем прозрачном пластиковом пакете. Эндрю О’Рурк — белый мужчина, с которым я встретилась на берегу: он жил в Кингстоне-на-Темзе в английском графстве Суррей. Я проговорила в рубку:
— В Кингстон, пожалуйста.
Девушка в лиловом платье схватила меня за руку и зашипела:
— Ты что, дорогуша, того? Куда угодно, только не на Ямайка! Да меня там угробить в один момент, как только увидать!
Я сначала не поняла, почему она так испугалась, но теперь понимаю. Есть Кингстон в Англии, а есть еще Кингстон на Ямайке, только там совсем другой климат. Вот еще над чем потрудились ваши волшебники. У вас даже города с двумя хвостами.
— Кингстон? — переспросил тот мужчина, с кем я говорила по телефону.
— Кингстон-на-Темзе, — уточнила я.
— Так это же черт знает где, да? Это же в этом, как его…
— В Суррее, — подсказала я.
— В Суррее. Ага. Четыре уборщицы из гребаного Суррея, так, что ли?
— Нет. Мы уборщицы и живем поблизости. Но нас посылают на работу в Суррей. Нужно там прибраться.
— Наличка, безналичка? — устало спросил мужчина.
— Прошу прощения?
— Наличными платить будете или центр ваш гребаный деньги на счет переведет?
— Мы расплатимся наличными, мистер. Расплатимся, когда доедем.
— Только попробуйте не расплатиться.
Еще минуту я слышала его указания, а потом нажала на рычаг. Послышался гудок. Я набрала другой номер. Этот номер был указан на визитной карточке, которая тоже лежала в моем пластиковом прозрачном пакете. Карточка была мокрая, когда я подобрала ее, а потом высохла и покоробилась, и я не могла разобрать последнюю цифру — 8 или 3. Я набрала 8, потому что в моей стране нечетные числа приносят неудачу, а неудач мне и так уже хватало.
Трубку взял мужчина. Он был сердит.
— Кто это? Черт, сейчас шесть утра.
— Это мистер Эндрю О’Рурк?
— Да. А вы кто?
— Могу я приехать и повидаться с вами, мистер?
— Черт побери, да кто это говорит?
— Мы познакомились на пляже в Нигерии. Я вас помню очень хорошо, мистер О’Рурк. Я сейчас в Англии. Могу я повидать вас и Сару? Мне больше некуда поехать.
Мой собеседник долго молчал, потом кашлянул и расхохотался:
— Это чепуха какая-то! Кто это говорит? Предупреждаю, мне то и дело названивают какие-то чокнутые. Оставьте меня в покое, иначе вам не поздоровится. Моя газета за всем следит. Этот звонок вычислят, выяснят, кто вы такая, и вас арестуют. И вы будете не первая.
— Вы не верите, что это я?
— Просто оставьте меня в покое. Понятно? Слышать ничего не хочу. Это случилось черт знает как давно, и я ни в чем не виноват.
— Я приду к вам. Тогда вы поверите, что это я.
— Нет.
— Я больше никого не знаю в этой стране, мистер О’Рурк. Извините. Я просто говорю вам это, чтобы вы были готовы.
Мужчина перестал злиться. Он издал негромкий звук, будто ребенок, который боится того, что может случиться. Я повесила трубку и повернулась к другим девушкам. Сердце у меня стучало так часто, что я испугалась, как бы меня не стошнило прямо тут, на линолеумный пол. Другие девушки смотрели на меня нервно, с ожиданием.
— Ну? — произнесла девушка в лиловом платье.
— А? — отозвалась я.
— Такси, дорогуша! С такси-то чего?
— Ах да, такси. Он сказал, что кеб подъедет за нами через десять минут. Сказал, чтобы мы ждали снаружи.
Девушка в лиловом платье улыбнулась:
— Меня звать Йеветта. С Ямайка я. А от тебя бывать польза, дорогуша. Тебя-то как звать?
— Меня зовут Пчелка.
— Это чего за имечко?
— Это мое имя.
— Да ты откудова родом-то? Где это девочка называть как какой-нибудь мошка?
— В Нигерии.
Йеветта расхохоталась. Смех у нее был заливистый и басовитый. Так смеются самые главные злодеи в фильмах про пиратов.
— Ву-ха-ха-ха-ха!
Телефонная трубка, лежавшая на рычаге, задребезжала.
— Нии-хер-ии-яаа! — вскричала Йеветта и сказала двум другим девушкам — той, что была в сари, и той, у которой пакет был битком набит документами: — Пошлите с нами. Мы с вами быть Объединенный Нация, и сёдня у нас главная Нии-ХЕРРИЯ. ВУ-ха-ха-ха-ха!
Йеветта продолжала смеяться и тогда, когда мы вчетвером проходили мимо стола дежурного, к дверям. Дежурный офицер в этот момент оторвал глаза от газеты. Девушка «топлес» уже исчезла — офицер перевернул страницу. Я на ходу бросила взгляд на газету. Заголовок на новой странице говорил: БЕЗДОМНЫЕ ПОЕДАЮТ НАШИХ ЛЕБЕДЕЙ. Я посмотрела на дежурного, но он на меня смотреть не стал. Он прикрыл заголовок рукой, но сделал это так, будто ему нужно было почесать локоть. А может, ему и вправду было нужно локоть почесать. Я вдруг поняла, что ничего не знаю об этом человеке, кроме того, что его боюсь. На тебе форма, которая тебе велика, ты сидишь за столиком, который тебе слишком мал, у тебя восьмичасовая смена, и она кажется тебе слишком длинной, а тут вдруг появляются четыре девицы. У одной — три килограмма документов и никакой мотивации. У другой — зеленые, как леденцы, глаза и желтое сари, и она такая красотка, что на нее долго смотреть трудно, потому что иначе твои собственные глаза