Светлана Рафаэлевна Варфоломеева. «Машка как символ веры»
Автор повести «Машка как символ веры» – доктор медицинских наук, профессор, главный детский онколог Центрального федерального округа РФ. Заведует отделением детской и подростковой онкологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии. Когда заболевает Машка – вредная и противная маленькая Машка, – вся семья сплачивается вокруг нее. Беда переворачивает привычную налаженную жизнь вверх тормашками, заставляя забыть о ненужных спорах, ссорах и обидах, выдвигая на первый план «затертые» буднями вечные ценности – любовь, дружбу, верность, мужество и стойкость, умение прощать, верить и надеяться на лучшее. Для среднего и старшего школьного возраста.
Светлана Рафаэлевна Варфоломеева
Машка как символ веры
Повесть
Савковой Римме Федоровне, человеку, который каждый день меняет мир.

Эта история произошла на самом деле.
Вернее, не произошла, а происходила.
Только у ее героев были другие имена. Я хотела пожелать здоровья тем, кто остался с нами, и вспомнить тех, кто ушел.
Вера

Все были озабочены вопросом, где находится Страна чудес. Вопрос, казалось бы, странный, но очень актуальный для нашей семьи сегодня. Машка плакала уже третий час и с предложенными вариантами Страны чудес не соглашалась. Папа предположил, что Страна чудес – в деревне у бабушки, на что моя сестра, сделав трагическое лицо, ответила: «Молоко», и ее тут же вырвало. От молока ее рвало и до болезни, но сейчас это выглядело особенно трагично.

Папа был выслан на кухню, где и раздумывал над этим вопросом уже довольно длительное время.
Еще два дня назад все было хорошо. Мы гуляли в парке, я ругалась с мамой, потому что теоретически идти на день рождения к Светке мне разрешили, но уйти с него я должна была до начала тусовки.
Папа держался индифферентно, вероятно, признавая, что я права, но на конфликт с мамой не шел по политическим соображениям. Он собирался в субботу поехать на рыбалку с дядей Борей, что само по себе являлось преступлением, – это во-первых. А во-вторых, у мамы на субботу были грандиозные планы, не могу уточнить какие, потому что новые варианты возникали каждые пять минут, но отец присутствовал в них как основное действующее лицо постоянно.

А вчера у Маши поднялась температура.
До вечера еще была надежда, что это случайность из серии «съела что-нибудь или перекаталась на каруселях». Но ночью у нее из носа пошла кровь, а к утру на руках и ногах появилась какая-то сыпь и синяки. Мама сказала: «Догулялись». И все остались дома.

В середине дня пришла врач из детской поликлиники – толстая противная тетка, у которой были по-разному накрашены глаза; видимо, она красилась в темноте и стоя спиной к зеркалу. Правый глаз был изумрудно-зеленым, левый тоже оригинальный, но с сероватым оттенком.
– Мамочка, девочка у вас падает постоянно, куда вы смотрите?
Мама пыталась спорить.
– Мамочка, не надо говорить фантазию. Если ребенок не падает, синяков у него не бывает.
– А сыпь откуда? А температура?
Тетка удивилась такой настойчивости:
– Оттуда же, следить надо за детьми.
Врач говорила так, будто нашей семье уже вынесли смертный приговор за издевательство над детьми, а мы все еще никак не могли понять почему.
– Ее рвало, – не сдавалась мама.
– Вы знаете, какая у меня зарплата? – неожиданно спросила врач.
– Какая? – удивилась я.
– Девочка, а ты вообще выйди. Так вот, зарплата у меня такая, что за нее я могу только смотреть больных, а воспитывать вас – нет. Назначаю капли в нос и в следующий раз на дом не приду.
Врач ушла. Мама стала кидаться мелкими кухонными предметами. Потом сказала:
– Это ты виновата, ты разозлила ее своим дурацким вопросом. Это, в конце концов, неприлично – в четырнадцать лет лезть во взрослые разговоры.
Тут папа неожиданно пришел мне на помощь. Он понял, что на рыбалку все равно не поедет, и перестал маскироваться:
– Мать, оставь дочь.
Дальше я рассказывать не буду, скажу только, что вовремя улизнула с кухни к Машке. На кухне шум стоял долго. Машка была какая-то бледная и сонная. Конечно, она и до семи лет сто раз болела, но такой синей никогда не была. Читать вслух не разрешила, в куклы играть не стала, а, отвернувшись лицом к стене, тихо сопела. Мне стало как-то не по себе. Как будто в горле ползали муравьи. Я пошла к родителям.

– Дураки! – сказала я им. – У вас ребенок болеет, а вы грызетесь из-за дуры полудурочной, хоть бы на Машку посмотрели.
Дураки перестали ругаться и одновременно изъявили желание посмотреть на дочь, однако в дверь вместе не пролезали. Победила мама, ну, это как обычно. Машка не повернулась к ним и продолжала сопеть. А потом ее снова стало рвать, с кровью.

Первым опомнился отец. Он вызвал «скорую». «Скорая» приехала, но не скоро, часа через два. Когда она приехала – как потом рассказала соседка тетя Катя, врачи ругались за ложный вызов, обещая нас оштрафовать, – мы были уже далеко, мы везли Машку в больницу.
Отец

Все решения, как всегда, принимаю я. Она кричит, ругается, но толку чуть. Когда я влюбился в нее на третьем курсе института, меня подкупило именно это – шумная, веселая, – но все решения принимал я. За шестнадцать лет шумность и веселость превратились в крикливость и раздражительность, а неумение принимать решения никуда не делось.
А Вера, вбежав на кухню, обозвала нас дураками! Да если бы я жил с другой женщиной, никто бы не посмел так разговаривать со мной. «Дураки». Да я своего отца чуть ли не на «вы» называл. Вся в мать.
Больше всего меня раздражала неопределенность. И Вера болела, но как-то понятно: «температура – сопли – кашель – таблетки», как-то определенно. Машка лежит и сопит, синяки какие-то. Если Вера не врет, то и не падала она, да и синяков было столько и в таких разных местах, что упасть так нельзя. И ее рвет, и не разговаривает.
В больнице нас приняла усатая медсестра. Она молча списывала данные с моего паспорта в историю болезни. Только сейчас до меня дошло, что Машу могут оставить в больнице. Раньше мне казалось, что придет нормальный врач, даст указания, которые мы выполним, и поедем домой. Но, по-видимому, здесь рассуждали по-другому и сразу решили взять нас в оборот.
– А ведь врач не смотрел, вдруг нас не будут класть?
Мысли моей жены текли в том же направлении. Усатая подняла на нас глаза и сказала:
– Отойдите от стола.
Я много раз сталкивался с медициной раньше, но те встречи были другими. Сегодня нам попадались медицинские работники с парадоксальным мышлением. Через некоторое время после довольно прохладного приема я понял, что ее раздражение было адресовано не только нам. Усатая позвонила по телефону. Сначала просто сказала:
– Педиатра в приемник!
Даже если бы педиатр сидел под ее собственным столом, он не успел бы выскочить оттуда, как она снова схватилась за трубку:
– Я уже второй раз вам звоню. Пьете там чай, а тут девка помирает.
Сзади я услышал стук, это моя жена потеряла сознание. Потом долго бегали с нашатырем, махали над Ириной газетами, и усатая оправдывалась человеческим, нормальным голосом:
– Да это я чтобы поскорей спустились, а вы падать.
Машка лежала с закрытыми глазами и на всю эту суету не обращала внимания. Наконец пришел педиатр, вернее, педиатрица. Это была стройная высокая девушка лет двадцати, и только тут я понял, какой у усатой грязный халат. На девушке все блестело и сверкало белизной. Ирка стала рассказывать нашу историю не очень связно, Верка изучала фигуру молодой докторицы, и мне казалось, что стало как-то спокойнее и с Машкой ничего не случится. Она послушала нас, покивала головой и сказала:
– Зоя Матвеевна, вызови лабораторию, анализ крови и в отделение.

Мама

…и сказала: «Зоя Матвеевна, вызови лабораторию, анализ крови и в отделение». Но почему в нашей семье всегда так? Почему все решения должна принимать я? Почему? Я должна думать обо всем, но я ведь тоже работаю. Жора обижается – рыбалка, рыбалка… А палас, а кран? Ведь это и его дом, в конце концов. Именно в эту самую субботу, когда надо все делать, его тянет на рыбалку.
И Машка еще болеет. А Верка сказала отцу: «Дурак», вошла на кухню и сказала: «Дурак». Конечно, она права, но с отцом так нельзя. Потом, когда с Машкой все нормализуется, я с ней поговорю. И этот день рождения, там все перепьются, будут пробовать наркотики. Да, мне звонила Светкина мать, просила Веру отпустить, сказала, что будет с ними все время. Но она же не уследит. Точно обкурятся и напьются.
Нет, нет, нет. Сейчас все решится с Машкой, и я поговорю. Машу подняли в отделение, вернее, это я ее подняла, потому что несла на руках. Потом снова пришла девочка-врач, наверное, она студентка, очень молодая, и мне, честно говоря, доверия не внушила. «Ничего, – подумала я, – завтра придут другие врачи». Но то, что она говорила, не укладывалось у меня в голове. Сначала оказалось, что надо ставить капельницу, потом – что надо переливать кровь и что синяки и сыпь – от недостатка каких-то клеток крови, и я сама должна дать согласие на все эти манипуляции. Позовите Жору!

Вера

– Позовите Жору!
Мама так неожиданно закричала, что мы ломанулись в ординаторскую. Конечно, мы оба подслушивали, но слушали не чужие тайны, а свои. Меня, правда, сразу выгнали, и я пошла в палату, где лежала Машка. Молча сидела с ней рядом и вспоминала, когда в жизни мне было страшней, чем сейчас. Машка, капризная и нахальная младшая сестра, тихо сопела и, когда я хотела ее погладить, стала сопеть сильнее и даже застонала. Мне было страшно, когда умерла бабушка, когда Олег Прунов показал всем мою записку про любовь во втором классе. И еще страшно прыгать через козла, но это был другой, какой-то ненастоящий страх.
Потом пришла мама. И вообще меня не заметила, только лицо у нее было серое. Я пошла искать папу. Он курил на лестнице и тоже не заметил меня. Как-то надо было начать разговор, но мне стало совсем страшно, и я молча стояла рядом. Потом пошла слоняться по коридору.
В холле сидели две медсестры, одна худая и старая, вторая совсем худая и очень старая, старше моей мамы.
– Ты сестра Богдановой? Вот горе-то.
Я знала один секрет про взрослых: если молчать и делать вид, что понимаешь, о чем идет речь, они скажут гораздо больше. А главное, надо повторять их последние слова.
– Горе, – повторила я.
– Такая маленькая, и рак. Второй раз за всю жизнь вижу.
Моя стратегия разговора рассыпалась, как карточный домик.
– У кого рак? У Машки?
– А тебе родители не сказали? Иди, иди.
И обе сделали вид, что пишут что-то в толстых журналах. Я пошла на лестницу, там никого не было. Побрела обратно в палату, мне нужно было срочно увидеть кого-то из родителей. Папа сидел на детском стульчике около дверей палаты. Он молчал и не отвечал на мамины вопросы.

Мама

И не отвечал на мои вопросы, растирая слезы по лицу ладонями. Я очень хотела проснуться и оказаться дома. Но, по-видимому, я не спала.
– Перестань, завтра придут другие врачи, она просто перепутала, она молодая.
Вера

Она просто перепутала, она молодая. Но я видела мамино лицо и понимала, что она сама не верит в то, что говорит:
– Я хочу узнать, что с Машуком.
Муравьи расползлись по всему горлу, и говорить было невозможно. Мама посмотрела на меня, как будто первый раз увидела.

– Мама, это я, Вера, и я тоже хочу узнать, что с Машкой.
Отец встал, обнял меня и голосом человека, похоронившего всех родственников одномоментно, сказал:
– Доктор считает, что у Маши рак крови.
– Па-а-па! Во-первых, рак бывает какого-то одного органа. Вот у бабушки было что? Рак желудка. У деда Николая – рак легкого. Как может быть рак крови? Ведь она течет по всему организму, и потом, рака у детей не бывает.
Тут я поняла, что на меня в упор смотрят четыре родительских глаза: один серый, два карих и один голубой в крапинку.
– Да, – уверенно сказала я. – Рака у детей не бывает.
– А ее завтра переведут в детскую онкологию, – сказала мама, – в Балашиху, где Ивакина лежала.
Кто такая Ивакина, я не знала. Но папа закивал головой:
– Она там долго лежала.
– Вылечилась? – спросила я, активно интересуясь судьбой неизвестной Ивакиной.
– Нет, умерла. – Папа вдруг всхлипнул.
– Ты что! – ошарашенно посмотрела на него мать. – Она же не от рака умерла.
Судьба Ивакиной становилась все более и более интересной.
– Да ведь она на лыжах пошла и в прорубь провалилась.

Дальнейшее я помню плохо. Я смеялась, громко и заливисто, как будто неизвестная Ивакина подмигнула мне с небес. Я хохотала так, как никогда в жизни, – даже когда накормила сволочь Прунова слабительными ирисками перед четвертной контрольной по алгебре. Почему-то папа нес меня на руках, а я все смеялась, а потом плакала, а потом что-то такое щелкнуло внутри, и я поняла, что в нашей жизни все изменилось, и успокоилась.

Мама

И успокоилась. Истерика продолжалась почти два часа, Веру трясло, ее худенькое тело дрожало, и в первый раз она была так далеко от меня. Я была с Машей. Всю ночь я сидела рядом с ее кроваткой. И ни о чем не думала, просто сидела. Жора увез Веру домой. Все кончилось.
Врачи

У нас перевод из Озерска.
Семь лет, девочка, гемоглобин до переливания 40 г/л, лейкоциты 20 тыс., формулу не считали, тромбоциты – единичные. Без гормонов. Девочка областная. Да, документы в порядке, полис есть. Подтвердите перевод из Озерска.
Вера


Из Озерска ехала «скорая», а за «скорой» – пятерка цвета «гранат»; так разделилась наша семья, потому что нас с отцом в «скорую» не пустили. Но Машку мы увидели, и она уже не была такой сине-зеленой и даже что-то сердито выговаривала матери. Это хорошо, потому что злобность – нормальное Машкино состояние.
На самом деле ее зовут не Машка, а хорек, иногда скрипучий, иногда мерзкий, максимум – скунс. Родители, правда, не верят, что у них родился хорек. Но Машка и на самом деле такая, и я ее за это люблю больше, чем какую-либо другую воспитанную девочку. Когда год назад ее обидел отец, она облила его костюм клеем, а когда мама заставляла пить молоко, она вылила целый пакет в окно и попала на голову Лаванде. Лаванда – это вообще отдельная история. Это бывшая мамина подруга, которая… Ну, неважно, что сделала Лаванда, но мы ее не любим, – из солидарности с мамой. А тут еще Машка вылила молоко.

Даже если с ней случилось что-то страшное, она обязательно поправится. Без Машки жить нельзя.
Сначала было очень фигово. Оказалось, что нужно делать всего много и одновременно: готовить, ездить в Балашиху, убираться. До страшного я любила быть дома одна; во-первых, можно ничего не делать, во-вторых, можно сколько угодно болтать по телефону, а можно смотаться или позвать Светку. Но потом оказалось, что одна – это когда скоро придут родители, а позже – и Машка.
Одна – это не так, что папа уехал и не звонит. Он ездил в больницу почти каждый день, меня не брал до тех пор, пока однажды не встретил в коридоре больницы.
– Как ты тут?
– Сама, а сколько можно ждать? Меня не берешь, правды от вас не услышишь, а это, между прочим, не только ваша дочь, но и моя сестра.
Папа сказал:
– Не ори.
Я ответила: «Сам не ори». И с этого момента жизнь приняла знакомые очертания.
– Как ты разговариваешь? – орал отец.
– Как хочу, – орала я.
– Ты нахальная девица, – орал он мне в ответ.
– Какую воспитал, такая и есть, – орала я.
Неожиданно рядом я увидела лицо мамы. Оно было другим, каким-то серым и в морщинах, но это лицо принадлежало маме, которую я не видела уже месяц. Она была другой недолго, ее хватило на пять секунд.
– Орете, – сказала она. – Опять орете, как черти, орете на всю больницу.
– Собаки страшные, – подсказал отец.
– Собаки, – повторила мама.
– Трубы иерихонские, – вспомнила я.
– Трубы, – ответила она.

И мы успокоились. Наверное, это семейное, сначала все орут, потом разбираются, зачем орали.
– Я попросила выйти врача, к нам ко всем сразу, поговорить.
Отец

– К нам ко всем сразу, – сказала она.
Я никогда не думал, что так не могу без нее. Что настолько вся моя жизнь пропитана запахом ее волос, ее голосом. Я думал, что уже все знаю про нее и про нас. Но когда в первую неделю я только плакал и жаловался сам себе на судьбу, она все взяла на себя. Это от нее я узнавал, как, когда и что. Ни слез, ни жалоб, ни трагедий.
– Мне сказали, что очень многое зависит от нас. Надо настроиться только на ребенка и забыть о себе. Я забыла.
Потом я почувствовал себя уверенней, но это было очень не сразу, чувство уверенности медленно разливалось по моему телу под ее спокойным взглядом.
В той жизни, еще до трагедии с Машкой, у меня была Лиля, но не то чтобы была, а бывала. Пару раз в месяц, когда было где встречаться. Мне нравилась моя маленькая тайная месть. Я приходил потом домой и не злился на ее упреки и скандалы. Мне иногда казалось, что все можно изменить. Я даже представлял, как Лиля будет со мной жить. Сейчас от нее остался лишь слабый запах цветочно-ванильных духов.
Вышла врач.
Вера

Вышла врач. Папе она не доставала до плеча, маме была до подбородка. Я не доверяю людям маленького роста. Это заметил отец.
– Вер, – сказал он, – у тебя все хорошие люди высокие, а лживые и подлые маленькие, почему?
Врач была моложе мамы, но старше врача из другой больницы.
– Это наша, – шепотом сказала мама.
Я почувствовала, как снова в горле заползали муравьи и что ничего хорошего нам не могут сказать. Мимо прошел мужик, у которого из носа торчала трубка, а в горле была дырка. В нос резко ударил больничный запах с примесью тоски и страданий.
– Ну фто? – сказала доктор. У нее был какой-то серебристый, укрытый мехом голос. – Фто? В целом все хорошо.
Я не очень хорошо понимала, что она говорила дальше про клетки, кровь, доноров. Но я очень внимательно рассмотрела ее. Кроме голоса, все остальное тоже вызывало доверие. Она была вся такая уютная, что показалось, на ее плече можно плакать.
Потом я встречала ее много раз, когда приезжала к Машке. Однажды она вынесла целый батон колбасы, чтобы покормить котенка. Котенок был маленький, но наглый. Батон ему в пасть не влезал, и он уселся на него верхом и стал откусывать и облизываться. Рядом сидела неполноценного вида рыжая собака по кличке Чубайс, но наша врач охраняла кошачьи интересы, и собаке не досталось.

Но еще тогда, два года назад, услышав «фто», я поверила, что с Машкой все будет хорошо.
Мама

…я поверила, что с Машкой все будет хорошо. Я находила множество свидетельств тому, что все будет хорошо.
Папа

Хорошо становилось не сразу. Когда я приехал однажды домой, после дурацкой работы и не менее дурацкого разговора с тещей, раздался телефонный звонок:
– Здравствуйте, это я, Елена Николаевна.
Хорошо, что я не спросил, кто это. Потому что оказалось, что это классная Веры.
– Я знаю о вашем горе и переживаю не меньше вашего. Надеюсь, что с девочкой все будет хорошо. Но дочерей-то у вас пока две.
Пауза.
– Извините. Видите, как я переживаю.
Голос был, как мел. Его звуки крошились на зубах. «Господи, ну что ей надо?» – подумал я. Из-за всей этой страшной круговерти Верина учеба вылетела у меня из головы. Я, конечно, помнил, что она училась в восьмом, нет, в девятом классе. Раньше оценками я интересовался в конце четверти, когда Ирина приносила на подпись ее дневник со словами: «Скажи ей потом, что ты об этом думаешь!» Я ничего плохого не думал, но говорил.
А сейчас… я даже никак не соображу, что надо делать сейчас. На том конце провода молчали. Видимо, набрав в легкие воздуха, она сказала:
– Вера не закончит четверть; точнее, закончит с двойками. Вам это как?
– Плохо, – ответил я.

Внутри на риторическое «плохо» ничто не отозвалось. Вера живая, здоровая. Мне иногда казалось, что пусть бы это случилось с ней. Машка такая маленькая, как же это ей вытерпеть. Пусть, конечно, лучше со мной. Но если ты, Господи, выбирал из моих детей, то только не Машу, только не Машу.
Я злился на Веру за то, что она здорова, что смеется по телефону, берет в прокате кассеты, просит денег на какие-то журналы. Это невозможно было сказать вслух. Но почти каждую ночь я думал так. Днем я понимал, что она мотается в больницу, пытается убираться в квартире и даже стала иногда стирать и готовить. Между прочим, она помогает теще.
Теща – это отдельная история. Мы с Ирой поженились по любви. Теща появилась впервые в нашей жизни спустя год, когда родилась Вера. Чаще всего она читала на кухне газеты, хотя официальным поводом для оккупации нашей квартиры была помощь молодой матери. Говорила она короткими командами: «Помешай кашу. Купи овощей». И если команда не выполнялась немедленно, то в ход шла тяжелая артиллерия: и лучшие годы, и «как я тебя воспитала», и «видел бы твой отец, как обращаются с твоей матерью».
Это продолжалось довольно долго. Через полгода пропало и молоко, и желание идти домой.
– Уезжайте, – сказал я.
– Как?
– Как хотите, куда хотите, но только быстрей.
Была больница, псевдосердечный приступ, море слез, слова жены о зарубках на сердце на всю жизнь, но она уехала.
Мама

Но она уехала. Тогда, давно, моя собственная мать была мною выгнана из моего дома. И это в семье, которую считали если не образцовой, то хорошей. И были долгие годы редких разговоров по телефону, взаимных обид.
Потом родилась Машка, похожая на мать, как клон. И даже когда она плакала, это была мать. Сначала писк, а у мамы – звук «нуууу», потом вздох – у обеих одинаковый. А потом крик – со словами или без слов, неважно. Даже волосы, волосы росли у нее, как у бабушки. Вверх и в разные стороны. С детства помню – вид моей матери после ванны, в нашей тогда еще коммунальной квартире, был настолько ужасен, что дети писались, а собаки завывали, кошки бежали под столы.
Так вот, у Машки волосы росли так же.
Отец

У Машки волосы росли так же, как у тещи. И нос, и глаза были такие же. Но главное, это характер. Любая фраза начиналась со слова «НЕТ». Потом уже она думала. Самое первое слово она сказала: «НЕТ»; «мама» и «папа» были позже. А когда ей исполнилось шесть месяцев, жена послала ее фотку своей матери.
Теща


А когда Марии исполнилось пять месяцев двадцать дней, мне прислали ее фотографию. Не скрою, что была оскорблена таким поведением дочери. Жалкая судьба неудачницы и мужа-неудачника, двух несостоявшихся личностей. Старшая дочь, Вера, не смогла сплотить семью. Он работал, но не зарабатывал. Она, вместо того чтобы подумать о нас, стала рожать. Без денег, без уверенности в завтрашнем дне. Мне решительно все равно, как они со своим мужем доживут отпущенный срок. Но дети!
Потом она сама, я не вмешивалась, прислала фотокарточку Марии. Это был вылитый покойный брат Николай.
Отец

«Покойный брат Николай». Теща привезла с собой фотографии брата Николая, умершего, слава богу, лет в семьдесят. Детских карточек, конечно, не было. Но в теще жила твердая уверенность, что брат вернулся путем реинкарнации в Машку. В то время наш «брат Николай», живой и здоровый, лежал в кровати цвета темный орех и сосал соску с цветком. Скрытые под кружевным чепчиком проволочные волосы не отвлекали взгляд. «Брат Николай» смотрел на всех ярко-голубыми глазами и пытался ногой почесать нос.
– Живой! – сказала теща. – Как там наша мать?
Мама

«Как там наша мать» было слишком. И молока было мало, и Маруся плакала с каким-то драматическим надрывом, и еще сумасшедшая в доме. Я вздохнула.
– Шучу, – среагировала мать.
С тех пор мы стали общаться. Машка, или, как ее называла бабушка, Мария, была связующим звеном нашей семьи. Моя мама приезжала каждые выходные с одинаковым набором подарков – два яблока, два апельсина или, что чаще, четыре яблока, рулон туалетной бумаги – как память о дефиците ее молодости – и мед.

Отец

…и мед, который в доме никто не ел. Так в семье воцарились мир и кучи ополовиненных майонезных банок с медом.
Снова отец

– Елена Николаевна, мне жаль, что у вас проблемы с Верой. И вы не звоните сюда больше.
Повесил трубку. Весь вечер я ждал Веру, в первый раз хотел сказать, что думаю о ее учебе. Но она приехала поздно вечером. Положила на стол деньги. Две бумажки по пятьсот и одну в тысячу рублей.
– Это нам.
– Где взяла? – спросил я.
– Украла, – спокойно ответила пятнадцатилетняя дочь.
– Вера!
И тут меня понесло.
Вера

И тут его понесло. Вот гад. А еще отец. Я устроилась подрабатывать. Не так просто найти работу, чтобы не получить приключений на одно место. Снова помогла Светка. Мы с ней стали раздавать листовки с рекламками. Правда, ездить надо было очень далеко. Я очень хотела купить Машке Барби с крыльями и еще в больницу видеодвойку, чтобы смотреть кассеты. Но видеодвойку купили спонсоры. Барби Машка расхотела. Новых идей пока у нее не было. Денег, как обещала бабушка, за лечение не брали, лекарства мы не покупали. И потихоньку у меня накопилась приличная сумма. Не надо их, конечно, было показывать отцу. Гордость так расперла грудь, что не смогла удержаться. Ура! Ура!
Отец

«Ура! Ура!» Я объяснил, что «два» в четверти это не ура. И вообще деньги сейчас – моя забота. Но в душе был рад.
Теща

Был рад. Он-то, конечно, рад. Девочка в пятнадцать лет идет работать. Я, безусловно, должна рассказать об этом своей дочери. Но не сейчас. Ирочка позвонила и сказала, что заведующая будет с нами разговаривать:
– Если хочешь, приезжай. Все анализы сделаны, и можно обсудить вопросы на будущее.
Когда я назвала удобное для себя время, выяснилось, что приезжать надо, когда удобно им, врачам. Но я в это время не могу, мне нужно пойти к Марине, она будущее провидит, и получше, чем эти, в белых халатах, скажет, чего ждать. Хотя, чего ждать, если у ребенка рак. Если и выживет, будет от их лечения инвалидом. Одни эти пункции чего стоят.
– Мама, – сказала Ира, – если не хочешь, не приезжай.
Так мне пришлось, бросив привычный уклад, ехать в Балашиху. Далеко, в электричке душно, в автобусе – давка. Но я терпела. Мой долг – поддержать семью во время страшных испытаний. Наставить их. Объяснить причины болезни.
Да, не забыть взять у Георгия деньги. Все-таки дополнительные 100 долларов должны остаться у меня. Сейчас я вынуждена тратить гораздо больше денег. Мне приходится покупать витамины, проходить обследование в платной поликлинике, есть больше овощей и фруктов. Рак в семье – это не просто так. Сейчас я поняла, что отдала всю жизнь детям и работе, а о себе не подумала. Им я четко поставила условие – будут требовать деньги за лечение, жалуйтесь, не молчите. Они много имеют. Бедных врачей я не видела. А за работу им платят зарплату. Я сама с ними поговорю по поводу общения с пожилыми людьми. Я имею право приехать когда хочу.
И когда звонила по телефону, какая-то девчонка невоспитанная ответила, что вся информация есть у родителей. Поговорите, мол, с ними. А они справок о болезни не дают. Понятное дело, не дают, они сами про рак ничего не знают. А про состояние говорит, что оно тяжелое, соответствует тяжести заболевания. Я должна поставить их на место! В больнице оказалось много, очень много народу. В коридорах не протолкнуться.
И еще пришлось ждать врачей.
Отец

Пришлось ждать врачей. И выслушивать от тещи все, что она думает о болезни, о жизни, а главное о том, что Вера стала работать. Коротко, весь смысл ее речи свелся к четырем словам: «Ты Во Всем Виноват». А еще про то, что в Москве есть и Институт, и Центр, и только такие бедные и бестолковые люди оказываются в подмосковной больничке. Нельзя было разрешать делать уколы в спину, нельзя разрешать химиотерапию. Нужно было добиться консультации главного профессора. Она прочитала про него в газете.
– Ира сказала, что она останется здесь.
На этом наш разговор закончился.
Вера

Мама сказала, что в среду в больницу нужно ехать всем вместе. У нас будут брать анализы, чтобы узнать, чей костный мозг подойдет Машке «в случае чего».
Отец

«В случае чего» так это, понятно, в случае рецидива. Я уже прочитал все, что нашел. Рецидив может быть в двадцати процентах случаев. И чем позже он происходит, тем лучше. У Маши ремиссия уже длится больше полугода. Это значит, что, когда она раз в неделю сдает кровь, в ней не находят раковых клеток. И если так будет продолжаться еще четыре с половиной года, то Машка будет считаться выздоровевшей.
Мне казалось, что жизнь уже стала налаживаться. Можно жить от анализа крови до анализа. А тут вдруг – костный мозг. Какие могут быть разговоры, я свой отдам сразу. И почему Ирина завела эти разговоры при Вере? Она же мне совсем не доверяет. Если мой не подойдет, можно позвать Борьку, он-то мужик здоровый. Его подойдет точно.
Мама

Его подойдет точно. Жорик сказал: не надо анализов, я отдаю свой мозг без проб. Если надо больше, возьмем у Борьки. Вам, девочки, волноваться не надо. Интересно, он дурак или прикидывается? Раз пять я ему объясняла про трансплантацию костного мозга. Он каждый раз делал вид, что слушает. И про то, что шанс найти донора в семье очень невелик. И даже братья и сестры подходят только в двадцати пяти процентах случаев. Но исследование делать надо. В отделении были детки, которые совсем уже собирались выписываться, а при обследовании оказывалось, что все надо начинать сначала.
Еще приплел Борьку. Хорошо, не вспомнил про свою Лилю. Из-за нее вся его одежда пропахла запахом духов. Даже во сне он иногда говорил «Лиля». Я всегда молчала об этом, подумаешь, секрет Полишинеля. А сейчас ужасно захотелось ему напомнить. Он что думает? Обследование – не рыбалка, а Машка – не рыба.
Вера

Машка – не рыба.
Я думала, что мама съехала с катушек. Никто и не думал, что рыба. Я всегда говорила, что хорек. Но тут сразу стало шумно и весело. Я так соскучилась по их скандалам. Мне даже стало стыдно за свое счастье. Мама кричала, что ее никто не слушает и папа ходит только на свою рыбалку. Он кричал:
– Я на рыбалке был год тому назад.
Мама с ходу придумывала что-нибудь еще.
– Ты не Господь Бог, чтобы придумывать грехи, – отвечал отец.
– Это я придумываю? А кто сжег Машкино одеяло, когда курил на балконе?
– Какое одеяло?
– Шерстяное, розовое, с мишками.
– Ир, это было лет пять тому назад.
– Я не спрашиваю – когда, я спрашиваю – кто? Ну, вспомнил? А кто потом одеяло покупал? На ком весь дом? Все, – сказала мама. – Ты костный мозг не сдаешь. Нам от тех, кто жжет детские одеяла и считает ребенка рыбой, мозгов не надо. Тем более что их у тебя нет. Брать нечего.

Отец

Брать нечего. Это у кого брать нечего? У меня институт с красным дипломом. Я по-английски со словарем читаю, я в шахматы играю. И никого рыбой не считаю.
Вера
«Я по-английски со словарем читаю, я в шахматы играю. И никого рыбой не считаю». Ни фига себе, отец заговорил стихами. Мама медлила и явно находилась в цейтноте. Но на то она и мама, чтобы никогда не попадать в безвыходные положения.
– Так, а кто ездил в Анапу?
Я не знаю эту историю, но в ней явно есть что-то подозрительное. Каждый раз, когда мама говорит: «Так, а кто ездил в Анапу?» – отец делается ниже ростом и проваливается куда-то под пол. В этот раз ничего нового не произошло. И, гордо подняв голову, мама пошла на выход:
– Пойду аквариум посмотрю.
– Какой аквариум, Ирочка?
– В котором рыбы живут.
И ушла на кухню готовить обед.
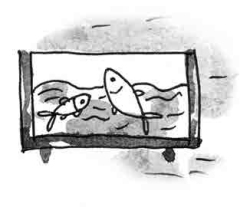
Вопрос с костным мозгом повис в воздухе. Я очень хочу, чтобы Машка выздоровела. Но как этот костный мозг будут брать? Я могу потерпеть, мне и молочные зубы выдергивали, и уколы делали, но по поводу костного мозга я ничего не знаю. Спрашивать у мамы подробности было уже неудобно. С одной стороны, она может подумать, что мне для Машки чего-то жалко, а с другой – мы в последнее время и не разговаривали совсем. То есть, конечно, все время разговаривали, но только по делу.
Просто мне тоже хотелось маму, свою собственную маму. Я еще маленькая. Меня никто не спрашивает, как у меня дела. Когда возникает вопрос про оценки, правду говорить нельзя, иначе мама расстраивается. Лучше всего наврать, тогда она говорит: «Молодец». Правда, когда я наврала про две пятерки по алгебре и одну по геометрии, отец попросил дневник. Но он же подписи математички не видел ни разу. А у меня есть ручка, которая потом стирается. Поэтому целых полчаса в моем дневнике было три пятерки по математике за одну неделю.
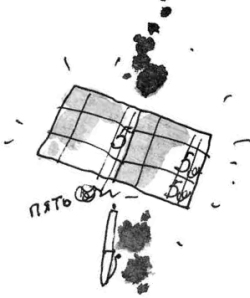
Идея с ручкой Светкина. Раньше мама не очень любила, когда я ходила к ней. Называла ее девушкой с неопределенным будущим. Светкины родители точно знали, что у нее буду