Издание: Госкиноиздат, Москва, 1947 г.
Сайт: «Палеонтологическая правда палеонтологов»: https://www.vairgin.com/
Редакция: « Библиотека Алексея Меняйлова»: https://vk.com/veterputorana
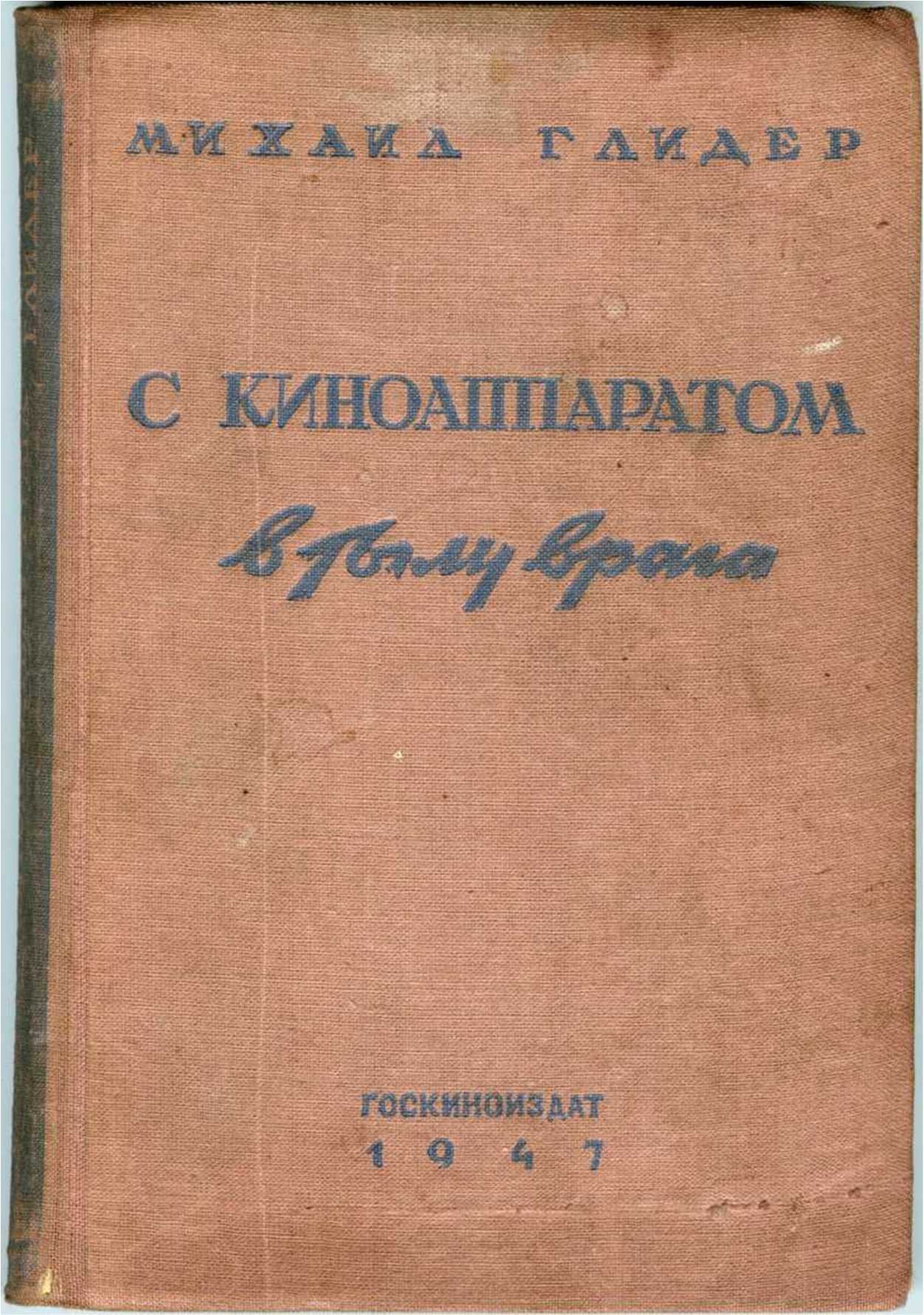
МИХАИЛ ГЛИДЕР

|
| С КИНОАППАРАТОМ |
Литературная обработка О. САВИЧА
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ
ГОСКИНОИЗДАТ
МОСКВА
1947
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫПОГИБЛИ КИНООПЕРАТОРЫ:
Быков, Николай Владимирович Быстров, Анатолий Николаевич Вакар, Борис Васильевич Высоцкий, Вячеслав Павлович Знаменский, Анатолий Иванович Капкин, Мордух Мовшевич Килосанидзе, Владимир Васильевич Лампрехт, Павел Александрович Лейбов, Яков Соломонович Малов, Иван Федорович Муромцев, Виктор Николаевич Павлов-Росляков, Павел Александрович Печул, Филипп Иванович Пумпянский, Борис Яковлевич Солодков, Алексей Владимирович Стояновский, Семен Абрамович Сухова, Мария Ивановна Сущинский, Владимир Александрович Шило, Арсентий Петрович Эльберт, Александр Павлович
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДОРОГИХ ТОВАРИЩЕЙ ПОСВЯЩАЮ ЭТУ КНИГУ

ПРЕДИСЛОВИЕ
В своей книге Михаил Глидер отвел нам, партизанским соединениям А. Федорова и С. Ковпака, много места. Это место и характеристика нашей партизанской работы кажутся нам преувеличенными. На пост командиров соединений нас выдвинули народ, партия и правительство. Мы лишь выполняли свой долг, как выполнял его любой партизан.
Не нам давать историческую или литературную оценку воспоминаний Глидера. В свое время каждый из нас дал ему боевую характеристику, и она была такова, что его самостоятельная партизанская работа в Чехословакии впоследствии обрадовала, но не удивила нас.
Он часто говорит о своем сугубо гражданском виде. Но лишь редкие из нас, партизан, были военными людьми до войны. То, что и он быстро прошел путь от труженика до солдата, свидетельствует о том, что он — настоящий советский человек.
Он мог бы и в партизанах остаться только кинооператором. Но он стал партизаном, в руках которого было дополнительное оружие — аппарат. Поэтому он так хорошо узнал и понял партизанскую жизнь, партизанский быт. Он не только снимал правду, как мы его просили, — он жил ею. И отразил ее в книге.
Повторяем: не нам, живущим на страницах этой книги, давать ей оценку. Мы можем лишь засвидетельствовать, что в ней написана правда.
Глидер снял тысячи метров пленки и сделал сотни фотоснимков, сражаясь и принимая участие во всех делах наших соединений. Эти кадры и фото — наша, так сказать, немая история. Книга же — история, рассказанная нашим любимым товарищем, непосредственным участником и внимательным наблюдателем нашей жизни и борьбы.
Спасибо тебе, Миша, за партизанскую правду!

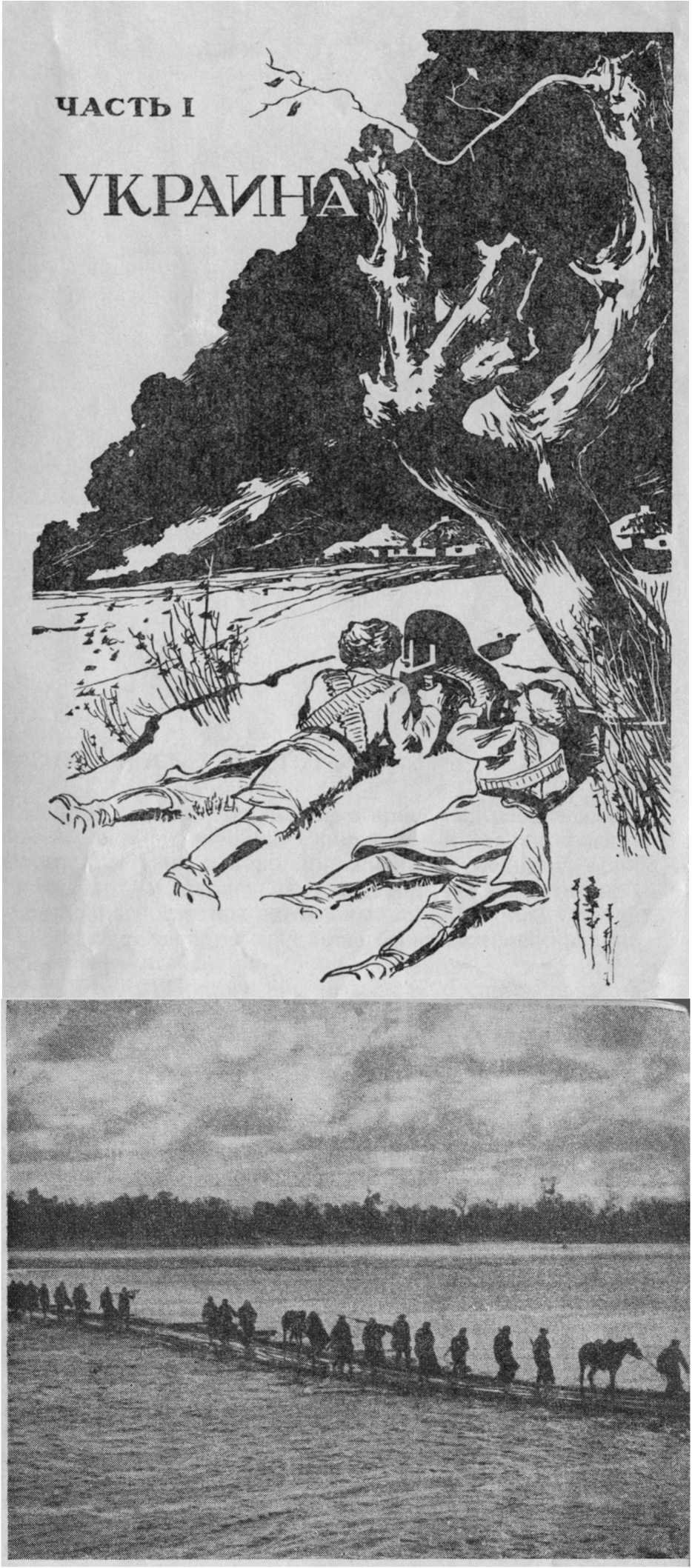
Я СПУ СКАЮСЬ У ПАРТИЗАН
Первые полтора года войны я провел в Краснознаменной Амурской флотилии. Снимая быт и учения краснофлотцев, я учился походной жизни и военному делу. Учения производились на основе опыта Отечественной войны. Краснофлотцы готовились принять в ней участие как на воде, так и на суше. Мне было присвоено звание инженер-капитана.
В марте 1943 года я был вызван в Москву. Режиссер Беляев готовил фильм о партизанах. Нужно было заснять как можно больше документальных кадров. Для этого решено было отправить в оккупированные тогда районы Украины оператора, знающего быт и язык. Выбор Кинокомитета пал на меня. На предложение присоединиться к одному из действующих партизанских отрядов я, разумеется, ответил восторженным согласием Начальник штаба украинского партизанского движения Строкач сказал, что меня отправят на самолете в отряд, который находится в постоянных рейдах. Строкач ничем не выдал, что мой маленький рост, мой возраст и «цивильный» вид не внушили ему тогда большого доверия.
Строкач предупредил, что придется прыгать с парашютом, так как у отряда посадочных площадок нет. Я скрыл, что предстоящий прыжок будет моим дебютом в качестве парашютиста. Кто его знает, стали бы меня учить или нашли бы другого, опытного в прыжках человека?
11 апреля за мной приехала машина, почему-то санитарная. В Москве не было никого из моих родных: жена, дочь и внучка находились в
эвакуации, сын и зять — на фронте. (Прошу не считать меня стариком: в то время мне было 42 года.) Я попросил шофера провезти меня по центру.
Никогда Москва не казалась мне такой красивой. Я прощался с каждым домом, — сколько их выросло на моей памяти! Мы проехали через Красную площадь. Не в бою, не в ожидании смерти, — нет, именно здесь, на Красной площади, прошла передо мною вся моя жизнь. Как раз в 1943 году исполнялось тридцать лет с того дня, как я начал зарабатывать свой хлеб. В моем родном Геническе Запорожской области я крутил ручку старинного аппарата, показывая публике фильмы, которые сегодня кажутся наивными и смешными, а тогда вызывали волнение и даже слезы не только у зрителей, но и у молодого механика. Я, кстати, стал механиком главным образом для того, чтобы смотреть эти фильмы. Я вспомнил, как девятнадцати лет женился, как учился, переехал в Москву, стал кинооператором. Двадцать лет я снимал нашу страну и ее людей.
Много может передумать человек, проезжая Красную площадь из конца в конец, особенно если шофер по его просьбе ведет машину на самой малой скорости.
На подмосковный аэродром мы приехали вечером, в половине седьмого. После проверки документов меня подвели к обыкновенному «Дугласу» и познакомили с летчиком.
Он отвел меня в сторону, и мы закурили.
— Вы не боитесь? — спросил летчик. — Номер нашей машины тринадцать.
— В Америке, говорят, тринадцать счастливое число, — ответил я. — А мой аппарат американский (я вез с собой «Аймо», легкую модель, — она честно послужила мне). Кроме того меня привезли сюда почему-то на санитарной машине. Это уже два предзнаменования, а минус на минус дает плюс.
— Прыгали когда-нибудь? — спросил летчик и, услыхав честный отрицательный ответ, ногой затушил папиросу и перешел вдруг на «ты»: — Ну, дружок, влезай в «старуху», поехали!
На «старуху» предварительно погрузили все мое оборудование. Оно лежало в мешках и должно было быть сброшено на парашютах, как и его владелец. На мне, кроме аппарата и запасной кассеты, был автомат и диск к нему.
Линию фронта пересекли в ночной темноте. Внизу был виден огненный вал: полоса огня то росла, то убывала, словно ее раздувал и пригибал невероятный ветер. Летчик сказал, что это стреляют немцы: «От страха. Наши зря и наобум не палят».
Неожиданно мы попали в луч немецкого прожектора. Он совершенно ослепил меня. Меня отшвырнуло в сторону, и я сильно ударился боком; летчик был опытный: он проделал резкое скольжение, и прожектор сразу же потерял нас. Снова стало темно.
Впереди шли бомбардировщики. Мы издалека видели разрывы немецких зениток, огни пожаров. Первый раз — в районе Брянска, второй раз — в районе Борисова. Я, впрочем, верил летчику на слово: мы летели в стороне, и я различал только огонь и скопление домов.
Между Гомелем и Мозырем на нашем самолете была объявлена воздушная тревога: под нами пролетели немцы. Они нас не заметили, и наш полет продолжался в полном, я бы сказал — в величественном, спокойствии. Луна сияла над молчаливой землей. Населенным казался скорее воздух, чем земля. В кабине со снятой дверью было довольно холодно, но я едва чувствовал холод.
Удивительный путь над родной землей, захваченной врагом, над землей, где льется столько крови и слез, — этот путь казался мне бесконечным.
Внизу — в который раз — мелькнуло серебро какой- то реки. Летчик уступил свое место второму пилоту и подошел ко мне.
— Припять! — сказал он.
Я знал, что должен приземлиться где-то в этом районе. Точные координаты были известны только летчику. Я встал, и мы оба подошли к открытой двери. Внизу замелькали огоньки. Я показал на них летчику.
— Это и есть партизанские костры, — сказал он, - сигнализируют нам.
В полете мы условились, что сперва будет сброшено мое оборудование, а я спрыгну на втором заходе. Так я и не знаю, было ли это условие неизвестно башенному стрелку, или летчик дал ему совсем другой приказ. Но в то время, как мои мешки летели вниз, а я что-то говорил летчику, самолет сделал крен, и стрелок сильным и не слишком вежливым ударом — пониже спины — выбросил меня из кабины.
Парашют раскрывался автоматически. Но я свято помнил наставление и отсчитал «раз-два-три», после чегоЛ дернул кольцо.
И тотчас почувствовал, что это было лишнее: парашют уже раскрылся. Это рассмешило меня, а испугаться я так и не успел, тем более, что рывок был слабый. (Я склонен думать, что стрелок хорошо знал, что делал.)
Я ощупал себя. Аппарат, кассета, автомат, диски — все на месте. Свет костров уходил вправо, река подо мной блистала все ярче и быстро ширилась. Я понял, что меня относит к ней, опять вспомнил наставление и подобрал стропы. Падение ускорилось, и через несколько секунд я ударился о землю в 5—10 метрах от реки. Я вскочил, ощупал себя и свои вещи (все по наставлению), собрал парашют (тоже по наставлению, но, кроме того, я знал, что партизаны делают перевязки из парашютного шелка), сложил парашют в орешник, а сам лег рядом и стал ждать. Правду говоря, я не решался итти к костру — а вдруг это не тот! На всякий случай я поставил автомат на боевой взвод.
Послышались шаги, потом негромкие голоса. Разговор шел по-русски, но один из собеседников говорил с украинским, другой с еврейским акцентом.
— Ну, где же он?
— Наверно, к костру пошел.
— А мешки его все тут.
— Пойдем к реке, может, он в воду упал.
— Слышь, а что это за гусь, что его с самолета скидывают?
— Кинооператор. Снимать тебя будет, чтобы ты своей крале карточку послал.
— Товарищи, — сказал я, — гусь здесь.
Оба партизана расхохотались, бросились ко мне и начали целовать. Потом с необыкновенной предупредительностью они попытались отобрать у меня поклажу, чтобы донести ее. Я отдал все, кроме автомата и аппарата.
— Эге, — сказал украинец, — вин порядки знает, его не надуешь! (Партизан отдает оружие только по приказу командира, и новичков на этом неизменно ловят.)
Было около 4 часов утра. Когда мы подошли к костру, он уже был загашен: услыхав, что самолет удаляется, партизаны раскидали и затоптали горящие ветки. Мои мешки лежали тут же, их уже подобрали. Пришлось расцеловаться с каждым из моих новых знакомых, и каждый из них сердечно сказал «добро пожаловать». И хотя я понимал, что в моем лице партизаны радуются только свежему человеку с Большой земли, что предложенное товарищество надо оправдать, и хотя я еще не различал лиц, но встреча меня глубоко растрогала.
Не только вещи, но и меня самого погрузили на повозку. Партизаны окружили ее, и мы поехали шагом.
Меня забрасывали вопросами. Я наперебой рассказывал новости фронтовые, тыловые и заграничные. Кроме рассказов, огромный успех имели папиросы: партизаны давно не курили настоящего табака, а папиросы казались им верхом роскоши. Некоторые, докурив папиросу до половины, бережно прятали окурки.
Проехали 8 километров, которые отделяли нас от села Аревичи. Сам я так и не смог задать ни одного вопроса.
В селе меня привели в хату, настелили соломы на полу.
— Вот тебе постель, оператор. Спи!
Я остался один, положил, под голову автомат, половину ватника подстелил под себя, другой половиной укрылся, аппарат прижал к груди и подумал: «Все хорошо, я — партизан». Мелькнула еще перед глазами Красная площадь, — неужели всего несколько часов тому назад я проезжал по ней? — полет с парашютом, вспыхнули огни фронта, прошли лица близких... Но я очень устал и заснул, как убитый.
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Утром, часов в девять, меня разбудили.
— Завтракать, оператор.
За столом в соседней хате сидело несколько человек. Я был очень голоден, а на столе царило такое изобилие, что я даже удивился. Позже я узнал, что оно было результатом только что проведенной операции и разгрома немцев с их складами.
Пожилой человек среднего роста, с небольшой седой бородой, но с черными волосами и усами, то и дело вскидывал на меня хитрые, смеющиеся и пронзительные глаза. «Наверно, председатель сельсовета», — подумал я и не совсем ошибся: незнакомец был когда-то председателем горсовета. Когда я насытился, он сказал:
— Ну, будем знакомы. Я — Ковпак. А это — заместитель мой, Руднев. А это...
Так я познакомился с руководством соединения. А я и не подозревал, что нахожусь среди командиров.
Сидор Артемьевич Ковпак был тогда уже генерал- майором и Героем Советского Союза. Впоследствии он получил вторую Золотую Звезду, а Руднев, в свою очередь, стал генерал-майором и Героем Советского Союза. Но тогда за столом в обыкновенной хате мне показалось, что они ничем не отличаются от рядовых партизан. Узнав, что передо мной сидит все начально, я смутился, вынул из кармана единственный официальный документ, который был при мне, — продовольственный аттестат, выданный еще в Амурской флотилии, и протянул его начальнику хозяйственной части Павловскому. Тот под общий смех сказал:
— Нет, милый мой, у нас этим не занимаются. Есть еда — едим без карточек, нет еды — никто не ест и никто не обижается.
После завтрака Ковпак снова обратился ко мне.
— Теперь говори все, что тебе надо.
Я еще в Москве обдумал ответ на этот вопрос, который я не раз задавал себе самому, и начал перечислять: мне нужна подвода для перевозки аппаратуры и пленки, ездовой, ординарец, который следовал бы за мной повсюду, лошади для меня и для ординарца и седло для него.
— А ты, что же, без седла поедешь? — спросил Ковпак.
— Я привез седло с собой из Москвы.
— Запасливый, видно, человек, — шутливо сказал Ковпак. — Но ведь лошадь поить надо. Ведро потребуется...
— Я и ведро привез, брезентовое...
Раздался общий хохот. В глазах Ковпака ярче вспыхнули смешливые искорки.
— Вот это — да! — сказал он. — Этот понимал куда едет. Он хлеб даром есть не будет. Ну, а вот с автоматом ты сидишь, вчера, говорят, разлучаться с ним не хотел и спать с ним лег («все знает», — мелькнуло в моей голове), так владеть-то автоматом ты умеешь?
— Во флоте был, научился.
— А патроны к нему есть у тебя?
— Помимо тех, что на мне, в вещах — целый ящик.
Сидевшие за столом продолжали смеяться, но на меня смотрели уже не просто любопытствующие, проверяющие глаза, но дружелюбные и ободряющие.
Ковпак протянул мне руку.
— Люблю серьезных людей. Мы тоже серьезные. Мы с тобой сойдемся. Какого тебе ординарца надо?
— Чтобы ничего не боялся...
— Таких много.
Чтобы был молодой и выносливый... — Все такие.
Чтобы хорошо разбирался во всех дорогах, мог везде проехать и пройти, чтобы от меня не отставал ни на шаг и чтобы слушался меня во всем. Есть такой. Парень отчаянный. Он все может. Но слушаться, — это уж ты сам его заставь. Будет тебя любить и уважать, будет и слушаться.
| Но |
Ровно через два часа, в полдень, к хате, в которой я ночевал подъехала подвода с ездовым, а за нею молодой парень привел одну оседланную и одну неоседланную лошадь и отрапортовал:
— Партизан Иван Наливкин. Генерал назначил меня вашим адъютантом, товарищ инженер-капитан. Прибыл в ваше распоряжение.
Высокий, крепкий, 20-летний Наливкин и с виду был «отчаянным»: улыбка во весь рот, вихор из-под заломленной фуражки, веселые, смелые и открытые глаза, подчеркнутая молодецкая выправка (которой он выгодно отличался от своего нового командира). Он с большим интересом смотрел на мою «технику», разочаровался, узнав, что фильмы я снимаю, но не демонстрирую, и радостно засмеялся, узнав, что я собираюсь ходить на операции.
Мы раскладывались, перекладывались и укладывались, когда Ковпак, проходя по селу, подошел ко мне и сказал:
— Ну вот, у тебя полное хозяйство. Ты не торопись, прими это хозяйство, потом поговори с нашими партизанами и партизанками, присмотрись к нашей жизни. Увидишь, как мы воюем, как живем, и сам поймешь, как и над чем тебе работать. Стеснять тебя ни в чем не будем, в твоем деле ты полный хозяин. Что тебе надо, говори, дадим все, что сможем. И еще одно: я в кино ничего не смыслю, я в кино только публика. Смотреть вашу работу очень люблю, искусство ваше ценю высоко. Й все партизаны также. Я уверен, что все с радостью помогут тебе в твоих делах. А хотим мы от тебя одного: чтобы ты показал нас правдиво, верно всем советским людям. Смерть нас сторожит за каждым кустом, жизнь наша, может быть, недолгая, рассказывать мы не мастера. Ты наш отчет, наша история. А как тебе работать, это твое дело, тут мы тебе помочь ничем не можем. Вот я и прошу тебя: снимай правду. И так снимай, чтобы Иосифу Виссарионовичу можно было показать и чтобы он сказал: «Правильно вели себя ковпаковцы, верно поняли, чего я от них хотел».
Передо мной стоял другой Ковпак, не тот, который хитренько посмеивался за завтраком. Его лицо было серьезно, морщинки разгладились, глаза не смеялись, и даже голос был другой.
Мне было немножко обидно, что он как бы противопоставлял меня партизанам. Но я понял, что, доверяя моему профессиональному уменью и моей чести советского человека, он все-таки хочет сперва узнать меня и потом лишь принять в свою среду как равного.
Я пошел по селу. Надо было, чтобы все ко мне пригляделись. Это было просто: я был одет в морскую форму и этим резко отличался от остальных. Всю вторую половину дня мы с Наливкиным ездили к тем группам отряда, которые стояли вне села и «знакомились».
Знакомство выражалось в том, что Наливкин представлял меня: «Кинооператор из Москвы». Он с видимым удовольствием выговаривал эти слова. А потом меня забрасывали вопросами о Большой земле. Когда же я начинал расспрашивать, мне отвечали коротко, сухо, и только если я настаивал, то рассказывали про прежние боевые дела, да и то называли неизменно других, а не себя.
НАЛЕТ НЕМЕЦКОЙ АВИАЦИИ
Утром 14 апреля в воздухе послышался гул: где-то летели немецкие бомбардировщики. Немцы знали, где находится отряд Ковпака. Знали они также, что неподалеку расположился отряд Федорова. В полдень началась бомбежка.
Сперва немцы бомбили противоположный берег Припяти и прилегающие к реке села. Именно в тех местах находился отряд Федорова, собиравшийся прорваться на запад. Около нашего села был высокий песчаный бугор. Вместе с Наливкиным (он не отходил от меня) я взобрался туда. С бугра открывалась вся местность. Мой аппарат был наготове.
В 14 часов немецкие самолеты появились над Аревичами. Они застали крестьян врасплох. Фугасные и зажигательные бомбы полетели на село. Ковпак еще раньше отдал строгий приказ — всем уйти из деревни. Но

|
| ' - |
| Деревня Аревичи в момент налета немецкой авиации |
| В_ |
крестьяне собирались слишком долго: каждый хотел увести скот, унести как можно больше продовольствия и вещей. А немецкие самолеты вынырнули из-за леса неожиданно.
День был жаркий, дома, заборы, деревья вспыхивали, как спички. С бугра открылось страшное зрелище: горели дома, в домах горели люди. В огне дико мычал скот. Бомбы разрывались одна за другой. Люди бежали по улицам, забыв обо всем, лишь бы уйти от смерти. Немцы начали обстреливать бегущих из пулеметов. Уже через десять минут после начала налета по некоторым улицам нельзя было пройти: пламя, возникшее на каждой стороне, соединилось.
Я заснял эту страшную картину, хотя руки у меня дрожали. Через огороды я добрался до какой-то хаты. Горько рыдала женщина: у нее убили телку. Из сарая выскочил обгоревший жеребенок, вся грива в искрах. Подбежала другая женщина, закричала:
— Чего плачешь, пусть все горит, все равно! Не удержится немец ни на земле, ни в воздухе! За все заплатит!
Она грозила кулаком в небо.
Мы с Наливкиным попробовали пробраться дальше. Тут я увидел, что мой ординарец был в самом деле «отчаянный». Он не боялся ни бомб, ни пулеметов, ни огня, шел во весь рост.
На улице лежали убитые и раненые. Последним трудно было оказать помощь: немецкие летчики тотчас начинали стрелять из пулеметов. Точно так же не давали они тушить пожары.
Был передан повторный приказ Ковпака: партизанам и населению тотчас покинуть село, отойти в лес километра за три и переждать бомбежку там.
Я счел, что приказ ко мне не относится, и продолжал снимать.
Мы с Наливкиным вернулись к первой хате. Женщина, плакавшая по телке, лежала на земле, убитая пулеметной очередью.
Но снимать дальше было почти невозможно: огонь не позволял подойти.
В это время прискакал верховой. Он искал меня, чтобы передать мне специальный приказ Ковпака: срочно явиться к нему в лес. Никакой срочности, конечно, не было, а просто Ковпак решил вывести меня из-под бомбежки.
Ночь мы провели в лесу. Наутро я снова поехал в село. Оно было пусто. Домов не осталось, торчали только трубы да каменные фундаменты. На дымящихся развалинах лежали искареженные кровати, сломанная посуда, детские игрушки. Почему-то мне показалось, что особенно много игрушек, детских повозок, обгоревших люлек. Потому, вероятно, что они уж очень щемили сердце...
Я снова снимал. Потом вернулся в лес. К вечеру опять поехал в село. Крестьяне возвращались домой. Они рылись в горячем пепле, что-то искали, найденное аккуратно складывали в кучу. Кучи были маленькие, жалкие. Женщины плакали, плакали дети. Из-под развалин вытаскивали обгоревшие трупы. То и дело раздавался истошный крик женщины, опознавшей близкого человека. Но далеко не всех можно было опознать. Многих огонь изуродовал. Стоя над трупом, люди гадали:
— То Петр Трофимовский... Може, то Сергей Михальчук?..
Когда мы уезжали в лес, Наливкин впервые за наше знакомство не улыбался во весь рот, а как-то болезненно усмехался.
На третий день я снова отправился в село. То, что я увидел, было не менее печально, чем накануне. Трупы были уже убраны, но все живые молча, неподвижно сидели на земле, там, где были их хаты. Те, у кого осталось какое-нибудь добро, сидели около него на развалинах своего дома. У горя уже не было ни слов, ни слез.
Между тем люди прощались не только с мертвыми, но и с живыми: много молодежи решило уйти с партизанами. Бабка Аксинья Пинчук на развалинах своей избы тихо разговаривала со своей внучкой Галинкой. Галинка была одета по-походному и, глядя в землю большими неподвижными глазами, молча слушала бабку. Рядом ее брат Радик копал землю. Бабка указала ему место, где его покойный отец — партизан другого отряда — спрятал винтовку, которую он нашел в лесу после отхода Красной Армии. Винтовка прекрасно сохранилась. Радик, выкопав ее, тоже подошел к бабушке. Старуха благословила обоих внучат:
— Этим ружьем твой отец собирался немцев бить, да не пришлось: сам погиб от немецкой пули. Так ты уж им и за отца и за разорение наше... Ты им за все...
Рядом сидит дед. Он держит на руках маленького ребенка — сынишку старшей дочери, укачивает его и молчит. Только когда наступает минута прощания, он передает ребенка бабке, благословляет Галинку и Радика, целует их и хрипло говорит:
— Вы им... за все... за весь народ...
Люба Бородач завязывает в платочек несколько патронов, — она сама подобрала их когда-то и спрятала на огороде. К ней подходит Поля Линева с винтовкой, — винтовку спрятал ее брат.
Под вечер все они являются в лес, к Ковпаку, и просят принять их в отряд. Когда очередь дошла до Радика, он сказал:
— Меня бабка в отряд прислала.
— А сам бы не пошел? — спросил его Ковпак.
Радик вспыхнул.
— Без бабки я бы давно в отряд ушел. У меня отца немцы убили. Мне иначе нельзя. У меня винтовка есть, отцова. Я драться буду честно.
С молодыми партизанами долго говорил наш комиссар Руднев. Он предупредил их обо всех трудностях партизанской жизни, спрашивал, крепко ли они подумали об опасностях. Очень ласково, сердечно Руднев старался выяснить, нет ли у них напускного молодечества, твердо ли их решение, здоровы ли они и достаточно ли стойки.
Я слушал этот разговор и, сказать правду, не знал, кому удивляться больше: комиссару, который показал себя настоящим психологом, или этим юношам и девушкам, которые были непреклонны в своем решении и отвечали строго, коротко, правдиво.
ИЗ ДНЕВНИКА
17 апреля. Немцы бомбят села и леса вокруг нас. Сегодня пришлось весь день пролежать в лесу, притаившись, чтобы не обнаружить себя. Вечером приступили к обучению нашего «пополнения».
18 апреля. В пяти километрах от нас немцы явились в село, загнали всех людей в хаты и клуни, несколько хат подожгли вместе с людьми, и начался грабеж. Все это рассказали нам крестьянские ходоки. Они пришли искать защиты у партизан. «Приходите к нам», просили они Ковпака. «Придем, а вас бомбить будут». — «Все равно, лишь бы без немцев». — «А когда уйдем, немцы села спалят». — «А тогда, може, Красная уже придет...»
Вечером начался страшный ливень. Укрыться в лесу негде, стоял под деревом полночи. Наливкин хотел снять мою плащ-палатку с аппарата и накинуть на меня. Пришлось объяснять ему, что аппарат — то же оружие, и его надо беречь больше, чем себя. «Без аппарата я никому не нужен, даже самому себе». — «Стало быть, я и при аппарате — ординарец?» — «Ты при мне, а при аппарате — я».
Как бы то ни было, на аппарат он взирает теперь с большим уважением.
19 апреля. С утра хорошая погода, я собирался снимать обучение новых партизан. Неожиданно получили донесение, что по Припяти из Мозыря в Киев идет немецкий катер и за ним несколько мелких судов. Тотчас же началась подготовка к встрече. Операция была поручена командирам Горланову и Карпенко. Их группы засели на берегу. Во второй половине дня на реке показался катер и за ним — вся немецкая боевая флотилия. Немцев подпустили совсем близко, и тогда был открыт огонь. Катер загорелся. Помощник Ковпака по хозяйственной части Павловский, сильный 45-летний человек, вскочил на первую попавшуюся лодку и с двумя бойцами поплыл к горевшему катеру. Лодка оказалась дырявою, набрала воды. Из иллюминатора на катере строчил пулемет. Павловский подплыл к нему и, схватив

Секретарь ЦК КП(б)У Д. С. Коротченко (второй слева), Ковпак и Руднев обсуждают обстановку
Партизаны разгружают захваченный у немцев пароход

ствол обеими руками, согнул его, а в иллюминатор швырнул гранату. Немцы начали прыгать в воду, но пули настигали их и там. Не ушел ни один. У нас потерь не было. Все это продолжалось несколько минут. Вместе с командирами я взобрался на палубу горевшего катера. Везде лежали трупы. Партизаны нашли на катере немало оружия. Оно было быстро доставлено на берег. Суда потопили.
Ночью партизаны переставили все сигналы, указывающие фарватер. Движение по реке закрыто для немцев надолго.
Вот я и участвовал в первой боевой операции! Хотелось бы мне, чтобы во время съемок в студии все шло так же слаженно. Партизаны совершенно спокойны и к вечеру даже не говорят больше о потоплении судов.
20 апреля. Ковпак, Руднев, я и еще несколько человек пошли в село Дроньки, помылись в бане, побрились. Посмотрел на товарищей и понял, как страшно выглядел до этого я сам.
Вечер провели в Дроньках. Появилась гармошка, партизаны запели. Было грустно, приятно и очень спокойно.
А за околицей стояло боевое охранение.
21апреля. Ночью около нашего лагеря сел самолет. Он доставил секретаря ЦК Коммунистической партии (большевиков) Украины Коротченко, секретаря ЦК украинского комсомола Кузнецова и других. Они привезли из Москвы газеты, папиросы. Если и я, всего десять дней назад точно так же приехавший из Москвы, накинулся на газеты и на папиросы, то нечего говорить, что делается в лагере. Вопросам о Большой земле нет конца, и я заметил, что задаю их не в меньшем количестве, чем все остальные.
22 апреля. Партизаны и партизанки выстроились, Перед фронтом Руднев огласил постановление правительства о награждениях. Затем тов. Коротченко вручив награжденным ордена и медали. Я снимал церемонию, все меня потом спрашивали: «А я попал? А я попал?» Кроме того снимал партизан группами вместе с Коротченко и Ковпаком, уже, гак сказать, как фотограф.
У нас работал зубной врач. Свой «кабинет» он устроил под открытым небом. Партизаны, здоровые и больные, расположились вокруг и с интересом следили за его работой. Я решил заснять эту картину. Как только я обошел аппаратом ряды зрителей и остановил его на враче и его «кресле», вскочил огромный детина, весь перепоясанный пулеметными лентами, с винтовкой в руке, и уселся перед врачом, широко раскрыв рот. Врач осмотрел его крепкие зубы и сказал:
— У вас все зубы целы, лечить нечего.
Но партизан, не смущаясь, ответил:
— А ты все равно чего-нибудь делай, хоть здоровый зуб вырывай, только покрасивей работай, пусть нас снимут, и чтобы винтовка непременно получилась.
Я снял героического поклонника кино.
23 апреля. Поехали в Дроньки вручить награды находящейся там группе. Собралось очень много крестьян. Коротченко произнес речь. Многие женщины плакали. Одна подошла к нему и строго сказала:
— Старуха я, мне скоро помирать, только я желаю дожить, когда придет Красная Армия. Ты прямо скажи, что нам делать, чтобы она поскорее пришла. А то ведь не доживу.
После вручения наград на улице поставили стол и началось угощение. Крестьяне принесли и еду и самогон, окружили нас и задавали тысячу вопросов. Коротченко и Ковпак так и не успели положить кусок в рот. А наша молодежь вместе с сельской плясала в это время на околице.
Вечером мы с Наливкиным поехали на аэродром. Это небольшая поляна в лесу; здесь были ямы и пни. Партизаны старались уравнять землю, но это удалось им не вполне. Удивительно, как летчики ухитрялись посадить здесь машину.
Днем около аэродрома караульные остановили какую-то женщину. Она сказала, что она русская, идет в соседнюю деревню. Что-то насторожило караульных. Ее обыскали и нашли магний и фонарик. В конце концов выяснилось, что она немка-колонистка, с начала войны работает у гитлеровцев и около аэродрома бродила со специальным заданием — установить партизанские сигналы. Самолеты уже трижды приземлялись в отряде, немцы об этом знали и решили, узнав наши сигналы, попробовать посадить следующие самолеты на своих аэродромах.
Мы с Наливкиным просидели на аэродроме до 2 часов ночи, но самолет не прилетел. А я так хотел отправить на Большую землю пленку, которую я уже заснял!
25 апреля. Первый день пасхи. Крестьяне пришли поздравить Ковпака и Коротченко. Старик и молодая девушка принесли кулич и крашеные яйца. После последней большой операции (она была проведена перед моим приездом) у партизан очень много захваченного у немцев продовольствия. Крестьянам роздали немало тонн зерна. Понятно, что на столах появился и самогон. Вечером к нам пришел даже священник. Как и крестьяне, он страстно ждет Красную Армию и готов помогать партизанам чем угодно. И не только на словах, потому что Ковпак сказал мне:
— Это поп верный, правильный поп.
Ночевал в Аревичах. Село совершенно пусто: боясь бомбежек, ушли и жители уцелевших домов. Странное чувство, спать в пустой хате и знать, что кругом никого, только развалины.
26 апреля. Невдалеке от нас остановился отряд Наумова, вернувшийся из большого рейда. Немцы уверяли, будто бы уничтожили отряд целиком. Однако он цел, хотя в тяжелых боях погибло немало партизан. Командир Наумов тяжело болен.
В отряд поехали Ковпак и Коротченко, и я, конечно, увязался с ними. Думал, что увижу больных, усталых, мечтающих только об отдыхе бойцов. Но на вопрос, кто желает вернуться на Большую землю, не отозвался никто. Один с силой сказал товарищу Коротченко:
— Может, вы считаете, что мы свое дело уже сполнили? А мы так считаем: пока ходит немец по нашей земле, мы должны его убивать.
Только один раз не выдержали партизанские нервы: когда из хаты вынесли на руках больного Наумова. Все столпились вокруг. У большинства были слезы на гла-

|
| Старик-крестьянин благодарит Ковпака и Руднева — командиров партизанского соединения, спасших его от немецких палачей |
зах, и никто не стыдился их. В эту минуту нам, приезжим, стало понятно, какой трудный путь прошли партизаны со своим командиром и как этот путь спаял их.
Наумова отвезли на наш аэродром. По приказу Коротченко вызван специальный самолет для отправки больного на Большую землю. Мы с Наливкиным провели еще одну бессонную ночь в ожидании самолета, но он опять не прилетел.
25 апреля. В воздухе — беспрерывно немецкие самолеты, разыскивающие нас.
Караульные привели в штаб двух чехов-перебежчиков — офицера и рядового. Они просили, чтобы мы оставили их в отряде. Ковпак, Коротченко и Руднев долго говорили с ними и решили, что они вернутся в свою часть и попытаются привести ее целиком в наш отряд или в другой. Чехи тут же написали воззвание к своим. Оно кончалось словами: «Бессмысленно и позорно проливать свою кровь за Гитлера. Если проливать ее, то за Россию — нашего брата и друга. Это значит бороться за свободную Чехословакию».
Ночью их отвели как можно дальше от нашего расположения и как можно ближе к их части и, попрощавшись, отпустили.
28 апреля. Утром солнце, днем ветер и тучи. Неужели самолет опять не прилетит? Негатив не дает мне покоя. Ночью отправил на всякий случай Наливкина на аэродром. Он долго не возвращался. Я нервничал. В половине четвертого утра он ворвался в хату с криком:
— Пришел! Ушел! Увез!
Оказалось, что самолет приземлился, забрал Наумова и мою пленку и тотчас улетел.
29 апреля. Последние дни Ковпак и Руднев часто совещаются. Мне показалось, что настроение у них приподнятое. Я спросил Ковпака, что нового.
— Ну что же, — ответил он, — ты комсостав, тебе можно сказать, только не болтай. Фрицев стало много вокруг, вот что. Большие части концентрируют. Всем работа будет. Держись, партизан!
Это обращение произвело на меня большее впечатление, чем известие о немцах. До сих пор Ковпак называл меня только оператором. 1
1 м а я. Чудесный день. Задолго до того, как мы проснулись, радистка Ковалева приняла приказ товарища Сталина. Она передала текст в нашу типографию (все наше «издательство» помещается на возу). К полудню приказ размножили. Лихой кавалерист — ординарец Иван Дудка — развез приказ по всем группам и заставам. К радиоприемнику приделали несколько рупоров и слушали.в лесу московский концерт. Сколько раз мы шутили в Москве: «Радио хорошо тем, что его всегда можно выключить». Здесь же ловишь каждый звук, представляешь себе каждого артиста, а голос Левитана кажется голосом брата.
После обеда у нас был свой концерт. Нашлись бывшие цирковые артисты, которые неплохо упражнялись на трапеции, очень хорошо пела девушка, кто-то лихо плясал чечетку, а под конец заиграл неизменный баян, звуки которого кажутся в лесу мягкими и нежными.
2 мая. Ночью, в одном из затонов Припяти, километрах в двенадцати от Аревичей, пристал немецкий катер-разведчик. Утром наши дозорные обнаружили его, хотя он спрятался под крутым берегом. Ковпак отдал приказ уничтожить его. Командовал группой тов. Лисица. Я поехал с ним. Как и в прошлый раз, операция продолжалась несколько минут и не стоила нам никаких потерь. Катер был обстрелян в упор и подожжен. Всех немцев уничтожили. Они не успели и пострелять.
3 мая. В лесу заблудился «полицай». Наши его, конечно, накрыли. Разговор был короткий: «Предатель!» Он молчит. «Своих убивал?» Молчит. Отрицать не мог, — при нем немецкие до<