Станислав Васильевич Зарницкий
Дюрер
Жизнь замечательных людей – 728
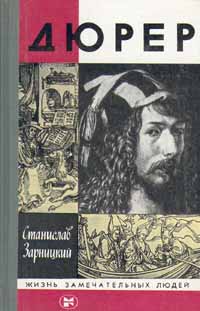
https://zzl.lib.ru
«Станислав Зарницкий «Дюрер»»: Молодая гвардия; Москва; 1984
Аннотация
Альбрехт Дюрер — крупнейший представитель немецкого Возрождения, величайший художник, чье искусство воздействовало на художников Германии и других стран Западной Европы. Борьба света и тьмы, разума и темных страстей — лейтмотив его творчества. Книга повествует о полной исканий жизни художника-ученого, протекавшей в бурное время широких народных движений в Германии, завершившихся Реформацией и Великой крестьянской войной.
ДЮРЕР
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА, НЮРНБЕРГСКОГО МАСТЕРА,
ПОВЕСТВОВАНИЕ О ВРЕМЕНИ, В КОТОРОМ ОН ЖИЛ, И ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ЕГО ОКРУЖАЛИ,
О ЕГО МНОГОТРУДНЫХ ПОИСКАХ КРАСОТЫ, ГОРЕСТЯХ И РАДОСТЯХ,
О СМЕРТИ ХУДОЖНИКА И БЕССМЕРТИИ ЕГО ТРУДА
ГЛАВА I,
в которой рассказывается о том, как определилась судьба Альбрехта Дюрера-младшего, как был он отдан в учение к художнику Михаэлю Вольгемуту и как впервые он задумался над тем, что же такое красота.
В тот день у Альбрехта Дюрера, нюрнбергского золотых дел мастера, не работали, ибо крестный его третьего по счету сына, тоже Альбрехта, печатник Антон Кобергер пригласил хозяина вместе с супругой отобедать у него. Глядя на счастливые физиономии своих подмастерьев и учеников, беззаботно предававшихся безделью, мастер Альбрехт с утра был не в духе: чему здесь радоваться, ведь, чтобы наверстать упущенное, завтра придется приналечь основательно.
Послушать его, так выходило, что приглашение кума ему в тягость. На самом же деле был он на седьмом небе от оказанной ему чести. Кобергер-то не захудалый ремесленник, не последняя спица в колесе. Слава его вышла за пределы Нюрнберга. Даже патриции не гнушаются сидеть за его столом. Заранее проведал Дюрер: будет у кума Имхоф. Значит, предоставлялась ему благоприятная возможность попробовать уговорить патриция стать крестным отцом его следующего ребенка, который должен был появиться на свет к пасхе.
|
|
Об этой страсти золотых дел мастера подыскивать для своих детей покровителей из богатых да знатных было широко известно в городе. Видели и то, что работает Дюрер день и ночь не покладая рук с одной целью — разбогатеть, подняться выше, ослабить оковы, ограничивающие свободу ремесленника. Правда, мастер о своих мыслях и планах предпочитал не распространяться, поэтому многие его коллеги считали его человеком себе на уме, скрытным и хитрым, с которым нужно было держать ухо востро. Уж не собирается ли он пролезть в общество патрициев? А что, с него станет! Но, задав себе этот вопрос, потешались над его нелепостью: скорее побегут воды Пегница вспять и падут нюрнбергские крепостные стены, чем подобное случится.
Дело в том, что те сорок патрицианских семей, которые испокон веков управляли Нюрнбергом, с недавних пор еще ревностнее стали охранять свои привилегии. Время было не, такое, чтобы расслабляться и отпускать узду. Привычное и устоявшееся теряло прочность на глазах. Хозяева города врожденным инстинктом политиков чувствовали это. Призрак 1348 года, когда ремесленники изгнали из города патрициев и создали из своих представителей новый городской совет, вдруг уплотнился и стал обретать более реальные контуры. Если бы только ювелир Дюрер стремился к богатству и власти! А то, пока что, правда, вполголоса, стали намекать о своих претензиях не в меру разбогатевшие владельцы оружейных мастерских и железоплавилен, хозяева текстильных мануфактур, менялы и ростовщики, совладельцы серебряных рудников, купцы, державшие в своих цепких руках торговлю чуть ли не со всем известным миром. Как удавалось им обходить существующие законы, предписывавшие иметь в мастерских не, более трех учеников и подмастерьев, — одному богу известно. На Кобергера, к слову, работало более сорока человек, и это сходило ему с рук. Патриции напоминали чуть ли не ежедневно, что согласно запрету Карла IV, примерно наказавшего в 1349 году взбунтовавшуюся нюрнбергскую чернь, ремесленнические цехи не должны заниматься политической деятельностью. Но все эти напоминания повисали в воздухе. Деньги давали силу, хотя в соответствии со стародавними нюрнбергскими законами ходили до сих пор новоявленные богачи в домотканой одежде, их супруги не надевали золотых колец и браслетов и не оскорбляли своим присутствием балы и танцевальные вечера в городской ратуше.
|
|
Внешне, однако, все выглядело спокойно. И вроде бы никто из разбогатевших не рвался к власти. Но, как поговаривали умудренные опытом мастера-оружейники, достигла жизнь того изгиба, когда вот-вот все должно было сломаться.
Об этом усиленно думали в Малом совете, или иначе Совете сорока, вершившем судьбы города и состоявшем только из представителей сорока патрицианских семей. Они тщательно отгораживались от нюрнбергского плебса и выталкивали из своей среды тех, кто разорился, кто не мог сохранить и приумножить свое состояние. Так что и здесь деньги давали власть. Иначе и нельзя: Совет сорока — это недремлющее око, оно постоянно должно держать в поле зрения всех этих ремесленников. Чтобы как-то успокоить их недовольство нюрнбергскими порядками, было принято решение определить восемь наиболее зажиточных мастеров. Один из них время от времени получал голос и место в совете, но не право выступать от имени своего цеха. Другой отдушиной был Большой совет, куда назначались двести представителей разных сословий, получавших титул «назначенного» или «уполномоченного». Полномочия, однако, были куцые — выступать в качестве свидетелей в городском суде, заверять нотариальные акты и присутствовать при выборах членов Малого совета. Большой совет не заседал регулярно, а созывался по воле и желанию Малого.
|
|
Итак, думали в Малом совете о все явственнее вырисовывающихся и, по-видимому, неизбежных переменах. Ломали голову, пытаясь дойти до корней происходящего. И все отчетливее стали звучать в совете голоса: не столь велика опасность, исходящая от разбогатевших ремесленников, они, мол, основ существования не тронут, от них можно откупиться — слава богу, за несколько веков поднаторели в этом. Опасность же несут пришельцы, осаждающие город. Кто они? Да ведь этот трудовой люд, который влекут к себе нюрнбергские мастерские, разорившиеся крестьяне, оказавшиеся ненужными в деревне, ибо разведение овец и расширение помещичьих посевов конопли и льна сгоняли их с земель. Жить им было не на что — те же патриции и церковь отбирали у них все в виде податей с зерна, овощей, скота, с права пользования рыбными ловлями и собирания хвороста в лесах. Вот уж эти-то не разбогатеют и не успокоятся. Доходили до Нюрнберга слухи о мятежах в других немецких землях. И снова думали патриции. Пока эта напасть обошла стороной их город. А милость господня, как известно, не безгранична.
Совет сорока всегда тщательно ограждал Нюрнберг от пришлых. Даже отпрыск патриция, не родившийся в городе, не мог с уверенностью рассчитывать, что он когда-либо займет место в Совете сорока. О других и говорить не стоило. Древний закон был строг: чужим не место среди нюрнбержцев! Правда, в последнее время и здесь все изменилось. Отправлялись горожане в чужие земли, привозили оттуда жен и детей. И опять же — это бы куда ни шло, но привозили они с собою и новые веяния, новые взгляды на жизнь, новые методы. Потянулись, наслушавшись их россказней, молодые люди в Венецию, Флоренцию, Рим, Париж и кто его ведает, еще куда. Будто дырявое сито, стали нюрнбергские городские ворота: пропускали всех подряд, даже тех, кто еще десяток лет тому назад не рискнул бы подойти близко к стенам Нюрнберга. Видимо, достигала жизнь действительно критического изгиба, и уже рвались и ломались вековые законы и традиции.
Да, строги когда-то были нюрнбергские законы и обычаи. На себе испытал их золотых дел мастер Альбрехт Дюрер. Родившись в мадьярских землях, в местечке Тюрен, много постранствовал он по свету, по немецким и нидерландским краям, прежде чем в 1455 году пришел в славный город Нюрнберг, известный своими изделиями из металла, оружием, точными инструментами, книгопечатанием. А когда пришел, решил обосноваться здесь навсегда. Но не тут-то было. Вот тогда он и познал всю непреодолимую силу нюрнбергских законов. Согласно им давал город гражданство лишь мастерам, и в то же время в самом городе нельзя было стать мастером, не будучи нюрнбергским гражданином. Чего не предпринимал Дюрер, чтобы разорвать этот круг, — даже сражался в рядах городских арбалетчиков против извечных врагов Нюрнберга — рыцарей Ганса и Франца Вальденфельсов. Не помогло. Упрямилась судьба, да не на такого напала. Было Дюреру уже под сорок, когда он попал в Штепсельгассе, в дом Иеронима Хольпера, золотых дел мастера.
Там Альбрехт Дюрер увидел пятнадцатилетнюю дочь Хольпера Барбару, красивую, цветущую, стройную. И отцу новый подмастерье понравился — прилежен, благочестив, рачителен. 1 апреля 1467 года Хольпер, не поскупясь на обильные подношения кому следует, добился от совета невиданного доселе решения: Альбрехт Дюрер стал контролером за качеством серебра и золота во всех нюрнбергских мастерских, хотя не был он еще ни мастером, ни гражданином Нюрнберга. Хольперовы гульдены пересилили городские регламенты. А 8 июня того же года сочетался Альбрехт Дюрер законным браком с девицей Барбарой Хольпер. Если беда не приходит одна, то, как убедился вскоре Альбрехт Дюрер, и счастье тоже не любит гулять в одиночку. Через год получил он звание мастера, и теперь ничто не препятствовало ему стать полноправным гражданином Нюрнберга.
Спустя три года после свадьбы перебрался он с молодой женой от тестя во флигель дома, принадлежавшего патрицию Пиркгеймеру.
Здесь 21 мая 1471 года от рождества Христова, когда над Пегницем отцветали яблоневые сады, а в застоявшемся городском воздухе явственно ощущался запах молодой зелени, родился у них сын, которого в честь отца окрестили Альбрехтом.
К тому времени успели Дюреры похоронить двух своих отпрысков. Всю отцовскую любовь отдал мастер Альбрехт этому третьему ребенку, молил бога, чтобы он уберег его, ибо смерть, как кажется, облюбовала их дом. Не ведающая жалости, бродила она и после рождения Альбрехта по всем закоулкам, склонялась над колыбелями. Ушли туда, откуда нет возврата, дочери Барбара, две Агнесы, Маргарита, Урсула и Катерина. Проводили на кладбище и сыновей — Иоганна, Зебальда, Иеронима, Антона, Петера… Ничто не помогло — ни обеты, ни знатные крестные. Каждый год, девятнадцать лет подряд, рожала Барбара по ребенку, но, видимо, не было суждено приумножиться дюреровскому роду. Лишь Альбрехт-младший подрастал всем смертям назло, и до поры до времени щадил господь двух его братьев и сестру.
Нет, не лез мастер Дюрер в патриции, но плоды трудов своих пожинал аккуратно. В 1475 году приобрел он за двести гульденов у Конца Линтнера собственный дом на углу Кузнечного переулка, у самого подножия крепости-бурга, где предпочитали селиться преуспевающие ремесленники. Только вот когда рассматривал купчую, скрепленную печатью имперского города, вставал перед глазами истинный владелец усадьбы — золотых дел мастер Петер Крафт, не смогший уплатить долги Линтнеру. Дюреру пришлось подписать заемное письмо на сто гульденов и, кроме того, обязаться выплачивать в течение неопределенного времени проценты — «вечные деньги» — по четыре гульдена ежегодно. Влез в кабалу. Через пять лет новые расходы: снял в аренду лавку напротив ратуши, тоже ради престижа — получить в этом торговом ряду место значило сказать всему городу о своем преуспевании. Ох, сколь мудры были отцы города, записавшие в законах: всякое украшательство — ремесленнику во вред и разорение! Как вол трудился теперь Альбрехт Дюрер, а его подмастерья и ученики так и вовсе работали от зари до зари. По нюрнбергским предписаниям не мог он держать больше трех подмастерьев. Но совет смотрел сквозь пальцы, когда в мастерской работали члены семьи ремесленника. И пришлось поэтому Альбрехту-младшему расстаться с латинской школой, где проучился он всего два года.
Однако нужно было искать еще и побочных доходов. В 1481 году стал мастер пайщиком золотого рудника в Гольдкронахе. Внес деньги, приобрел право на часть добычи и, если появится такое желание, на самостоятельную разработку золотой жилы. Умные люди советовали: почему бы не воспользоваться привилегией, которая издавна была предоставлена ювелирам, — подрабатывать ростовщичеством? Ведь даже патриции иногда становились на бумаге золотых дел мастерами, чтобы обладать таким правом. На соблазн мастер не поддался, ибо твердо памятовал, что некогда изгнал Христос менял из своего храма.
За честность и трудолюбие Дюрера в Нюрнберге уважали, но иногда поражал он знакомых своими странностями. Бывало, заговорит о собственном гербе и даже опишет его: распахнутая дверь стоит на вершине горы или на облаках. Дверь — понятно, ибо место, где он родился, называется «Тюрен», а это по-немецки и означает «дверь». Гора или облако — тоже несложно: вот, мол, до каких высот он добрался. Только на кой черт простому ювелиру герб? Но чаще всего из Дюрера слова не вытянешь — большим слыл молчальником. Может быть, потому, что так и не смог избавиться от своего мадьярского выговора. В трактиры, на удивление всем, он заглядывал нечасто. А где еще можно потолковать о делах, узнать новости? Воистину, странный человек! И в гости ходил крайне редко — лишь тогда, когда требовалось заручиться поддержкой в каком-нибудь важном для себя деле.
Из близких друзей в городе у Дюрера был, пожалуй, только живший неподалеку крестный отец его сына, типограф Антон Кобергер, к которому мастер время от времени наведывался. Может быть, потому сошлись они, что были оба пришлыми в Нюрнберге. Антон обосновался здесь за год до рождения Альбрехта-младшего, будучи тогда золотых дел мастером. Решив, однако, что на этом много не заработаешь, продал свое дело и открыл печатный двор. И правильно сделал.
Кобергеру в практической сметке отказать было нельзя, и целей своих он добивался. Решил утереть нос всем на свете. Получилось: через пять лет книги его славились и по ту, и по эту сторону Альп. Печатал их Антон множество, вместе с купеческими караванами отправлял почти во все немецкие, да и не только немецкие, города. Разбогател.
А вот с непосредственными соседями не мог Дюрер найти общий язык. С живописцем Михаэлем Вольгемутом почти не знался, так как вбил себе в голову, что художник сманивает у него сына. И впрямь — парень целыми днями торчит в его мастерской, дома же вся работа стоит. Куда бы ни шло, если бы сын действительно постигал там ремесло, а то только краски растирает да болтает без умолку. Если уж говорить откровенно, то недолюбливал Дюрер «мазил», стоявших в его глазах на ступень ниже ювелиров. После нескольких ссор перестал Михаэль пускать к себе юного Альбрехта. Сегодня же опять застал Дюрер-отец своего сына за беседой с вольгемутовскими подмастерьями. В наказание велел ему весь день сидеть в мастерской и никуда не отлучаться.
С другим соседом, Шеделем, Дюреру нечего было делить. Просто невзлюбил его, и все тут, хотя, как говорили в городе, это был большого ума человек. Может, оно и так, но вежливости тоже не мешало бы занять. Пройдет мимо — даже не кивнет. Слышал Дюрер, что Шедель пишет какую-то историю, начиная ее от сотворения мира, а заканчивая бог весть чем, и вроде бы знает наизусть труды древних греков и латинян. Вот это особенно настораживало мастера против Шеделя: занимался бы лучше Священным писанием, а не трудами каких-то язычников. И пусть не убеждают его, что и отцы церкви штудировали Аристотеля. Тоже сравнили! Отцы церкви — и книгочей Шедель!
Наконец отец с матерью ушли, и сразу все затихло. Погружаясь в ночной сон, переходил дом во власть жутких скрипов и шорохов. Страшно. От старших Альбрехт знал, что это не находят покоя души некогда живших здесь людей. А тут еще свеча еле-еле освещает большую мастерскую, будто стоящее на отцовском верстаке венецианское зеркало впитывает весь ее свет. Магическое стекло так и притягивает…
К зеркалу отец строжайше запретил не только притрагиваться, но даже подходить близко. Его принесли днем от патриция Имхофа. Заказал патриций для него серебряную раму. Сказали, что это — подарок Имхофовой невестке из Венеции, что стоит оно очень много, так как сделано известным мастером, единственным из тех, кто обладает всеми тайнами обработки стекла.
Нельзя, однако, весь вечер любоваться собой в зеркале. Дернул дверцы отцовского шкафа — неожиданно для него они оказались открытыми. Это было уже счастьем. За сборами в гости забыл старый мастер, как обычно, тщательно запереть его. Вот они — гравюры знаменитого мастера Шонгауэра. Не так уж часто доводилось Альбрехту любоваться ими. А теперь вдруг представилась такая возможность — более того, теперь можно даже попытаться скопировать их. Мадонна великого мастера чем-то неуловимым напоминает «монну Имхоф», такая же красивая. С нее и начал. Не получается — «нюрнбергская Венера» в десятки раз лучше. Все-таки неуловимая вещь красота и непонятная! Вот, например, отцу одни вещи нравятся, а другие нет. Почему? Вольгемут часто говорит: красота есть во всем, что угодно богу. Только разве это ответ?
Перебирая гравюры, натолкнулся на лист бумаги, а на нем портрет отца. Верь после этого взрослым! Сам рисует, а ему запрещает. В том, что это отцовская работа, Альбрехт не сомневался. Левый глаз на рисунке меньше правого. Вольгемутовские подмастерья его уже просветили: так всегда получается, когда художник рисует себя, глядя в зеркало.
Перевернул лист, на котором пытался изобразить шонгауэровскую мадонну. Вперился в зеркало. Впервые так близко и так четко увидел свое лицо. Скорчил рожицу — стекло передразнило его. Альбрехт засмеялся, и серебряная палочка уверенно побежала по бумаге. Время от времени сверял рисунок со своим отражением. Все точно, память не подводила. Глаза, припухшие от напряженного всматривания в выводимые на золоте узоры. Щеки подростка, пока не утратившие детской упругости. Потом заструились волосы, выбившиеся из-под ученического колпака. На бумаге рождался двойник Альбрехта-младшего, сына золотых дел мастера Дюрера. Сердце забилось сильнее. Волноваться нельзя: рука гравера должна быть твердой — таково наипервейшее правило, которое постоянно внушает ему отец. Но разве можно быть спокойным, когда понимаешь, что творец наделил тебя способностью навсегда сохранить на бумаге то, что видят глаза.
Так увлекся, что чуть было не завопил от испуга, когда протянулась через плечо жилистая рука и схватила рисунок. Отец! Альбрехт и не слышал, как он вошел в мастерскую. И ко всему прочему был Альбрехт-старший сильно не в духе. Знал сын: нет ему оправдания. Пролепетал первое пришедшее на ум: вопрос — что такое прекрасное? И тут опешил отец. Опустилась рука, уже занесенная для справедливого возмездия. Прекрасное? В самом деле, что же это такое? Ну, к примеру, прекрасной бывает вещь, от которой людям польза, прекрасно то, что радует глаз. Ну, и… Но все-таки — что же это такое?
Молча уложил мастер шонгауэровские гравюры на место. Приказал Альбрехту идти за собой — в свою комнату. Кряхтя открыл тяжелую крышку ларя, достал завернутый в чистую холщовую тряпицу сверток. Разложил на столе бесценное сокровище — несколько дюжин гравюр и рисунков. Альбрехт знал: часть из них отец собрал еще в молодости, во время странствований по Германии и Нидерландам. Иногда, будучи в хорошем настроении, рассказывал он Альбрехту о своих встречах с художниками. Вот это действительно были мастера! Разве таких сыщешь в Нюрнберге? По мнению Альбрехта, отец явно преувеличивал: кто еще мог сравниться с мастером Михаэлем? Но теперь видел — отец не лгал. Были такие художники!
— Вот что такое красота, сын!
— А разве это людям полезно? В чем она, эта польза?
Не нашел мастер, что ответить, и приказал Альбрехту идти спать: завтра ведь вставать с петухами.
Долго еще ходил старик Дюрер из угла в угол. Надо же, все мысли спутал этот упрямец своим неуместным вопросом. Действительно, в чем же заключается красота? А ведь и без того от дум голова раскалывается! Не получилось серьезного, нужного разговора с патрицием Имхофом. Вначале Антон занимал гостей пустяками — рассказывал о печатном деле в Швейцарии и Италии, показывал полученные оттуда книги. Дюрер терпеливо ждал, когда придет его черед говорить… Но потом все вдруг на него навалились. Мол, нехорошо, что Дюрер чурается соседей. И Вольгемут и Шедель — почтенные, уважаемые в городе люди, а он их знать не желает, с мастером Михаэлем живет в ссоре. Слухи об этом дошли до совета… Теперь уже и не припомнишь, как оно вышло, но только дал он обещание помириться с Вольгемутом. Да если бы только этим и ограничилось! Вырвали Имхоф с Кобергером согласие отдать Альбрехта в обучение мастеру Михаэлю. А все этот Антон! Нюрнбергу, видите ли, нужны мастера гравюр, Нюрнберг прямо-таки не может обойтись без них, Нюрнберг, мол, еще потягается с Венецией и Флоренцией. А красота, сын мой Альбрехт, это когда… Впрочем, все, что думал, кажется, уже сказал… Хорошо, хоть согласился Антон нести половину расходов по обучению крестника. Ну и на том спасибо! А до того, что погибнет искусный золотых дел мастер, что пару рук у него отобрали, им и дела нет. Им рисовальщика, гравера подай!..
За то время, что прожил Дюрер в славном городе Нюрнберге, он хорошо усвоил, что совет патриция равносилен приказу. Никуда не денешься: надо кончать распрю с Вольгемутом, но со дня на день откладывал Дюрер неизбежное примирение. Так дотянул до июня 1486 года, до самого дня святого Лойена, патрона золотых дел мастеров, когда надлежало ему как старшине братства ювелиров дать наиболее уважаемым коллегам обед. Имел он право пригласить в трактир по своему усмотрению и выбору нескольких представителей других профессий. К превеликому своему удивлению, получил тогда мастер Михаэль любезное приглашение на совместную трапезу. Более того, когда после праздничного шествия по нюрнбергским улицам все сели за стол, то оказался Вольгемут по правую руку от Дюрера, на почетном месте. То ли из-за оказанной чести, то ли по другой причине, но дождался Вольгемут соседа, чтобы вместе идти домой. Так на погруженной в ночную тьму улице под собачий брех состоялось наконец их примирение. Чтобы закрепить его, несмотря на поздний час, затащил Михаэль соседа к себе.
А просидев с час за кружкой теплого пива, которое и в горло не лезло, понял Дюрер, что жребий живописцев мало чем отличается от жребия золотых дел мастеров. У них жизнь тоже не сладкая. Особенно осуждал мастер Михаэль новые обычаи, которые насаждают в городе патриции и их отпрыски, стремящиеся превратить Нюрнберг в северную Венецию. Тащат без разбору все из-за Альп, не задумываясь, можно ли натянуть итальянский сапог на нюрнбергскую ногу. В результате же разрушают все каноны искусства.
Кивал в знак согласия Дюрер. Что ему еще оставалось? Он был того же мнения. Только не для споров об итальянцах зашел он к Вольгемуту. Чтобы направить беседу в нужное русло, сказал Дюрер, что становится стар, пора, мол, определить сына. Прищурился Вольгемут, словно кот, глядя на свечку. Согласился с гостем, что не заметили они, как подкатила к порогу старость, и, не дав рта открыть, снова пустился в воспоминания.
Как и сосед, проходил Вольгемут «курс наук» в Нидерландах и до сих пор сохранял высокое мнение о тамошних мастерах. Прибыв в Нюрнберг, тоже долго не мог устроить свою жизнь. Работал с утра до ночи на Ганса Пляйденвурфа. Все перенес — и голод, и холод, и побои. Пляйденвурф был живописец отменный, но строг. Когда в 1472 году старый Ганс умер, Михаэль поспешил жениться на его вдове. Приобрел благодаря этому и звание мастера, и прочное пристанище. Дальше пошло все гладко. Однако слишком долго ходил он под железной пятой Пляйденвурфа и потому привык во всем следовать его вкусам. В результате выработался у Вольгемута свой, особый стиль, в котором смешались навыки и опыт местной и передовой нидерландской школы. Ну и пусть, лишь бы его ремесло приносило деньги. «Деньги сейчас в Нюрнберге — мерило всего, — вздохнул Михаэль. — Деньги — это бог, все остальное пустяки». Нужно рисовать портрет — рисует. Заказывают витражи для собора святого Лоренца — делает. Просят написать алтарь — пишет. Кто первым пришел на помощь Кобергеру, когда тот стал развертывать в Нюрнберге свое предприятие? Он, Вольгемут, сделавший для него не один десяток гравюр. Всего сам добился, и теперь, глядишь, и забот бы не было, если бы не возвратился из Нидерландов пасынок Вильгельм Пляйденвурф, который потребовал своей доли наследства и звания мастера. Совет Нюрнберга пошел ему навстречу. Стал Вильгельм совладельцем мастерской, но решил заниматься не живописью, а изготовлением резных алтарей. Характер же у пасынка гадкий, с ним даже святой не уживется.
В ином свете вдруг представился Дюреру преуспевающий заносчивый сосед. Эх, грехи, грехи! За что же люди так жестоки друг к другу?
…Прошла ночная стража, бряцая оружием и громко переговариваясь. Дюрер поднялся, сказал, что пора и честь знать. А когда уже был на улице, спохватился, что о главном — об ученичестве Альбрехта — так и не договорился. Вольгемут, конечно, догадался обо всем. Настоящий нюрнбержец все понимает с полуслова.
С этого дня их отношения изменились: встречаясь на улице, чинно раскланивались, но об Альбрехте помалкивали. Искал Дюрер для самого себя отговорки: скажем, как без помощи сына выполнить заказ патриция Кресса — изготовить дюжину золотых кубков, украшенных орнаментами? Ведь это большие деньги, да и с заказчиками сейчас туговато, и платежи на носу, а сбережений почти никаких. Только все это было ложью во спасение. Просто страшила Дюрера мысль, что покинет сын его мастерскую.
Однако все рано или поздно приходит к своему концу. Был завершен и пресловутый заказ. Отправился мастер Альбрехт вместе с сыном в церковь святой Девы Марии, но не молиться, а посмотреть работы мастера Михаэля, в том числе недавно законченный алтарь. До сих пор шел от него дразнящий запах красок, который не могли перебить даже благовония, пропитавшие за столетия здание. Особого восторга старый мастер не испытал. Алтарь как алтарь. Таких дюжины. Допрашивал знакомого монаха, сколько же получил Вольгемут. Оказалось, что заработал сосед поболее, чем он за свои кубки. Это как-то утешило. Но все-таки, когда возвращались домой, суковатая, отполированная до блеска годами и руками старого мастера палка необычно сердито опускалась на мостовую.
Вернувшись, прошли сразу в мастерскую. Снял отец праздничный костюм, надел одежду, в которой работал, и приказал то же самое сделать сыну. Сел за рабочий стол, достал самую лучшую бумагу, серебряные палочки. Пусть-ка Альбрехт нарисует его. Забегал карандаш но бумаге. Уверенно. Быстро. Лишь изредка бросал юный художник взгляд на модель. Глубокие морщины, опустившиеся книзу уголки губ, жесткие седые волосы, выбившиеся из-под колпака. Понял, почему отец захотел быть нарисованным не в нарядном облачении. Ведь не в праздниках, а в повседневном труде прошла жизнь мастера. Старческие складки на шее, суровые озабоченные глаза с покрасневшими веками… Отец сидел вполоборота, словно застыв. Ни разу не дрогнула его рука, державшая тяжелую статуэтку, изображавшую воина.
Не видел сын, что невеселые думы теснились в голове мастера-старика. Какой золотых дел мастер пропал! Ведь еще будучи учеником, создал Альбрехт серебряный кубок с изображением страстей Христовых, которому иной мастер мог бы позавидовать. Жаль, что не в Альбрехтовы руки перейдет мастерская. Конечно, может он запретить ему заниматься рисованием. Слава богу, еще не отменили в Нюрнберге закона, по которому волен отец сам избирать для сына ремесло. Но что это за мастер, который работает без охоты? Может случиться еще худшее: умрет он — бросит сын мастерскую и будет добиваться своего. А время уже упущено. Станет тогда вечным неудачником и проходит до смерти в подмастерьях у какого-нибудь захудалого живописца. Знавал он и таких — спившихся, с потухшим взором и омертвевшим разумом…
Наступал вечер. Все труднее становилось различать линии. Все ниже склонялся юный художник над листом бумаги. Наконец портрет был готов. Альбрехт-старший расправил занемевшие плечи, взял рисунок. Долго рассматривал, отодвинув его почти на расстояние вытянутой руки. Сказав несколько похвальных слов, отец снова переоделся. Поднялся наверх и приказал Барбаре собирать ужин. Но сам он есть не будет, так как идет к Антону и, видимо, задержится у него.
Трудный это был разговор — начистоту. Не скрывал Дюрер, что ставит свое ремесло превыше всех прочих. А Кобергер вовсю расхваливал гравюры. Понятно, конечно: не восхвалять же ему ювелирное дело, которому он изменил ради издания книг. Оправдывает свое отступничество, других убеждает: шире, мол, надо смотреть, идет новое время, когда художник будет выше любого ремесленника. Так же, как в Италии, в Германии тоже сколько новых церквей строится, а для них нужны и алтари, и роспись, и скульптура. Нюрнбергские купцы и патриции потянулись к наукам и искусствам. Раньше хозяин поражал гостя золотыми тарелками и кубками, а теперь прежде всего показывает книги и картины. Да почему, скажите на милость, Вольгемут не ровня ему, Дюреру? Мастер плохой? Денег у него меньше? Не известен ли он, что ли, в городе? Трудно было не согласиться с Антоном, что, коль дело по душе, человек может многого достичь и если предопределено Альбрехту быть художником, то мешать этому не следует. Пусть он не станет Апеллесом, а уж Вольгемута наверняка превзойдет. Кто такой Апеллес, Дюрер не знал, но то, что сын не сможет сравняться с ним, почему-то вдруг обидело его. Когда же вдруг выяснилось, что Кобергер говорил с Вольгемутом и тот согласен взять к себе Альбрехта, настроение у мастера совсем испортилось: почему это все без него решают? Может быть, он не желает, чтобы Альбрехт учился у Михаэля; вот возьмет да и отправит сына в Кольмар к Мартину Шонгауэру. По крайней мере, мастер Мартин гравер отличный.
Однако сказано было это для красного словца. Желал Дюрер, чтобы сын был ближе к родному дому. Боязно отпускать от себя любимца тому, кто сам долго странствовал и узнал, каково чужаку приходится в дальних краях.
Был день святого Андреса — 30 ноября 1486 года, — самый счастливый день в жизни Альбрехта Дюрера-младшего.
Подписал отец с соседом договор. Он, золотых дел мастер Альбрехт Дюрер, отдает своего сына в учение мастеру Михаэлю Вольгемуту сроком на три года. Обязуется платить означенному мастеру ежегодно четыре гульдена. Плату за первый год вносит вперед. Достал отец из потертого кошеля четыре золотые монеты, передал их Вольгемуту. Внесли вино. Вот здесь и решился Дюрер спросить Михаэля, кто же такой этот живописец по имени Апеллес и правда ли, будто писал он столь хорошо, что птицы слетались клевать изображенный им виноград? Сосед отвечал, что правда, но что, мол, только от того Апеллеса ни одной картины не осталось. И сдается ему, что все это лишь одни сплошные россказни.
Кобергер был мудр. Видел далеко вперед и тысячу раз был прав, говоря Дюреру: для Нюрнберга начинаются новые времена. Накапливая богатство, город и дня не терял даром. Росли его слава и могущество. Нюрнбергские купцы не знали покоя. Словно суетливые пчелы, собирали они золото со всей Европы. Факторы — представители торговых домов и одновременно дипломаты — сидели более чем в семидесяти городах. Они добрались до Гданьска, Ревеля, Братиславы, Кракова, Львова. Они обосновались в Венеции и Амстердаме. Они шли дальше, прокладывая новые пути для нюрнбергских товаров. Надменная Ганза уже недовольно хмурилась. Венеция кисло кривилась. Зорко следил Нюрнберг за всем новым, что появлялось в мире и могло пойти ему на пользу. Как только изобрели книгопечатание, город обзавелся типографиями. Родилось огнестрельное оружие — нюрнбергские оружейники превзошли всех в его изготовлении. Сам город почти не воевал, но оружием торговал — на этот счет его совет принял дельный закон: нюрнбергские оружейники имеют право сбывать свой товар на том условии, чтобы враждующие стороны получали его поровну.
Как бы ни расхваливал Дюрер золотых дел мастеров, но и сам без Кобергера видел — набирают силу другие ремесла. Деньгам была нужна богатая оправа. Город возводил соборы, башни которых неудержимо тянулись к небу. Старые церкви перестраивались и отделывались заново. Через Пегниц перебрасывались мосты на манер венецианских. Рушили добротные дома, а на их месте возводили другие, наподобие итальянских, изукрашенные искусными фресками. И выходили на первое место каменотесы, живописцы, скульпторы.
Было бы все это полбеды. Но надвигалось отовсюду на город что-то новое и непонятное. Шло оно с юга — оттуда, из-за Альп. Это патриции, повадившиеся ездить в Италию, чтобы набираться ума, тащили в Нюрнберг заразу. Вместе с фурами, груженными иноземными книгами, утварью, картинами и одеждами, скрытно, незаметно вползали за краснокирпичные стены другая мода, другие обычаи и новые веяния. Хранители старины пытались задержать их у дверей своих домов, изгнать, запретить. Но нет, ничего не получалось.
Через десятки лет, вспоминая о своем учении у Вольгемута, напишет Дюрер кратко, что у него он «очень страдал», и ни словом не обмолвится, чему же там научился.
Для Вольгемута его учитель Пляйденвурф был мерилом всех мерил, для Дюрера мастер Михаэль никогда не был авторитетом, именно это и помогло ему вступить на самостоятельный путь.
И все-таки годы, проведенные в вольгемутовской мастерской, не были потрачены напрасно. Даже копирование гравюр, которое иногда доводило Альбрехта до исступления, заставило его над многим задуматься. Работы Шонгауэра, которые, как потом оказалось, мастер Михаэль очень ценил, дали многое. Конечно, не манерность поз апостолов, не эти картинно выставленные из-под одежд ноги, не дубина, изящно придерживаемая святым Яковом двумя пальчиками, и не святой Михаил, столь бережно поражающий дракона-дьявола, словно имеет пело с сырым яйцом, — нет, не это поразило его воображение. Штриховка — вот на что он обратил внимание. Большой мастер из Кольмара очень близко подошел к возможности передачи светотени на гравюре. Альбрехт Дюрер — а его можно считать учеником Мартина Шонгауэра — решил задачу до конца. Начались те опыты, которые нередко вызывали у его друзей недоуменную улыбку: Дюрер стал рисовать скомканные простыни, смятые подушки, сжатые в комки листы бумаги. Он постигал тайну жизнеподобия в рисунке упорно, как умел лишь он один.
Стремился Вольгемут остановить то новое, что внушало ему опасения, на пороге своей мастерской, но вместе с очередным своим учеником — постоянно думающим, вечным тружеником Альбрехтом Дюрером — впустил это новое в свою дверь. Ибо желание твердо поставить на землю танцующих, порхающих, словно бестелесных, апостолов и святых и вернуть им живую плоть вскоре приведет Дюрера к итальянским мастерам, уже сумевшим сделать это.
«O tempora, o mores!» («О времена, о нравы»!) — говаривали еще древние римляне. «Раньше все было лучше», — не переставал твердить и мастер Михаэль. Да, времена менялись: исчезал мало-помалу дух корпоративности и взаимовыручки, свойственный цехам ремесленников. Каждый был за себя, за всех, как теперь частенько говорилось, был лишь бог. Сетовал мастер на коллег-художников, а сам был ничем не лучше их: беззастенчиво грабил своих собратьев, выискивал неудачников, которые безропотно работали на него, набирал заказы, которые и за несколько лет не смог бы исполнить, а потом за некоторую мзду уступал другим художникам. Дух накопительства, не знающего жалости и сострадания, все прочнее овладевал Нюрнбергом.