ПРОЛОГ
В день, который еще совсем недавно был одним из самых чтимых советских праздников, 1 мая 1995 года, около половины второго 27-летний Олег Ч. возвращался вместе с родителями с кладбища в городе Сальске. Когда еще навещать могилы близких, как не в праздники, считает подавляющее большинство граждан России, чьи будни, как правило, посвящены вещам куда более обыденным и прозаическим. Человек, по-видимому, довольно энергичный, он не мог держаться неторопливого прогулочного шага и, постепенно отрываясь от приуставших отца и матери, все дальше и дальше уходил вперед. Пройдя через территорию асфальтового завода, Олег вышел к железной дороге и вдоль нее решительно зашагал по направлению к Нижнему Сальску. Возможно, он думал о чем-то своем, хотя, конечно же, не совсем отрешился от замершей в честь праздничного дня, но все же не совсем остановившейся окружающей жизни.
Вдруг Ч. услышал душераздирающий женский крик, выведший его из состояния расслабленности и благодушия. Как тут не разволноваться? В наш век, когда вокруг кишит всякая нечисть, всегда стоит оставаться настороже. Обернувшись, он только сейчас неожиданно понял, насколько оторвался от родителей: их нигде не было видно. Рефлекторно, еще не поняв ничего на сознательном уровне, Ч. быстрым шагом, почти переходя на бег, устремился назад. Завернув за угол какого-то придорожного строения, он увидел странную и страшную картину: прямо на железнодорожном полотне, между рельсами, на шпалах какой-то мужчина сидел на распростертой под ним, почти уже не сопротивлявшейся женщине и в остервенении, замахиваясь, наносил удары ножом. 

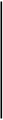 Не каждый день доводится нам собственными глазами видеть такое, и поди знай, как поступать в подобных ситуациях. Растерявшийся Ч. крикнул во весь голос: "Ты что делаешь, гад!". К его удивлению нападавший стремительно вскочил и, мгновенно перемахнув через забор находившегося рядом элеватора, скрылся где-то на его территории.
Не каждый день доводится нам собственными глазами видеть такое, и поди знай, как поступать в подобных ситуациях. Растерявшийся Ч. крикнул во весь голос: "Ты что делаешь, гад!". К его удивлению нападавший стремительно вскочил и, мгновенно перемахнув через забор находившегося рядом элеватора, скрылся где-то на его территории.
О дальнейшем известно от сотрудника милиции, прибывшего на место происшествия, осмотревшего его и опросившего изрядно растерянного свидетеля. Как следует из рапорта, неожиданно неподалеку послышался звон битого стекла. Подбегая, они увидели какого-то парня, затаившегося за металлическими бочками, который не стал дожидаться, пока его задержат, и побежал. На крик "Стой!" он не отреагировал и не остановился. Бежал парень быстро, но бестолково, и за территорией его удалось догнать. Почувствовав, что ему не уйти, беглец обернулся, срывающимся голосом закричал: "Это не я!", - и, поскользнувшись на краю какой-то лужи, упал лицом в грязь.
Так закончилась эта непродолжительная погоня. В кармане убийцы были обнаружены золотые изделия, часы и ключи, принадлежавшие работавшей на железнодорожной станции Сальск Елене Ш., которую не могли найти с 10 часов утра. Но сотрудников правоохранительных органов вскоре ждал удивительный сюрприз. На первом же допросе пойманный с поличным преступник неожиданно заговорил. И не просто заговорил, а хвастливо заявил, что они услышат нечто такое, чего им никогда в жизни слышать не приходилось. "По сравнению со мной дело Чикатило покажется вам примитивным и неинтересным", - утверждал он.
Самое удивительное в том, что Владимир Муханкин, по-видимому, был прав. "Феномен Муханкин" действительно в ряде отношений превосходит "феномен Чикатило".
ГЛАВА 1
ПОРТРЕТ ПРЕСТУПНИКА В ЮНОСТИ
IКаковы истоки преступления? Почему и откуда появляются ни перед чем не останавливающиеся жестокие убийцы-садисты? Кто ответственен в большей мере за формирование аномальной личности - наследственность или среда, семья или общество, индивидуальное или социальное? Эти взаимоисключающие предположения давно уже дебатируются учеными-психологами, криминалистами, писателями, религиозными мыслителями, а то и просто весьма ординарными людьми, пытающимися понять то, что еще в XVIII веке осознал знаменитый французский философ Жан-Жак Руссо, который уверенно заявлял, что прогресс материальной цивилизации отнюдь не ведет автоматически к прогрессу в сфере нравственности.
Если бы мы сами были однозначно уверены в истоках "феномена Муханкина", то сразу же сформулировали бы свой тезис, обратившись то ли к аксиомам психоаналитической доктрины, то ли к азам социологии. Но нам не хочется торопиться. Тем более, что наш "соавтор", пусть его информация и не всегда надежна и достоверна, снабдил нас огромным фактическим материалом, неспешное и критическое осмысление которого поможет, наверное, постепенно разобраться в тех обстоятельствах, что на самых ранних этапах развития личности ребенка привело к ее деформации. Попытаемся же создать портрет преступника в юности, опираясь на его собственные суждения и наблюдения.
Для меня было бы лучше, если бы я совсем ничего не помнил о своей жизни, но, к сожалению, я помню очень многие моменты лет с трех...
С чего начать и откуда, даже не знаю. У меня тем более нет таланта, личного восприятия художника, нет собственного вырабо 
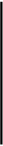 тайного метода писания, творчества и чистой литературной техники. Соответственно, бороться здесь за чистое звучание каждого слова я не буду - ума не хватит для этого. Хочу сразу сказать, что разжалобить и расчувствовать я никого не собираюсь, так как я уже давно утонул. Если взглянуть на содеянное мною, то и без того ясно, что прощения мне нет. Людей, убитых мною, не воскресить, а следовательно, и мне на этом свете не место. Хочется, чтобы скорее прошел процесс, суд и окончательный приговор.
тайного метода писания, творчества и чистой литературной техники. Соответственно, бороться здесь за чистое звучание каждого слова я не буду - ума не хватит для этого. Хочу сразу сказать, что разжалобить и расчувствовать я никого не собираюсь, так как я уже давно утонул. Если взглянуть на содеянное мною, то и без того ясно, что прощения мне нет. Людей, убитых мною, не воскресить, а следовательно, и мне на этом свете не место. Хочется, чтобы скорее прошел процесс, суд и окончательный приговор.
Итак, мы видим по этим фрагментам, как в самом начале своей рукописи Муханкин, пусть и отрицая наличие "метода писания", по-литературному точно расставляет акценты. Он приступает к рассказу о потрясениях детства, не придерживаясь строгой хронологической последовательности событий, прерывает время от времени изложение фактов своими истолкованиями, забегает вперед или возвращается в более ранний пласт прошлого, пытаясь увязать между собой прихотливые факты, соединяющие воедино узор человеческой жизни. Не зная, кем станет наш "соавтор", мы, наверное, в отдельных пассажах обнаружили бы явные свидетельства природного писательского дара, позволяющего незнакомому с изящной словесностью автору повторно открывать весьма изощренные повествовательные приемы, усиливающие эстетическое воздействие текста и его читательский потенциал.
Родился я 22 апреля 1960 года в Ростовской области, в Зерно-градском районе, в сотне километров от райцентра, в колхозе "Красноармейском". И день тот был знаменателен тем, что совпал с днем рождения великого Ленина. Долго мамочка не думала, как меня назвать. Пусть сын будет назван в честь вождя пролетариата Владимиром. Наверное, и мысль промелькнула в голове молодой матери, а вдруг ее сын тоже хоть не очень великим, но станет.
Удивительный и впечатляющий штрих. И не столь уж важно, реален он или является последующей находкой Муханкина-автора. Не парадоксально ли, что серийный убийца походя соотносит себя с Лениным, которого, выросши в Богом забытой глубинке гигантского
коммунистического государства, воспринимает как эталон величия, достижимого смертными мира сего?
В 1959 году моей матери было 19 лет, отец ее симпатичность увидел и стал ухаживать за ней. В июле отец добился успеха, и моя мать забеременела. Далее нужно было что-то решать, и решили жить у его матери на другой улице в том же колхозе. Время шло, и мать, и отец работали, мать не очень здорово переносила беременность, а свекрови это не нравилось. Она издевалась психически над моей матерью, высказывая, что та свинарка и что есть для отца достойные жены, например девчонки из конторы, магазина и т. д.
Свекровь всю еду прятала под замок в погреб, и мать худела с каждым днем, ей было очень плохо, и утром, голодная, она уходила на работу в свинарник, но отцу об этом не говорила, боя- лась. Бывало, отец допоздна где-то погуляет и с холода придет домой в зимнее время, мать его накормит и уложит в нагретую другую постель спать отдельно от матери. Она все время гадости всякие про мою мать говорила ему и т. д.
Моя бабушка от людей узнала, что матери моей очень плохо. Все думали, что мать доходит и может скоро умереть. Когда бабушка поговорила с матерью, та во всем призналась. Бабушка забрала мать от отца и свекрови и долго отхаживала ее. И в 1960 году 22 апреля моя мама родила меня. А отец тем временем гулял свадьбу с девушкой, которая работала в магазине; с ней он до сих пор живет. И родился я незаконнорожденным и во всем всегда виноватым.
Можно легко представить себе, каким могло быть настроение не очень уравновешенной женщины, бывшей в течение нескольких месяцев объектом издевательств, а затем брошенной с совершенно ненужным ей ребенком на руках.
Внутри мамы была злоба на неудавшуюся жизнь с моим родным отцом, который в те дни женился на другой девушке, а может быть, и раньше, - отец, узнав о моем рождении, бросил все дела и прибежал в больницу посмотреть на сына. Конечно, ему стоило больших трудов прорваться в палату, где лежал я - живой комочек -и спал. Отец стоял, смотрел на меня и на мать и плакал. Мать, конечно, ядом дышала на отца, дерзила и прогнала его из палаты.

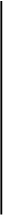
 Няньки тоже бросали в сторону отца змеиные взгляды и шипели, выражали свое недовольство.
Няньки тоже бросали в сторону отца змеиные взгляды и шипели, выражали свое недовольство.
И вот: шестидесятые годы, колхоз глухой, забитый, и вдруг из больницы выходит мать-одиночка с дитем на руках, а колхоз есть колхоз - палец людям в рот не клади, откусят руку по самый локоть. И пошли кривотолки, посмеивания, покусывания.
Мама была психичная и загоралась от всякой мелочи, как спичка. Были доброжелатели, и гадалки, и всякие твари-советчицы. Мама по своей молодости мозгов, по-видимому, не имела и начала маяться дурью. Насоветуют черт знает что ей подруги, она хватает меня и бежит на другую улицу в конец колхоза к моему отцу, бросает меня там на лавку около забора, то ли на крыльцо и орет: "Забери своего сына!" Опомнится и давай забирать назад.
Нервотрепка продолжалась долго. И вот однажды отец не выдержал, пошел в сельсовет, объяснил председателю колхоза ситуацию и сказал: или пусть нам дите отдаст, или пусть угомонится. Вскоре все прекратилось. Однако отцу запретила мать приходить к сыну и от всех услуг отказалась.
Из этого сообщения мы можем без труда извлечь представление об удивительной по накалу чувств драматической ситуации. И действительно, представим себе, как в небольшой деревне, где все на виду и каждый знает все о каждом, к дому молодоженов чуть ли не каждый второй день устремляется в неистовстве потерявшая контроль над собой молодая женщина и подбрасывает ребенка, и снова подбрасывает, и с одной подспудной сверхзадачей: добиться того, чтобы разыгрался как можно более громкий скандал. Быть может, ей кажется, что отец ребенка вернется к ней, но едва ли сама она искренне верит, что подобными методами сумеет добиться какого-либо ощутимого результата. Скорее, ею движет мстительность, надежда разрушить отношения молодоженов, скомпрометировать отца ребенка в глазах окружающих.
Какие чувства способна она испытывать к своему первенцу? Любовь? Нежность? Едва ли. Какая любящая мать бросит орущего младенца на скамейке и уйдет восвояси? Нет, этот ребенок для нее не просто помеха, обуза, он бессознательно воспринимается как воплощение зла, символ несчастья, постоянное напоминание о том, что она брошена, покинута. Его истошные вопли, пусть она и сама того не понимает, становятся своеобразной компенсацией: не одной ей плохо, могла бы подумать она, если бы была в состоянии анализировать собственные поступки, ребенку еще хуже. Конечно, наш рассказчик повествует обо всем этом с чужих слов. Взрослый человек никогда, как правило, не может воспроизвести по памяти того, что приходится на три первых и, возможно, решающих года его жизни. Тут, наверное, использовано то, что слышал он от самой матери, о чем рассказывала бабушка, а что-то, возможно, дошло до него впоследствии в пересказах деревенских сплетников. Не забудем, что он, помимо всего прочего, хочет растрогать своего главного, основного предполагаемого читателя следователя Яндиева. И все же мы чувствуем искренние нотки в этом рассказе. Ведь в сознании Муханкина прочно отложился тот факт, что в наш мир он пришел непрошенным и никому не нужным, что само его тело стало разменной монетой во взаимоотношениях между матерью и отцом. Страшнейшая травма, перенесенная уже в первые недели жизни, налицо. Образ матери начинает связываться в восприятии ребенка с мучениями, истерическими криками, холодом, чувством заброшенности. Этот холод окружает его, обволакивает со всех сторон. Женщина, давшая ему жизнь, делает все для того, чтобы превратить его жизнь в непрекращающуюся муку. Так каким же должно стать со временем отношение к этой женщине? Или женщине вообще? А что, если от этого импульса идет потребность отомстить обидчице за перенесенные муки?
Реконструируя историю Муханкина, у нас есть возможность многое сравнить и сопоставить. В частности, мы имеем, как уже стало понятно, различные тексты нашего героя-"соавтора", которые отчасти дополняют, а отчасти противоречат друг другу. Втянувшись в литературные взаимоотношения с Яндиевым, наш герой выступает в разных жанрах и ролях. И не только мемуариста, но и комментатора-теоретика. Среди многочисленных текстов мы обнаруживаем тетрадку, в которой со 
 держатся развернутые комментарии к четырем проблемам, затронутым в беседе со следователем. И в связи с первой из них: "Влияют ли наследственные данные на совершение убийств, изнасилований и т. д., если да, то что именно?" - Муханкин пишет:
держатся развернутые комментарии к четырем проблемам, затронутым в беседе со следователем. И в связи с первой из них: "Влияют ли наследственные данные на совершение убийств, изнасилований и т. д., если да, то что именно?" - Муханкин пишет:
Лично я считаю, что влияют. Говорю откровенно о том, что нужно Вам знать.
Моя мать, когда родилась, то все думали, что она умрет, такое у нее было от рождения состояние здоровья. От здоровья родителей очень многое зависит. Жизнь у нее была трудная с периодическими болезнями... Родилась мать в 1940 году 12 февраля.
О родном отце знаю немного. Он лет на десять старше моей матери. Я слышал, что он психичный, гулящий, если наступал у него момент расстройства, то его трясло, он бледнел, и неизвестно, чего можно было от него ожидать. И от людей слышал, что мой родной отец не пропускал в колхозе своем и рядом находившихся колхозах ни одной девушки, женщины, ни одной юбки, как говорится, не пропускал и таскался за женским полом. От женщин слышал, что он был хороший парень из обеспеченной и богатой семьи, не знающий ни в чем нужды.
Девушки в те далекие 50-е и т. д. годы им были довольны как самцом, мужчиной. Мой отец тогда работал в колхозе, возил на автомобиле председателя. Всю жизнь начальство отцом как работягой было довольно, имеет он массу поощрений. До сих пор работает, в данный момент возит в колхозе или агронома или еще какого-то начальника. Скоро пойдет на пенсию. Держится как мужчина хорошо и выглядит моложе своих лет. Имеет двух сыновей. Жизнь отца и его детей обеспеченная и прекрасно сложенная. Полный у всех достаток.
От мужиков и своего отчима слышал, что мой родной отец трусливый, общается только с теми, кто ему выгоден и нужен, лишних знакомств не заводит, живет как куркуль или кулак и лишний раз не обратит внимания на боль или страдания ненужных и неудобных ему односельчан, сам по себе скупой, расчетливый, в понятиях его только дом свой и своя семья и только гребет все под себя, нужда других его отвращает и не интересует. До сих пор ухаживает за женщинами, которые ему нравятся, а бабаньки от него без ума. Значит, он еще способный и не атрофирован. Прервемся на минуту и отметим очень сильно выраженную неприязнь нашего повествователя к отцу. Если неприязнь к матери часто бывает у него подспудной, закамуфлированной, то ненависть к отцу лежит буквально на поверхности. И дело не только в том, что отец -формальный виновник его несчастливого детства, спровоцировавший буйные выходки и изуверские поступки матери. Отец явно отторгается нашим героем-писателем еще, как минимум, по двум соображениям. Он, во-первых, воспринимается им, как воплощение удачливости, как символ устроенности и благополучия, как человек, сумевший вписаться в систему, приспособиться, организовать свой быт, и в этом он полярен Муханкину -прирожденному отщепенцу и изгою. Дом, семья, сыновья, работа, комфорт, почет и уважение — не слишком ли много для одного человека? Справедливо ли это? С точки зрения Муханкина, нет. Но обратим внимание на то, что за "во-первых" следует несомненное "во-вторых". Ловелас-отец очень удачлив в отношениях с женщинами. И в молодости умел находить к ним подход, и в пожилые годы, похоже, если верить тенденциозной версии повествователя, с ними не теряется. Не надо быть особо изощренным психологом, чтобы почувствовать почти неприкрытую зависть. Так завидовать может лишь тот, кто чувствует невозможность конкурировать с собственным отцом. Итак, если образ матери (женщины) с раннего детства становится воплощением обидчицы (и на нее направляется жажда отмщения), то образ торжествующего, непобедимого отца (мужчины) приобретает черты недостижимого идеала. Не с ним ли соревнуется наш герой в своих эротических текстах (см. главу 7)? Унизить, растоптать женщину, перещеголять, победить мужчину — вот те два подспудных страстных желания, которые, по-видимому, начали формироваться уже очень давно. Учтем к тому же такой фактор, как отдаленность, недосягаемость отца, превращающегося волей обстоятельств в некую почти ирреальную, мифологизированную фигуру.


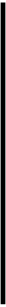
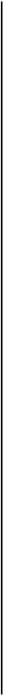 С ним я заговорил в 1994 году. Это в 34 своих тогда года! А всю жизнь у меня с отцом родным никаких отношений не было, хотя мы и жили в одном колхозе. К общению первым сделал шаг я.
С ним я заговорил в 1994 году. Это в 34 своих тогда года! А всю жизнь у меня с отцом родным никаких отношений не было, хотя мы и жили в одном колхозе. К общению первым сделал шаг я.
В целом не так много в нашем распоряжении фактов о раннем детстве Владимира. Но, сопоставляя их, мы можем выделить несколько доминирующих мотивов: отчужденность от матери, ищущей себе друга, спутника жизни, пробующей, ошибающейся и вымещающей злость за неудачи на ребенке; чувство "жизни под замком", противоречиво сочетающееся с полной вольницей и бесконтрольностью; смакование жестокости (муханкинская память сохранила - и, разумеется, не случайно, — особенно много садистских эпизодов). Но передадим слово нашему рассказчику, чтобы, как говорится, из первых уст получить представление о картине событий.
Прошло три года. Я помню, что ко мне приходил мой отец. Мать ему дверь не открыла, и я с ним общался через стекло на веранде.
Каждый день, можно сказать, я был под замком. Рос под этим же замком. Помню, что на другой улице жила сестра матери с мужем и сыном, моим двоюродным братом.
Отца брата называл папа Ваня. Помню, как он меня катал на велосипеде, мотоцикле. Проявлял ко мне любовь, заботу и внимание, всегда уделял мне много времени, играл со мной и был для меня вроде как отец. Однажды сестра матери с семьей своей уехала, и моя радостная жизнь на этом кончилась. Рос я также под замком. Из окна наблюдал, как другие дети играют зимой и летом на улице. Иногда кто-нибудь из материнских подруг не выдержит такого зрелища, зайдет во двор, найдет ключ от хаты и заберет меня к себе домой, а я, как волчонок забитый, на месте кручусь и не знаю, что мне делать и как и с кем играть, и говорить с детьми, такими же, как и я, по годам, тоже не мог: не знал о чем.
Как-то внезапно появился в нашей с матерью жизни новый папа-белорус. Начали жить кое-как с ним. Этому папе новоявленному нужна была мама, но не я. Сначала Вася-белорус меня не трогал, а потом, когда обжился, начал наглеть, бить меня слегка, но рубцы оставались на теле, - как сейчас, помню все. Только за то, что я нетакой, как все, не то сделал, не туда пошел, не то взял, не так ответил и т. д., он то пинал, то швырял меня. В пять лет Вася-белорус мне уже смело в морду кулаком бил и куда попало, а мама, в свою очередь, по полдня и полночи на колени меня ставила в угол на уголь, соль крупную, горох, пшеницу. Я до сих пор не пойму, что с того мать имела, может быть, кайфовала по-своему, а может быть, так надо было наказывать свое дитя в те годы - не знаю. И не могла мать не видеть, что мне было ужасно больно, не видеть моих страданий. Защитить же меня было некому, и некому было пожаловаться. Возможно, уже тогда рождались во мне злоба, ненависть и страх.
Мои провинности выглядели так. У Васи-белоруса закончилось курево. Он меня посылает к соседу, тот дает мне начатую пачку "Севера". Я ее приношу и отдаю Васе. Васе кажется, что тот не мог дать уже начатую пачку, и он идет к соседу. Тот спьяну не помнит, что дал, и говорит, что пачка была целая. Вася приходит домой и разбивает мне кулаком нос и губы. Я умываюсь кровью, а мать ноль внимания на это.
Бывало, я убегал к бабушке на другую улицу, жаловался, но она могла меня только пожалеть, а в семью нашу не лезла. Конечно, приходила к бабушке мать, забирала меня домой, и опять следовало наказание.
Стало немного легче жить, когда Вася-белорус уехал в Белоруссию, в город Пинск Брестской области. Скоро и мы с матерью уехали из колхоза туда же, к этому Васе. Помню только: приехали в Пинск, пришли на паром и ждем с матерью чего-то. Рядом проплывает теплоход, с парома кто-то прокричал, чтобы вышел на палубу Василий такой-то. Смотрю, мать повеселела, замахала руками, кричала, что мы приехали, взяла меня на руки и приподняла над перилами, а я, как увидел, что на палубе стоит этот Вася, весь задрожал и начал вырываться из рук матери, заплакал и просил мать, чтобы назад уехали в колхоз, говорил, что боюсь этого Васю. Конечно, маму долго просить не надо было, и прямо там, на пароме, получил я ремня по пятое число; как говорится, это было вступление к новой жизни.
Город меня, дикаря колхозного, конечно, пугал. С другой стороны, много в городе интересного было и заманчивого. Многие люди разговаривали на незнакомом мне языке, национальном, белорусском. Дети, такие же, как я, по годам, вели себя более цивилизованно, были чище и одевались по-современному, во всем превосхо 
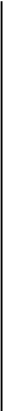 С ним я заговорил в 1994 году. Это в 34 своих тогда года! А всю жизнь у меня с отцом родным никаких отношений не было, хотя мы и жили в одном колхозе. К общению первым сделал шаг я.
С ним я заговорил в 1994 году. Это в 34 своих тогда года! А всю жизнь у меня с отцом родным никаких отношений не было, хотя мы и жили в одном колхозе. К общению первым сделал шаг я.
В целом не так много в нашем распоряжении фактов о раннем детстве Владимира. Но, сопоставляя их, мы можем выделить несколько доминирующих мотивов: отчужденность от матери, ищущей себе друга, спутника жизни, пробующей, ошибающейся и вымещающей злость за неудачи на ребенке; чувство "жизни под замком", противоречиво сочетающееся с полной вольницей и бесконтрольностью; смакование жестокости (муханкинская память сохранила - и, разумеется, не случайно, - особенно много садистских эпизодов). Но передадим слово нашему рассказчику, чтобы, как говорится, из первых уст получить представление о картине событий.
Прошло три года. Я помню, что ко мне прихоДил мой отец. Мать ему дверь не открыла, и я с ним общался через стекло на веранде.
Каждый день, можно сказать, я был под замком. Рос под этим же замком. Помню, что на другой улице жила сестра матери с мужем и сыном, моим двоюродным братом.
Отца брата называл папа Ваня. Помню, как он меня катал на велосипеде, мотоцикле. Проявлял ко мне любовь, заботу и внимание, всегда уделял мне много времени, играл со мной и был для меня вроде как отец. Однажды сестра матери с семьей своей уехала, и моя радостная жизнь на этом кончилась. Рос я также под замком. Из окна наблюдал, как другие дети играют зимой и летом на улице. Иногда кто-нибудь из материнских подруг не выдержит такого зрелища, зайдет во двор, найдет ключ от хаты и заберет меня к себе домой, а я, как волчонок забитый, на месте кручусь и не знаю, что мне делать и как и с кем играть, и говорить с детьми, такими же, как и я, по годам, тоже не мог: не знал о чем.
Как-то внезапно появился в нашей с матерью жизни новый папа-белорус. Начали жить кое-как с ним. Этому папе новоявленному нужна была мама, но не я. Сначала Вася-белорус меня не трогал, а потом, когда обжился, начал наглеть, бить меня слегка, но рубцы оставались на теле, - как сейчас, помню все. Только за то, что я не такой, как все, не то сделал, не туда пошел, не то взял, не так ответил и т. д., он то пинал, то швырял меня. В пять лет Вася-белорус мне уже смело в морду кулаком бил и куда попало, а мама, в свою очередь, по полдня и полночи на колени меня ставила в угол на уголь, соль крупную, горох, пшеницу. Я до сих пор не пойму, что с того мать имела, может быть, кайфовала по-своему, а может быть, так надо было наказывать свое дитя в те годы - не знаю. И не могла мать не видеть, что мне было ужасно больно, не видеть моих страданий. Защитить же меня было некому, и некому было пожаловаться. Возможно, уже тогда рождались во мне злоба, ненависть и страх.
Мои провинности выглядели так. У Васи-белоруса закончилось курево. Он меня посылает к соседу, тот дает мне начатую пачку "Севера". Я ее приношу и отдаю Васе. Васе кажется, что тот не мог дать уже начатую пачку, и он идет к соседу. Тот спьяну не помнит, что дал, и говорит, что пачка была целая. Вася приходит домой и разбивает мне кулаком нос и губы. Я умываюсь кровью, а мать ноль внимания на это.
Бывало, я убегал к бабушке на другую улицу, жаловался, но она могла меня только пожалеть, а в семью нашу не лезла. Конечно, приходила к бабушке мать, забирала меня домой, и опять следовало наказание.
Стало немного легче жить, когда Вася-белорус уехал в Белоруссию, в город Пинск Брестской области. Скоро и мы с матерью уехали из колхоза туда же, к этому Васе. Помню только: приехали в Пинск, пришли на паром и ждем с матерью чего-то. Рядом проплывает теплоход, с парома кто-то прокричал, чтобы вышел на палубу Василий такой-то. Смотрю, мать повеселела, замахала руками, кричала, что мы приехали, взяла меня на руки и приподняла над перилами, а я, как увидел, что на палубе стоит этот Вася, весь задрожал и начал вырываться из рук матери, заплакал и просил мать, чтобы назад уехали в колхоз, говорил, что боюсь этого Васю. Конечно, маму долго просить не надо было, и прямо там, на пароме, получил я ремня по пятое число; как говорится, это было вступление к новой жизни.
Город меня, дикаря колхозного, конечно, пугал. С другой стороны, много в городе интересного было и заманчивого. Многие люди разговаривали на незнакомом мне языке, национальном, белорусском. Дети, такие же, как я, по годам, вели себя более цивилизованно, были чище и одевались по-современному, во всем превосходили меня. Я с ними не мог играться, зато наблюдал за ними и радовался, когда им было весело и хорошо.
В городе жили мы намного беднее, чем другие люди. Мне до сих пор кажется, что из-за городской суеты до меня не было никакого дела ни матери, ни Васе. Я радовался тому, что у меня была свобода. Я мог часами бродить по карьерам и по берегу реки Припять. В лесу любил бродить сам по себе, и мне было хорошо одному. Время от времени схватывал ремня и зуботычины от мамы и Васи-белоруса, особенно, когда попадал под горячую руку. Старался всеми силами не попадаться им на глаза лишний раз.
Некоторое время мы пожили на пароме, а потом сняли квартиру на улице Железнодорожной в частном секторе. Хозяева, которые сдали нам комнату в своем доме, были многодетные и имели небольшое хозяйство. Все их дети были девчонками. Семья очень приличная и порядочная была. Я таких семей и такого воспитания до сих пор больше не видел и не знаю. Ко мне относились и взрослые и дети, как к своему сыну и брату. Там, из этой семьи, я и пошел в первый класс. Учился очень хорошо и был отличником. С девчонками дома мы ставили спектакли и пели песни. В школе гербарии собирали и клеили, зоокружок вели и везде во всем друг другу помогали. Если кто-то из нас получал четверку, то для всех это было горем, из самой школы шли все вместе и плакали.
А тем временем Вася-белорус загулял, запьянствовал, и мать с горем пополам с ним разбежалась. Не знаю почему, но после первого класса мать решила уехать опять в колхоз к бабушке в Ростовскую область. Не успели лето пожить в колхозе, как мама сорвалась с места, и мы уехали в Сальский район в птицесовхоз "Маяк". Жили мы у материной сестры. И вот перед вторым классом неждан-но-незванно появился в доме другой папа. Это был молодой, красивый парень, который, оказывается, давно был знаком с мамой, и она ему очень полюбилась. И оказалось, что они издавна переписывались. Наступил момент, когда завели меня в дом и спросили, как я буду этого дядю называть. А я вижу: в руке у него большая шоколадка, и я уже мысленно ее ем. Порешили, что я должен называть этого дядю папой. Я согласился и за это получил шоколадку.
И опять молодая пара увлеклась собой, не видя берегов и что еще среди них есть я. Вскоре перешли на квартиру к соседке. Это была старая бабуля, вечно чем-то недовольная. Какую-то вещь затеряет, а мать из меня выбивает признание. Села на градусник и раздавила его - я виноват, и опять меня били как собаку, потому что я якобы лазил по ее вещам и раздавил градусник. Тетка моя тоже ко мне прикладывалась - надо или не надо. Тетка у меня -большая, крупная женщина. А рука у нее - как у медведя.
Нам недостает объективной информации о детстве Владимира, но нетрудно, переосмыслив его собственные рассказы, вывести заключение о все нарастающем чувстве злобы и одичании ребенка, путающегося под ногами у неопределившейся матери, постоянно чувствующего свою ненужность окружающим и одиночество, страдающего от садистских актов жестокости и ощущающего, как в нем самом зреют зверские порывы.
Вот так началось мое детство. Мать взрослела и начинала налаживать свою жизнь, а с ней был я, как обуза, и деться-то некуда было от меня, а матери, ясное дело, и погулять хотелось, и жизни хорошей хотелось. Мать налаживала свою жизнь, а моя жизнь убивалась. Смена мужей, мест жительства и т. д. - все влияло на психику ребенка.
Нельзя сказать, что меня день и ночь били, истязали и по-разному издевались надо мной мать и новые отцы. Но года в три или четыре я понял, что такое очень больно и почему бы не сделать больно мне кому-нибудь - хотя бы животным, птицам и детям, с кем игрался, бывало, вместе в овраге, только более слабым и меньше меня. И я, чуть-что малейшее, сразу, без обдумывания последствий, мог ударить любого палкой, камнем или гвоздем уколоть. Колеса пробивал людям на велосипедах, мотоциклах, машинах.
Вот смотрите и на такой момент: лет в шесть я уже мог нанести рану корове или лошади чьей-нибудь, мог разорвать кошку живьем, курицу и другую небольшую живность, но это только в том случае, если меня избили или еще как-нибудь наказали. Если за дело наказание было, то я понимал, что виновен и так делать нельзя.
Муханкин сам подводит нас к мысли, что жестокость его всегда была ответом на чужую жестокость и только. И все же: почему один ребенок, когда его несправедливо обидят, забивается в угол, или убегает в овраг, или еще куда-нибудь подальше от взрослых и страдает, и мается в одиночестве, и проливает горькие слезы, и мучается оттого, что ощущает свою покинутость и заброшенность, а другой начинает кромсать и сокрушать все вокруг себя и в состоянии совершить по отношению к другим живым существам во сто крат больше жестокостей, чем выпало на его собственную долю? Не потому ли, что помимо внешних факторов, воздействующих на личность, тех влияний, что испытывает она от домашних и посторонних, в детсаде, школе и где-либо еще, существуют и некоторые внутренние свойства самой этой формирующейся личности? Если это и так, то Муханкин признать такое даже в камере не готов.
И в то же время обратите внимание на тот факт, что, когда я уже, допустим, после незаслуженного наказания (а это уже от ума родителей зависит) разорвал живьем кошку - так сказать выместил на ней свою обиду и злобу, - я отходил, мяк, и мне было очень обидно, и больно, и тяжко за то безобидное животное. Я видел, что родителям хоть бы что: им не больно, не холодно, не жарко, и я не знал, что делать, и плакал, и жалел куски мяса от кошки, шкурку, кишки и другие ее части, собирал их в кучку и где-нибудь хоронил и часто приходил на место захоронения и видел в памяти происшедшее. Бывало, разрывал землю зачем-то, чтобы посмотреть на останки, а оттуда вонь невыносимая гниющего. И было так противно и плохо.
Это удивительное признание, не вошедшее в мухан-кинские "Мемуары" и вырвавшееся у него на самой последней стадии следствия, очень красноречиво. Мы видим, что уже в шестилетнем возрасте мальчик Вова обладает не только садистскими, но и выраженными некрофильскими наклонностями. Иначе как бы разорвал он злосчастную кошку на маленькие кусочки, как бы потом без отвращения возился в останках - шкуры, мяса, кишках - складывал все это в кучку, хоронил? Более того, возвращался потом на место захоронения, разрывал бы его и вдыхал тошнотворные трупные запахи? Без сомнения, лукавит наш повествователь, утверждая, будто не хотелось ему этим заниматься. Скорее всего, уже тогда почувствовал он первые уколы еще не сформировавшегося до конца наслаждения — сперва от возни с трупом, затем от смрада гниющей плоти. После всего того, что уже известно о последующих преступлениях Муханкина, генезис его патологических пристрастий устанавливается с достаточной определенностью.
Но есть в этой истории и другие обращающие на себя внимание моменты. Скупое упоминание о том, что мальчик, возвращаясь мысленно к совершенному убийству живого существа, "видел в памяти происшедшее", говорит о рано развившейся у него способности к фантазированию. Да, он специально, намеренно возвращался к месту захоронения и раскапывал его, потому что, помимо всего прочего, вновь мысленно переживал самый миг убийства, слышал, весь напрягшись, истошные вопли погибающей жертвы, хруст ломающихся костей, чувствовал липкую манящую прелесть плоти, истекающей кровью под рвущими ее на части пальцами. Только извращенное сознание, разумеется, способно на такие крайности, но, прочитав это, мы понимаем, что в психике ребенка уже в раннем детстве проявились очень глубокие и страшные по возможным последствиям аномалии. И, хотя наш рассказчик никогда, конечно же, добровольно не сознается в этом, логично предположить, что, разрывая на части кошку, или совершая какое-нибудь иное зверство, или роясь впоследствии в полусгнивших останках и вновь переживая в воспоминаниях происшедшее, он, скорее всего, сводил счеты с матерью: может быть, прямо, а еще более вероятно, подменяя ее в своей фантазии какой-либо знакомой или сконструированной воображением женщиной. Матери, а не кошке, собаке или корове предназначались, по-видимому, эти живодерские и некрофильские выходки.
Не каждое животное, стремится убедить нас Муханкин, могло подвергнуться экзекуции, а только чужое, к которому он был равнодушен, эмоционально бесстрастен.
И еще прошу обратить внимание на тот факт, что свое любимое животное, например, собаку, кролика, кошку, птичку, я не трогал: не знаю, почему, но, вероятно, потому, что оно свое и ему плохо будет и больно и потом его у меня не станет. Кажется, был какой-то страх, если мог так о своем подумать.
У меня была в года 4 собака, и я с ней дружил. Звали собаку Жульбарс. Однажды эту собаку, красивую, громадную, добрую и все понимающую, соседи отравили. Я это не смог нормально перенести, у меня по существу оторвали часть души и сердца, я лишился чего-то более высокого, чем люди, и я до сих пор безошибочно могу за огородом старого дома, где мы то