Николай Иванович Дубов
Небо с овчинку
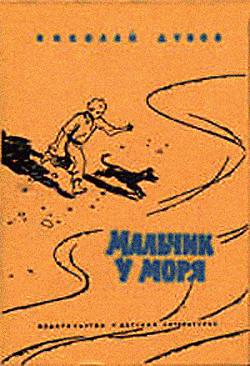

Николай Дубов
Небо с овчинку

Несчастья свалились на Антона одно за другим.
Тетя Сима вернулась с работы озабоченная и взбудораженная. Разогревая обед, она запела: «Шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной, угрюмый океан», а потом так задумалась, что котлеты, и без того маленькие, пережарились и стали похожими на пуговицы.
На памяти Антона тетя пела один‑единственный раз. Случилось это за обедом. Принесли почту, папа взял «Известия», а конверт протянул тете:
– Тебе, Сима.
Тетя оседлала нос пенсне, прочитала адрес на конверте, покраснела и сказала:
– Простите, я сейчас, – и ушла в свою комнату.
Вскоре оттуда долетели очень странные, ни на что не похожие звуки.
– Плачет? – встревожилась мама.
– Нет, поет, – сказал папа.
Это было так же неожиданно и удивительно, как если бы вдруг запела голая бетонная тетка с веслом, зачем‑то поставленная в пионерском саду. Разумеется, на ту бетонную тетку тетя Сима совсем не похожа. Она как раз очень худая, строго и всегда одинаково одетая: черная юбка, белая блузка с длинными рукавами и воротничком, закрывающим все горло. На блузке кармашек для пенсне. Пенсне у нее старомодное, не с защипками, а с дужкой над переносицей. Точь‑в‑точь как на портретах у Чехова. Папа говорил, что так раньше одевались курсистки. Тетя и в самом деле была курсисткой, только очень недолго: началась революция и курсы то ли закрыли, то ли переименовали. Она очень гордилась тем, что была курсисткой, и всегда одевалась так, как одевалась когда‑то, еще молоденькой девушкой. Мама много раз пыталась убедить ее сшить современное платье. Тетя Сима отклоняла все предложения:
– В моем возрасте смешно гнаться за модой. Нет ничего хуже, чем быть смешной. «Смешное убивает», – сказал один великий человек…
Тетя перестала петь. Это было хорошо, потому что и самый великий музыкант не нашел бы мелодии в ее пении. Вернувшись к столу, она сказала, что получила письмо от друга своей юности, он приезжает сюда на несколько дней и, наверное, навестит ее.
– Бывший жених, что ли? – спросил папа.
– Одно время нас считали женихом и невестой, – сказала тетя Сима и снова покраснела. – Сейчас это не имеет никакого значения. Просто он очень интересный человек.
В течение нескольких дней тетя без конца говорила, какой это замечательный человек и как хорошо, что они с ним познакомятся. В день его прихода она ужасно волновалась, начала готовить какой‑то необыкновенный торт, без конца бегала к соседке советоваться и так над ним хлопотала, что в конце концов торт получился твердым, как кирпич, и ей пришлось сходить в «Гастроном» за готовым.
Бывший жених пришел вечером и оказался лысым толстым человечком с тусклым голосом. Он все время потел, очень много и громко ел и монотонно жаловался. На жизнь, маленькую зарплату, своих сослуживцев, соседей по квартире и на все, о чем бы ни заговорили.
Тетя смотрела на него сияющими глазами и говорила ему «ты». Это было непонятно, потому что из всех людей, каких знал Антон, она говорила «ты» только своему брату, папе Антона, и самому Антону. Даже маме она всегда говорила «вы». Тетя пыталась заговаривать о литературе, о прошлом, то и дело восклицала: «А помнишь?…»
– Да, да, конечно, – рассеянно отвечал бывший жених и снова принимался за еду.
Тетя перестала наконец восклицать, сникла, будто еще сильнее постарела, и только подкладывала гостю на тарелку. Тот съел все дочиста, пожаловался на колит, повышенную кислотность и ушел. Не зажигая света, тетя полчаса просидела одна в своей комнате, а когда вышла в кухню мыть посуду, глаза у нее были красные.
– «Как хороши, как свежи были розы», – печально продекламировала она, рассматривая хрустальную вазу на просвет, долго, тщательно протирала ее, потом вздохнула и добавила: – Однако, как сказал Алексей Максимович Горький, «в карете прошлого далеко не уедешь»…
На все случаи жизни у нее были в запасе всякие такие фразочки разных великих и без конца из нее выпрыгивали, будто сидели в ней, пригнувшись, как спринтеры перед стартом, и сигали по первому свисту. Антон так и сказал однажды тете. Брови у нее поднялись, пенсне свалилось с носа и повисло на черной ленточке.
– Что такое спринтеры? Те, что бегают? – При всей своей образованности тетя Сима иногда не знала самых простых вещей. – Стыдись! Как можно сравнивать каких‑то бегунов и прыгунов с великими творцами и мыслителями?!
У Антона был свой взгляд на бегунов и великих. Бегуны – это здорово, если, конечно, они показывают класс. А великие, по правде говоря, порядком надоели Антону. Они, должно быть, только тем и занимались, что без конца изрекали что‑нибудь красивое и высокопарное, точь‑в‑точь как тетя Сима. А та делала это постоянно и говорила, что интеллигентность человека определяется, не тем, носит ли он шляпу, а тем, какой у него духовный багаж. Багаж тети Симы, наверное, не поместился бы и в пульмановский вагон с решетками, который прицепляют сразу за паровозом, и от пола до потолка набитый чемоданами и тюками. Ничего удивительного. Тетя Сима работает в библиотеке. Антон несколько раз приходил к ней и бродил в узких ущельях книгохранилища. По сторонам отвесными скалами вздымались стеллажи, сплошь уставленные книжками, книгами и книжищами.
– Это всё великие? – спросил Антон.
– Не все, но многие, – сказала тетя.
Конечно, если всю жизнь толкаться среди такого количества великих, тут, хочешь не хочешь, наберешься всякого.
Так Антон думал прежде, когда был еще маленьким, а с тех пор прошло уже больше двух лет.
И вот тетя Сима вдруг снова запела. Антон настороженно посмотрел на нее – снова придет бывший жених? – но промолчал. Тетя могла сказать что‑нибудь неприятное о неуместном любопытстве и вдобавок пристукнуть очередным изречением. Они молча жевали пуговицы, в которые превратились котлеты, но те были как резина.
Тетя сдалась первая и отодвинула тарелку:
– Нет, с этим может справиться только Бой.
– Наверное, она была очень заслуженная, – сказал Антон.
– Кто?
– Корова.
– Ах, вечно ты какие‑нибудь глупости… А я хотела с тобой серьезно поговорить. Дело очень важное. Оно касается и тебя. А посоветоваться мне не с кем. Видишь ли, Антоша…
– Тетя, сколько раз я просил!
– Я ведь не виновата, что родители дали тебе такое имя.
– А кто виноват, если не вы?
– Что ж, – слегка смутилась тетя. – Я действительно посоветовала им назвать тебя Антоном в честь нашего великого классика. Ничего дурного в этом нет.
– А что хорошего? Думаете, если назвать под великого, так и пацан станет великим? Как же!
– Великим, может, и нет, но человек будет стремиться стать достойным своего имени.
– Ну да, и тяни из себя жилы всю жизнь… Им удовольствие, а мы мучайся…
– У тебя простое, хорошее имя!
– Имя как имя. Только я Антон, а не Антоша.
– Это ведь ласкательно! В свое время Чехов даже подписывал свои произведения «Антоша Чехонте».
– Ну и пускай. А я не Чехов. И никаких произведений не подписываю.
Тетя не могла знать, что, когда они жили еще на Тарасовской, мальчишки во дворе дразнили его «Антошей‑Картошей» и с тех пор у него укоренилось отвращение ко всем ласковым видоизменениям своего имени.
– Хорошо, не будем спорить… Видишь ли…
В это время Бой, который все время лежал распластавшись на боку, вскочил, подбежал к входной двери и начал прислушиваться. Прислушивался он смешно: наклонял голову сначала на одну сторону так, что ухо отвисало, потом на другую сторону, и тогда отвисало другое ухо. Так он делал всегда, когда издалека слышал голос или шаги хозяина.
Федор Михайлович открыл дверь. Бой стал на дыбы, поджав передние лапы, и лизнул его в щеку.
– Здорово, старик! – сказал Федор Михайлович и похлопал Боя по боку. – «Привет тебе, приют священный…» – продекламировал он. – Добрый вечер, Серафима Павловна.
– Вот с кем я могу поговорить! – воскликнула тетя Сима. – Только вы можете посоветовать.
– Меня с детства научили отвечать «всегда готов!». Одну минуточку, дам Бою поесть. – Бой уже стоял перед ящиком, накрытым клеенкой, и помахивал хвостом. Федор Михайлович поставил на ящик кастрюлю с жидкой кашей. – Рубай, старик… Итак, чем могу?
– Вы были когда‑нибудь у моря?
– Случалось.
– И в Крыму, на Южном берегу?
– И в Крыму, и на Южном.
– А в Алуште?
– И в Алуште.
– Какое там море?
– Море? Нормальное. Суп с клецками. Теплое, как суп, и в нем очень много клецок. То есть курортников.
– Но оно там… большое? Просторы, горизонты?…
– Пока хватает, никто не жаловался… А в чем дело, Серафима Павловна? Не интригуйте меня, а то мое слабое сердце может разорваться от любопытства.
– Вы смеетесь, а для меня это событие колоссальное. Мне предлагают путевку. В дом отдыха. В Алушту.
– Прекрасно! В чем же дело?
– Вот камень преткновения, – сказала тетя, указав на Антона.
– Спасибо, тетя, – сказал Антон, – теперь я буду знать, кто я такой на самом деле.
– Ах, оставь, пожалуйста! Это в переносном смысле…
– Понял? – сказал Федор Михайлович. – Раз в переносном, значит, ты вполне перенесешь. Итак, почему этот юноша стал камнем?
– С собой его взять нельзя, и оставить здесь тоже невозможно.
– А почему невозможно? Он мужчина уже вполне самостоятельный.
Перед Антоном вспыхнул ослепительный свет свободы и тут же погас, оставив горький чад разочарования.
– Что вы говорите! Он и при мне‑то безнадзорный, пока я на работе, а так… Что я скажу родителям, если что‑нибудь случится? Господи! И надо же, чтобы и отец и мать выбрали такую профессию. Другие инженеры как инженеры, а тут кочевники какие‑то. Полгода, а то и больше в разъездах…
Антоновы папа и мама были геологами. Сначала Антон этим гордился, но потом разочаровался. Оказалось, они не ищут никаких ископаемых, а всего‑навсего проверяют всякие участки, где должны строить заводы, фабрики или поселки. Хороший ли там грунт, можно ли прокладывать водопровод и канализацию. Страшно интересно…
– Что бы они делали без меня? Возили его в котомке за спиной?
– У некоторых народов детей носят на бедре. В таких случаях удобнее двойняшки. Для равновесия, – сказал Федор Михайлович.
Но тетя Сима не склонна была шутить и расстраивалась все больше.
– Я мечтала об этом всю жизнь, а выходит, так его и не увижу.
– Кого, тетя?
– Фонтан. Бахчисарайский фонтан. «Фонтан любви, фонтан печали…»
– Знаете, это зрелище довольно скучное, – попробовал утешить ее Федор Михайлович. – Стоит в углу каменный ящик. К нему приделаны одна над другой маленькие плошки. Из одной в другую капает вода. Вот и все.
– Ах, боже мой, как вы не понимаете! Ведь он был искрой, которая зажгла воображение поэта…
– Да? Никогда не думал, что фонтан может рассыпать искры. Ну, неважно… Что можно придумать? Ага! У меня есть знакомая девушка, она состоит при таких вот цветах жизни – холит и нежит, словом, пионервожатая. И собирается ехать в лагерь. Хотите, я поговорю с ней, может, удастся пристроить его туда?
– В лагерь? – Антон обозлился, – Нет уж, с меня хватит! «Ребята, туда не ходите, сюда не ходите, этого не делайте, того не говорите, сего не думайте…»
– М‑да. – Федор Михайлович улыбнулся. – В общих чертах того, сходственно…
– Но там хорошо кормят, Антоша, ты отдохнешь.
– Меня откармливать не надо.
– Ты просто грубиян и жестокий эгоист. Себялюбец!
Тетя Сима готова была расплакаться. Федор Михайлович огорчился и взъерошил волосы на голове.
– Ну, а мне вы этого эгоиста не доверите? Уверяю вас, я не толкну его на путь порока. Я, как вы знаете, не курю, правда, пью, но мало и редко. Могу перейти на нарзан. На это время. А?
– Как я могу взвалить на вас такую обузу?
– Пустяки! Я давно ощущаю в себе кровожадного тирана и деспота. Мечтаю кого‑нибудь угнетать, тащить и не пущать. Держать в ежовых рукавицах и вообще показывать кузькину… – Федор Михайлович поперхнулся. – Словом, положитесь на меня, и вы получите себялюбца шелковым…
Антон улыбался во весь рот, надежды развернули перед ним радужные павлиньи хвосты. Остаться с дядей Федей и Боем – что может быть лучше? Мировецкая мужская компания!
– Важно одно: когда у вас путевка?
– С девятого июля.
Федор Михайлович в отчаянии развел руками:
– Рок! Я думал, август‑сентябрь. Бархатный сезон, виноград и прочие радости знойного юга… Ничего не получится! Сам уезжаю пятого в Семигорское лесничество. Я даже рассчитывал Боя оставить на попечение Антона…
– Ну и что? – загорелся Антон. – Ну и поезжайте! Думаете, не справлюсь? Еще как!
– Это, братец, была бы у тебя слишком райская жизнь. Не выйдет. Я за свободу личности, но при условии, что эта личность обзавелась тормозами. У тебя их пока нет…
– Что ж, – горестно вздохнула тетя Сима. – Так и будет. Завтра откажусь от путевки. Еще от одной мечты.
– От мечты отказываться нельзя. Она окрыляет и возвышает… Как на этот счет высказывались великие? – Антон осклабился, но Федор Михайлович свирепо покосился на него, и он присмирел. – Надо что‑то придумать… Стоп, стоп, стоп! У меня мелькнула мысль. Не ручаюсь за гениальность, но, кажется, она близка… Что, если сделать так: вы – на юг, а мы втроем – на запад?
– Куда на запад?
– В лесничество. Думаете, ему будет плохо? Соблазнов – никаких. Лес, река. Воздуха – тыщи пудов. Чистейшего. Здоровей. Богатырей. Как идейка?
У Антона перехватило дыхание.
– Право, не знаю… – сказала тетя Сима. – Конечно, хорошо, если мальчик побудет на лоне природы…
– Вот именно. Зачем ему торчать здесь? Хоть и окраина, а все‑таки город. Миазмы и маразмы, газы и заразы.
– Да, да, я понимаю… Но это ведь даже не село, насколько я понимаю, а лес. Там всякие животные…
– За последние сто лет львов, тигров, ягуаров и леопардов там не замечено. Волков истребили. Самые хищные животные, с какими он может встретиться, – козел или корова, но для этого ему придется специально идти в село, до которого три километра.
– А река?
– Река отличная. Скалы, заводи, плесы.
– Но он может… утонуть…
– Это я‑то? – возмутился Антон.
– Утонуть там можно только, если привязать себе камень на шею, чего, я полагаю, он не сделает. Потом он будет со мной и Боем. Кое на что гожусь я, а Бой – он же водолаз, его основная профессия и призвание – спасать тонущих… Он давно мечтает кого‑нибудь спасти. Решайте! Мы – в лес, а вы ныряйте в свою стихию.
– Нырять мне, к сожалению, не придется. Не умею плавать.
– Раз плюнуть.
– Плюнуть?
– Простите, Серафима Павловна, я хотел сказать, что это проще пареной репы – научиться.
– Боюсь, не в моем возрасте.
– Морям все возрасты покорны, – так ведь сказал поэт?
– Умоляю вас! Не выношу, когда уродуют прекрасные строки…
– Больше не буду! Так как, заметано?
Тетя Сима решительно отказывалась и соглашалась, раздумывала и колебалась. Наконец мечта всей жизни, объединенные усилия Антона и Федора Михайловича, неопровержимые доводы и заверения победили. Тетя Сима сдалась, но при условии, что она вызовет по междугородному телефону брата и только с его согласия отпустит Антона.
– Боже мой, боже мой! – сказала тетя Сима, когда Федор Михайлович повел Боя гулять. – Мне просто не верится, что на самом деле сбудется мечта стольких лет… Какой отзывчивый, хороший человек Федор Михайлович!
– Законный парень. Железо!
– Какое железо? При чем тут железо?
– Ну… так говорят.
– Кто «говорят»? Это же дикая бессмыслица!… И он для тебя не «парень», а дядя Федя… Он очень хороший человек, но его манера выражаться… У тебя и так ужасный жаргон. А если ты еще от него наберешься?…
Антона качало и заносило. Он не знал, куда себя девать и что делать. Время остановилось, хотя часы шли. И на руке у дяди Феди, и допотопные на цепочке у тети Симы, и тумбовые в столовой, где спал Антон, и настольные в комнате папы, и электрические на углу возле универмага. Часы шли, тикали, стучали, били. Утро сменяло ночь, ночь гасила день, но время стояло. Оно окаменело. Отъезд не приближался, а отдалялся, потому что каждый час был длиннее предыдущего, дню не было конца, оранжевый блин солнца намертво прикипал к эмалевой сковородке неба, день вырастал, вспухал, растягивался в год, а неделя уходила в космическую бесконечность, где не было ни пределов, ни сроков.
Антон маялся, изнывал и томился. Иногда вдруг его пронзало опасение, что поездка не состоится, – он ужасался, впадал в отчаяние, но оно тут же таяло. У него болели скулы от улыбки, растянувшей лицо. Он мог и думать и говорить только об одном. Даже головокружительный, победоносный бег киевского «Динамо» к золотым чемпионским медалям не трогал его; фантастические голы Лобановского и Базилевича оставляли равнодушным. Он прожужжал уши тете Симе и смертельно надоел соседским ребятам. Блаженно улыбаясь, Антон снова и снова говорил им:
– А знаете, ребята…
– Знаем, – отвечали они. – Ты, Бой и дядя Федя… Вчера сообщали по телевизору. Завтра передадут по радио. И скоро с вертолетов будут сбрасывать листовки. Поехали лучше купаться, чокнутый…
Антон не обижался. Они говорили так из черной зависти. Да сейчас он и не мог обижаться. Ни на кого. Весь мир стал прекрасным и удивительным, а люди необыкновенно добрыми и хорошими. И Антон был добрым и хорошим. Он любил всех и готов был всех одарить своей радостью. Он расшибался в лепешку, чтобы помочь и угодить тете Симе. Она всегда была ничего, но только теперь Антон понял, какая у него мировая тетка. Если бы тетя Сима вывалила сейчас на него все изречения всех великих, он перенес бы и это. Но тетя Сима тоже вроде как бы слегка трёхнулась. Она непрестанно говорила об Алуште и Бахчисарае, о море и Чатыр‑Даге, и Антон безропотно слушал, хотя ему нестерпимо хотелось говорить самому. О лесе и Бое, о реке, бушующей среди скал, о чащобах и звериных тропах, а прежде и больше всего – о дяде Феде…
Вот кто был на самом деле умнейший и добрейший, несравненный и необыкновенный – словом, мировейший из мировых. И как дико, бешено повезло Антону, что дядя Федя получил ордер на комнату в той же квартире на Чоколовке, куда переехали они.
Как только в новой квартире расставили мебель, все прочее имущество разложили и растыкали по углам, мама и папа уехали в очередную командировку, Антон остался с тетей Симой. Большую часть времени они проводили в кухне: там ели, чтобы не пачкать в комнате, там читали или просто разговаривали, если вечер был пустой, то есть Антону не удалось сбежать в «киношку». В один из таких пустых вечеров они сидели после ужина и разговаривали. Вернее, говорила одна тетя Сима о том, что коммунальная квартира – это все‑таки плохо. Пока они одни, в квартире и чисто и тихо, потом, как переедут, – мало ли кто может переехать! – и начнется, как на прежней… В это время раздался звонок. Антон побежал в прихожую, открыл. За дверью стоял человек с чемоданом и рюкзаком…
– Разрешите? – спросил он, отвернулся и сказал кому‑то в сторону: – Сидеть и ждать!
Он закрыл за собой дверь, поставил чемодан.
– Давайте знакомиться. Ваш соквартирник. Зовут Федором Михайловичем. Нрав смирный, почти кроткий, хотя и не совсем ангельский. Подробности потом. Простите, сгораю от нетерпения увидеть свои апартаменты… Вот это? – Он открыл ключом дверь пустой комнаты, зажег свет и присвистнул. – М‑да, – сказал он. – Променять «роскошный полуизолированный полуподвал в центре гор. без уд.» на эту шкатулку для лилипутов!…
Тетя Сима с плохо скрытой надеждой спросила:
– А вы женаты?
– К счастью, не успел… Но семейство у меня есть. Я не хотел вас сразу травмировать.
Он подошел к двери, отключил собачку замка и громко сказал:
– Бой, открой дверь и входи.
От резкого, сильного толчка дверь распахнулась настежь, и порог переступило невообразимо черное и огромное существо.
Антон почувствовал вдруг, что у газовой плитки чрезвычайно острый и твердый угол.
Тетя Сима попятилась, наткнулась на табуретку, машинально села и, прижав руки к груди, сказала слабым голосом:
– Что… что такое?
– Мой песик. Собачка.
– Собачка? Это… это же медведь!
– Некоторое сходство есть, но чисто физиономическое. Что же касается калибра, то черные медведи меньше, а бурые несколько крупнее. Да вы, пожалуйста, не бойтесь, личность он интеллектуальная и вполне воспитанная.
«Интеллектуальная личность» заполнила всю кухню. От носа до кончика хвоста в нем было не меньше двух метров. Густая длинная шерсть переливалась крупными волнами. Она блестела под светом лампочки, будто смазанная маслом. Могучая шея обросла пышным воротником, а грудь была так велика, что передние мощные лапы казались короткими. Длинный пушистый хвост страусовым пером свисал до бабок. Пес стоял неподвижно, подняв голову, внимательно слушал, что говорил Федор Михайлович, и поглядывал то на тетю Симу, то на Антона.
– Ну вот, Бой, – сказал Федор Михайлович. – Теперь это наши соседи. Их надо любить, они хорошие. – Кончик страусового пера слегка вильнул влево и вправо. – Иди поздоровайся с тетей.

Бой сделал два шага, слегка приподнял голову, из полуоткрытой пасти высунулся длиннющий ломоть розовой чайной колбасы и лизнул тетю Симу в щеку.
– Ох, оставьте, пожалуйста, я не люблю этих штук! – очень вежливо сказала тетя Сима.
– Отставить, Бой, этого не любят.
Бой вильнул хвостом и зевнул.
– Он не понял, почему не любят… Теперь с мальчиком. Тебя как зовут?… Антон? Не бойся, Антон, погладь его.
Бой подошел к Антону и обнюхал. Угол плиты стал еще тверже и острее. Внутри у Антона все похолодело и опустилось куда‑то вниз. Он с трудом поднял одеревенелую руку и положил Бою на холку. Руку для этого пришлось согнуть.
– Порядок, – сказал Федор Михайлович. – Теперь иди сюда, а то Антон сейчас задохнется.
Бой отошел, Антон шумно вздохнул.
– На первый взгляд он действительно несколько великоват. Но, уверяю вас, вы скоро привыкнете. И полюбите. Со своими он безукоризненный джентльмен. Как истый джентльмен, он всегда во фраке и манишке… Бой, сидеть, покажи свою манишку.
Бой сел, на груди у него оказалось крупное белое пятно. Насколько весь он был черен, настолько белой была длинная шерсть «манишки».
– Чтобы покончить с официальной частью, представляю: порода – ньюфаундленд, имя – Бой. Полный титул – Бой, сын Долли Ландзеер и Рейнджера Третьего Великолепного. Что касается родословной, то такой нет у меня, наверное, у вас и во всяком случае нет у шаха иранского. Предки Боя перечислены до десятого колена, у шаха – всего два…
Бой снова зевнул.
– Тебе жалко шаха? Пускай, так ему и надо…
Антон уже дышал нормально, не чувствовал угла плиты. Первоначальный испуг перешел в восторженный столбняк.
– А лапу он дает?
– Попроси.
– Антон, умоляю тебя! – сказала тетя Сима.
– Смелей, смелей, ничего страшного не произойдет.
Антон присел и протянул руку:
– Дай лапу, Бой. Ну дай!
Бой посмотрел на него, на хозяина, отвернул голову в сторону и небрежно, вбок, поднял лапу.
– Видишь, – сказал Федор Михайлович. – Давать лапу, ходить на задних лапах – занятие для болонок и прочих шавок. Бой слишком велик и умен, чтобы это доставляло ему удовольствие. Вот если вы поссоритесь, он тебе сам протянет лапу, чтобы помириться…
– Ну да?
– Увидишь.
Тетя Сима подошла к крану и вымыла щеку, в которую Бой ее лизнул.
– Опасаетесь микробов? – улыбнулся Федор Михайлович.
– И глистов, – отрезала тетя Сима.
– Напрасно. Слюну у собак можно считать антисептической…
– Я предпочитаю все‑таки антибиотики… А где вы его будете держать?
Тетя Сима посмотрела на плиту, уставленную кастрюлями, кухонный стол. Голова Боя возвышалась над столешницей.
Федор Михайлович перехватил ее взгляд.
– На этот счет не опасайтесь. Его можно оставить наедине с тушей мяса – не прикоснется. Он носит в зубах колбасу, жареную печенку и даже не прокусывает бумагу. Жить он будет, разумеется, в комнате. Если его оставить здесь, он будет бахать лапой в дверь, пока я его не впущу.
– А в квартире он… – тетя Сима замялась, – ничего такого не делает?
– Не беспокойтесь, собака в квартире «ничего такого» делать не умеет.
– Все это очень хорошо, – поджав губы, сказала тетя Сима, – я еще понимаю, маленькая собачка, но держать такого громилу в квартире!… Кажется, даже есть какое‑то постановление насчет собак…
– Давайте так: если вы за неделю не поладите с Боем, я оставляю поле битвы, или, говоря вульгарной прозой, съезжаю с квартиры.
– Оставите комнату? Куда вы денетесь?
– В даль и в ночь… – засмеялся Федор Михайлович.
Федор Михайлович знал, что говорил. Тетя Сима растаяла в два дня. Бой неизменно был доброжелателен и ласков без назойливости. Каждое утро, как только Федор Михайлович открывал дверь, он появлялся в кухне, подходил ко всем по очереди и приветливо, но без больших размахов вилял хвостом – здоровался. Целовать тетю Симу он больше не пытался – запомнил. Он не был надоедливым, не приставал и никогда ничего не клянчил. Иногда у него появлялось желание поиграть. Тогда он брал в пасть свою любимую игрушку – теннисный мячик, подходил к кому‑нибудь и деликатно толкал мячиком в руку. Если предложение не встречало отклика, отходил и ложился. Появлению знакомых Бой радовался и обязательно со всеми по очереди здоровался. Но если в прихожей начинался грохот, это означало, что пришел Федор Михайлович. Бой ужом вился вокруг него, нещадно колотил хвостом по дверям, стенам, сундуку, который загромождал и без того тесную прихожую. Несколько раз Антону довелось попасть под эти удары, он отскакивал и потирал ушибленное место.
– Неужели ему не больно? Как палкой…
Ритуал встречи заканчивался тем, что Бой поднимался на дыбы, башка его оказывалась вровень с головой хозяина, и он лизал во что пришлось – в щеку, в нос, в ухо.
– Ну хватит, старик, не шуми, – говорил Федор Михайлович.
Бой успокаивался, но с этого момента неотступно ходил по пятам за хозяином, куда бы тот ни шел.
– Разве это собака? – сказала тетя Сима. – Это же попятошник!
– Вот именно, – сказал Федор Михайлович. – Пока я заметил у него только один, но зато чудовищный недостаток. Если он любит, то беспредельно и деспотично. Когда‑то я был вольный казак, теперь я каторжник, прикованный к живой четырехлапой тачке, которая к тому же все понимает. Я не могу никуда уехать – один вид чемодана вызывает у него истерику. Хочу или не хочу, здоровый или больной, я должен вести его гулять. Я не могу отлучиться из дома больше, чем на восемь часов, я – увы! – не могу совершить ни одного безнравственного поступка, потому что этот поганец не спускает с меня глаз, а я не могу развращать его невинную душу…
Бой и в самом деле неотступно следил взглядом за хозяином. Голова его, как стрелка компаса, всегда была повернута к обожаемому полюсу – хозяину. Даже если Федор Михайлович сидел в кухне, а Бой спал тут же рядом, он спал в полглаза. Глаз всегда был только полузакрыт, зрачок плавал, закатывался куда‑то в дремоте, но время от времени останавливался и вперялся в Федора Михайловича: «Ты тут? Тут…» – и снова уплывал в сон.
Однажды у Федора Михайловича была высокая температура, и тетя Сима со свойственной ей категоричностью сказала:
– Никуда вы не пойдете! Это же, простите, дикость – ходить с температурой. Антон отлично выгуляет Боя.
Антон надел ему ошейник, взял поводок, но Бой не хотел уходить с лестничной площадки, рвался в комнату. Потом природа взяла свое: жалобно поскуливая, он ринулся вниз. В какие‑нибудь пять минут он сделал все свои дела и бросился в подъезд. Антон, боясь отпустить поводок, полетел следом, как лодчонка на буксире у торпедного катера. Дом был построен экономично – без лифта, но Антон взлетел на третий этаж, будто экспрессом. Он был в мыле, растрепан и растерзан. Бой поднялся на дыбы, всей тяжестью тела обрушился на дверь и начал свою молотьбу хвостом вокруг хозяина.
– Загонял он тебя? – сказал Федор Михайлович. – Он, наверное, подумал, что ты собираешься увести его.
Потом Бой привык и, уже не опасаясь, охотно ходил гулять с Антоном, но, если хозяин сидел дома, прогулки были короткие, скучные и крайне деловитые.
Окрестные ребята были покорены сразу, хотя поначалу едва не разразился скандал. Что делают в летние дни мальчишки на всех улицах и во всех дворах? Читают книги, чинно беседуют о прочитанном, пережитом или о судьбах мира? Нет, они играют в футбол. Их ругают прохожие, проклинают водители машин, преследуют дворники, за разбитые стекла дают взбучку родители, но все это отскакивает от них, как мяч от штанги. Без устали, в самозабвенном упоении азарта они лупят по мячу с утра до ночи, видя в себе будущих Яшиных, Лобановских и Татушиных. Чоколовские мальчишки ничем не отличались от других, а положение у них было даже выгоднее: улицы здесь еще только намечались, дворы отсутствовали и каждый пустырь, если только строители не изрыли его ямами и не завалили мусором, мог служить футбольным полем.
Федор Михайлович приехал в субботу вечером, а в воскресенье днем, когда он повел Боя гулять, Антон пошел с ними. Бой деятельно обживал новые места – камни, штабеля досок, груды кирпича и мусора, – но, когда они повернули за угол дома, исчез. За домом был пустырь, а на нем орава ребятишек без лада и склада, но с тем большим усердием колотила ногами по мячу. В эту ораву ворвался черный ураган. Что произвело большее впечатление – величина, внезапность появления, скорость бега или разинутая клыкастая пасть? Как бы там ни было, в несколько секунд всех бесстрашных нападающих, несгибаемых защитников и твердых, как скала, вратарей сдуло с пустыря. Вопли ужаса сиренами прорезали воздух. Бой никого не преследовал. Он сколько мог разверз пасть, ухватил мяч и, гордо вскинув голову, затрусил к хозяину. Сиреноподобные вопли дошли по адресу. В открытых окнах появились испуганные лица взрослых, раздались панические крики:
– Что?… Что такое?… Кто это там?… Собака?… Какая там собака!… Я вам говорю, она бешеная… Безобразие!… А если медведь бешеный, по‑вашему, лучше?… В милицию надо позвонить… А где хозяин?… Плевать на хозяина, пристрелить, и всё… – И на все голоса, на все лады перепуганные родители начали выкликать своих Игорьков, Юрочек, Петек и Мишек.
Федор Михайлович окинул взглядом орущее многоликое собрание в окнах, нахмурился и резко скомандовал:
– Бой, ко мне! Дай мяч! (Мяч шлепнулся на подставленную ладонь.) Идем, хулиган.
Они вышли на середину пустыря.
– Эй, футболисты, не бойтесь!
Из‑за груд кирпича, штабелей леса показались головы неустрашимых героев кожаного мяча.
– Чего вы попрятались? Идите сюда.
– Как же, очень надо… Чтобы полатал, да?… Заберите свою собаку!…
Переговоры продолжались довольно долго. Наконец самые храбрые вылезли из укрытий, но остановились в изрядном отдалении, чтобы в случае чего немедля дать тягу.
– Вы не бойтесь, ребята, он зря не трогает. Просто он очень любит играть в футбол.
– Ну да, рассказывайте…
– Вот увидите. Становитесь в круг и пасуйте друг другу. А главное – не бойтесь. Ну, начали…
Федор Михайлович поддал ногой мяч – Бой метнулся за ним. Когда он уже настигал его, Антон отбил дальше. Бой заметался по кругу. Ребята старались как можно скорее и подальше отбить мяч. Не потому, что им нравилась эта игра, а чтобы поскорей отдалить от себя мяч и летящее следом за ним страшилище. Они боялись и потому часто промахивались. Тогда Бой бросался на мяч, захватывал его в пасть и, победно вскинув голову, распушив хвост, бежал по кругу. Федор Михайлович отбирал мяч и снова пускал в игру. Мало‑помалу футболисты успокоились, стали меньше бояться и лучше бить. Бой метался в кругу, бросался мячу наперерез, а если тот шел поверху, подпрыгивал и отбивал носом. Ребята орали и визжали, но уже не от страха, а от восторга. Федор Михайлович улыбался, Антон сиял. Это, конечно, была не его собака, но вроде как бы и его – из их квартиры.
С тех пор он увязывался за Федором Михайловичем каждый раз, когда тот вел Боя на прогулку или в город за покупками. Тетя Сима выговаривала Антону, но Федор Михайлович становился на его сторону:
– Серафима Павловна, он мне нисколько не мешает. Даже удобно: я захожу в магазин, а он держит Боя, или наоборот.
– Бой держит Антона?
– Или меня.
Бой очень любил такие прогулки. Гордо вскинув голову, он чинно вышагивал между ними и с любопытством ко всему присматривался. Им любовались и восхищались: «Ну и собака!… Ох, какой красавец!» – раздавалось то с одной, то с другой стороны. Бой поворачивал голову к говорившему и невозмутимо шагал дальше. Стоило им остановиться, как вокруг собиралась толпа. Все хотели знать, что за порода, сколько ему лет, сколько он весит, ученый он или неученый. Федор Михайлович терпеливо отвечал, хотя вопросы – всегда одни и те же – очень ему надоели.
Восторгались не все. Почти всегда находилось два‑три человека, которые спрашивали, сколько он съедает, недоумевали, зачем держать такую собаку, или даже зло добавляли: «Лучше бы кабана кормил…»
– Вот дураки! – негодовал Антон.
– Конечно, люди небольшого ума, – соглашался Федор Михайлович, – Но дело не только в этом. Из них попросту вылезает кулак. Если чего‑нибудь нельзя сожрать или заставить на себя работать, они не понимают, зачем оно существует. Кулаков уничтожили, но кулацкой психологии еще достаточно. И не обязательно в селе, в городе тоже хватает. Случается, она лезет и из так называемых образованных. Помнишь, как у Андерсена насчет позолоченной свиной кожи? «Позолота‑то сотрется, свиная кожа остается…» Когда я слышу: «Лучше бы кабана кормил», так и кажется, что говорит это кабан, который хочет, чтобы его кормили…
Федор Михайлович не заставлял Боя работать, он рвался сам. Если хозяин нес в руках сумку, пакет, книгу, Бой настойчиво старался отобрать и, еще горделивее вскинув голову, нес сам. Главной своей обязанностью он считал охрану. По натуре Бой был миротворец. Если на улице дрались мальчишки или собаки, он бросался между ними и разгонял в разные стороны. Хулиганы, орущие, размахивающие руками пьяные вызывали у него ярость. Шерсть на холке вздымалась, обнажались вершковые клыки, и тут нужно было изо всех сил держать поводок – в желании охранить хозяина он мог зайти далеко… При этом он никогда не рычал, не лаял и вообще не разводил переговоров, а просто бросался с утробным ревом.
Он вообще почти никогда не лаял. Впервые Антон услышал Боев лай только через несколько месяцев. Боя полюбили в доме, к нему привыкли соседи, поэтому, когда Федору Михайловичу пришлось уехать на несколько дней, он мог оставить Боя, не опасаясь, что тот будет голодным или невыгулянным. Увидев чемоданчик, Бой обезумел. Он вился вокруг хозяина, тыкался ему в руки, подпрыгивал, чтобы лизнуть, и умоляюще заглядывал в глаза.
– Ничего, брат, не поделаешь, – сказал Федор Михайлович. – Со мной нельзя. Я скоро вернусь. А гулять с тобой будет Антон.
Бой оглянулся на Антона, вильнул хвостом и снова с мольбой уставился на хозяина.
– Да не могу я тебя взять! Понимаешь? Нельзя со мной.
Федор Михайлович присел перед ним, взял обеими руками его голову. Бой изловчился и мгновенно облизал ему все лицо.
– Ну ладно, ты никаких резонов знать не хочешь, – махнул рукой Федор Михайлович и ушел.
Бой стал у входной двери, наклонил голову так, что большое лопухастое ухо отвисло, и прислушался к удаляющимся шагам. Потом он наклонил голову в другую сторону, отвисло второе ухо. Шаги затихли. Бой поднял голову и… бухну<