Глеб Горбовский
Шествие. Записки пациента.
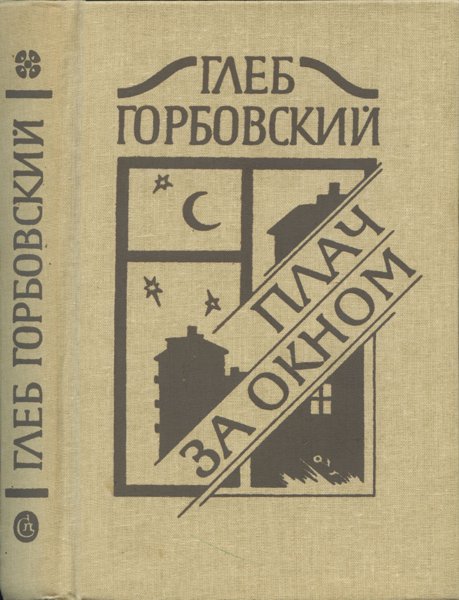
Глеб Горбовский
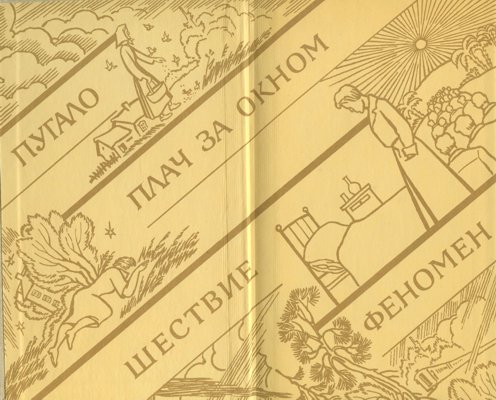
Дорогой читатель!
Цена этой книги на 20 копеек выше номинала. Покупая ее, ты вносишь эти 20 копеек в Детский фонд имени В. И. Ленина.
ШЕСТВИЕ. Записки пациента

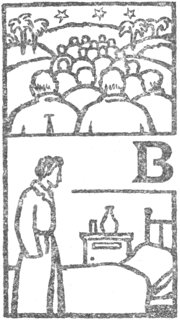
В клинике на отделении доктора Чичко все мало‑мальски пришедшие в себя больные пишут воспоминания. Исповедуются лечащему врачу: «С чего началось?.. чем кончилось?., что способствовало?» и т. п. Вот и я пишу эти мемуары по просьбе Геннадия Авдеевича, вспоминаю характер своей болезни, дозволяю производить над собой опыты – чего не сделаешь ради науки. К тому же составление записок увлекло, вернее – отвлекло от больничной скуки, от душевных судорог.
Для начала несколько слов, предваряющих записки. Я интеллигент в первом поколении, и все же не знаю, ради чего склоняет меня к писанине уважаемый Геннадий Авдеевич, однако догадываюсь: не только в интересах моего, конкретного, выздоровления, но и в поисках некой психической тайны, которой якобы обладают пьяницы. Хочет ли он таким образом (методом?) освободить меня от последствий пережитого бреда или проверяет, насколько у подопечного сохранился (разрушился?) интеллект, как знать, не могу судить. Я знаю, что страдал хроническим алкоголизмом, завершившимся белой горячкой. Знаю об этом от Геннадия Авдеевича, которому безгранично доверяю, а также из опыта и остатков собственной памяти, которой доверяю куда меньше.
И все же речь в записках пойдет не столько о болезненных ощущениях, сколько о смысле пережитого, о последующем анализе видений, которые навлекла на меня болезнь, о том своеобразном «театре теней», где довелось мне побывать. Не называю случившееся со мной сумасшествием. Назову – происшествием (от слова «шествие»?), так как твердо убежден: было это движением. Движением духа. В сторону раскаяния.
Я не помню, как это началось. Предполагается, что возле телевизора, которого теперь интуитивно остерегаюсь. Скорей всего, в один из «подпольных», похмельных вечеров лежал я на койке у одной доброй женщины, Инги Фортунатовой, перед ее стареньким телеком, и смотрел кино, как вдруг, сперва на экране «ящика», затем, буквально перед глазами, в стереоэффекте возникла эта дорога! Дорога, по которой нескончаемым потоком двигались люди.
Что это было? Галлюцинации? Сон длиною в вечность? Или явь, спроецированная на меня каким‑то образом из далекого прошлого, – одному богу известно. И сколько оно длилось, это кино – краткий миг, долгий час или бесконечные сутки, – не имею понятия. Знаю лишь, что за время просмотра этого «фильма» мой воспаленный мозг впитал в себя массу концентрированной информации, перелистал сотни сюжетов, нарисовал на своей обожженной алкоголем поверхности тысячи образов, которых настоящему писателю или художнику хватило бы не на один том воспоминаний или зарисовок в альбом.
Я же на лечебное сочинительство согласился в основном из‑за больничной малоподвижности, тоски и еще потому, что для этой работы Чичко предоставлял мне по вечерам свой кабинет, где можно было не только уединиться от страждущих алкашей, но и блаженно растянуться на казенном дерматине.
Себя в записках обозначаю под вымышленным именем сознательно, чтобы не вводить в заблуждение родственников и друзей, случайно ставших читателями этих записок. Мои анкетные данные наверняка занесены в историю болезни. Это – для любопытных.
И здесь не лишним будет заметить, что алкоголиками становятся не только грузчики, сантехники, слесари или колхозные трактористы, но и великие писатели, композиторы, артисты, художники, военачальники, а также врачи‑наркологи и даже партийные работники, не говоря о типах вроде меня, ранее преподававших детям историю.
Однажды, когда кризисное состояние моего мозга было уже позади, Геннадий Авдеевич в беседе со мной в числе причин, способствовавших развитию болезни, упомянул женщину. Не конкретное женское имя, а так, вообще. Дескать, не по Зигмунду ли Фрейду следует толковать возникновение моего недуга, завершившегося частичной потерей памяти?
Вопрос этот, коснувшись моего мозга, произвел в нем как бы электрический разряд, и я мгновенно вспомнил не только женщину, но и многое другое, связанное для меня с понятием «шествие».
Теперь‑то я знаю: врач, заведя разговор о женщине, интересовался отнюдь не розовой дамой, что пригрезилась мне на дороге во время болезни; просто Геннадию Авдеевичу хотелось побольше узнать о больном, не исключая сведений интимного характера. Только и всего.
И надо же как дивно получилось: вспомнив женщину, вспомнил я и все остальное.
– Знаете, – обратился я к Чичко, – была там одна особа. Но поймите меня правильно: женщина эта не могла меня любить. Ни меня, ни кого‑либо еще. Потянулся я к ней безотчетно. Преследуемый запредельным одиночеством. Той разновидностью одиночества, которое мы испытываем, находясь в толпе. Потянулся, потому что был несовершенен. И еще потому, что незнакомка в розовом отдаленно напоминала мою жену. То есть женщину, которая меня любила. В свое время. То есть наиболее ощутимую из сердечных потерь.
Геннадий Авдеевич, выслушав мое признание, положил на колено блокнот и что‑то в него записал. А я, взбудораженный воспоминаниями, продолжал видеть женщину. Как величественно продвигалась она по дороге, ведущей одних к совершенству, других – к погибели, третьих – к раскаянью. Нет, вовсе не от распущенности, а из‑за въевшейся в кровь привычки любить женщину пуще библейского «ближнего» обратил я на нее внимание в условиях дороги. Из‑за своей несвободы от прежних влияний и прочих признаков житейской суеты.
Кстати, о трезвой последовательности изложения событий в записках: не ждите ее от меня, от человека, мягко выражаясь, уставшего душой.
Хватило бы только смелости вспомнить эту Дорогу.
И еще: на днях изможденный и молчаливый Лушин, затаившийся в палате, как прошлогодняя муха между оконными рамами, внезапно вышел из своего угла и с треском распахнул запечатанное на зиму окно. И оказалось, что на улице давно весна, и не только весна, но как бы иная атмосфера: воздух был не просто свеж, но и целителен, и необыкновенно вкусен, а главное – манящ. Он сулил перемены, и все в палате моментально обеспокоились. Особенно те из нас, кто читал газеты. Я газет уже не читал. Вернее – еще не читал. Но к свежему воздуху потянулся. Тут же в палату заглянула «дежурненькая» и, мрачно улыбаясь, захлопнула окно.
– С ума посходили, стерильные вы мои! Думаете, коли больные, так ничем больше не заболеете? Враз прохватит…
Никогда прежде не видел я таких широких дорог: километра два в поперечнике. Если не более того. Однажды, в самом начале пути, попытался я пересечь движение, лавируя среди идущих птиц, людей, собак, лошадей, кошек и прочей живности, но так и не добрался до противоположного края дороги. Без конца озирался, и все время как бы сносило водой. Затем желание постичь масштабы дороги притупилось. Возобладало восхищение. Восхищение происходящим.
Нет, я не оговорился, сказав, что на дороге, в лавине движения, птицы именно шли – шли, а не летели на крыльях по небу. Вспоминаю, отчетливо вижу, что так оно и было: семенили трясогузки, переваливались, ковыляя, голуби, скакали сороки, галки, бежали дрофы, павлины, страусы, ползли коротконогие ласточки и стрижи, помогая движению пыльными крыльями.
Шествие людей на дороге напоминало шествие военнопленных немцев по улицам Москвы, заснятое на кинопленку и не единожды показанное по телеку в документальных программах. Мешанина лиц – уставших, смущенных, страдающих, любопытных, опустошенных, нагловатых и даже надменных. Но как серые одежды красили этот поток в однообразный заунывный цвет, так всеобщая участь пленников придавала этому потоку печальный колорит обреченности, покорности, утраты прежнего воинственного легкомыслия жизненных гуляк и смертельных проказников.
Покрытие на гигантском шоссе было необычным: ничего традиционно асфальтового, бетонно‑булыжного или гравийного. Трещинноватый монолит. Трещины мизерные. Через них запросто перешагивали мелкие птицы, такие, как малиновки или мухоловки.
Тогда, в первые часы продвижения, я все еще пытался выяснить, с какой стати среди идущих очутился я, Викентий Мценский, человек, до недавнего времени «стационарный», оседлый, преподававший детям историю – предмет, внешне малоподвижный, как бы с окаменевшей, отжившей структурой? И, поразмыслив, отвечал себе так: старик, не суетись, не твоего ума дело. И утешал себя следующим образом: задаешь вопросы – значит, живешь, а не просто переставляешь ноги. А преподавать ли тебе в дальнейшем историю или производить на шоссе дорожные работы – не имеет значения. Сложней с вопросом: как теперь жить, по каким установкам, ибо жить по‑прежнему было нельзя да и не имело смысла. Тем более что история не предмет, она закон памяти, божий закон.
Но бог с ней, с историей. Вернемся на дорогу. Освоился я ка ней довольно скоро. Притерпелся, перестал суетиться. Сосредоточился на неизбежном, то есть – на движении. Приобщился к потоку. Но вот что замечательно: абсолютного покоя не обрел. А ведь запредельный покой не только подразумевался, его обещали даже медики. Мешали неизжитые привычки, пристрастия, почвенная отформованность духа. Например, я еще долго озирался, привыкая к незнакомому ландшафту, ища в расстилавшемся пейзаже узнаваемые контуры. И ежели обнаруживал в чем‑то сходство с пережитым ранее – потихонечку ликовал, пряча улыбку в кулаке.
Глаза мои искали растительность и не находили ее под ногами. Деревья торчали где‑то по краю дороги (другого ее края за спинами толпы не было видно).
Прежде, до того как очутиться на шоссе, из всех земных даров природы более прочего любил я деревья и, естественно, первыми пожелал их увидеть в необычных условиях шествия. Но теперь это были не березы, не сосны‑елочки, не осины – это были деревья незнакомых пород. Может, где‑то возле экватора и встречаются подобные виды, только я на экваторе никогда не был и ничего аналогичного, в смысле растительности, прежде не наблюдал.
Здешние деревья росли по краям дорожного монолита, их можно было трогать руками, обнюхивать, но, скажем, залезать на них или хотя бы повисать на их ветках в петле не было принято. И не потому, что неэтично (никаких запретов на дороге не практиковалось, все условности были изжиты), а потому что безнравственно. Беззащитность деревьев здесь, на дороге, проявлялась особенно отчетливо и прежде всего в податливости древесины. Деревья были мягкими на ощупь. Как человеческие тела.
Почва, на которой укоренились деревья, напоминала болотную травянистую топь, но пропитанную не жидкостью, а песком и дурно пахнущими газами, и не потому ли с дороги никто никогда не сворачивал? Во всяком случае – не без этой, чисто внешней причины.
Сразу необходимо сказать, что направление у всех идущих было одним‑единственным, а именно – вперед, в сторону вечного покоя, по другим сведениям в сторону развилки, где расположен некий распределитель: кого куда. И распределяли, дескать, по справедливости, по заслугам, а не по знакомству. Встречь потоку никто длительное время не шел. Некоторые пятились, как бы от пышущего жаром костра, или стояли на месте, а то и сидели, отдыхая по привычке, хотя усталости никто уже не ощущал.
Сидели, как правило, возле какого‑нибудь местного события – скажем, возле немокрого дождя или возле падающего бутафорского снега. Эти и другие природные явления, рожденные людской ностальгией и воображением, происходили в специально отведенных местах или «квадратах» шоссе: кому ливень, кому пыльный смерч, а кому февральская восточноевропейская пурга – своеобразные, без материальной заинтересованности, клубы по интересам.
Если не считать мягкотелой растительности, как бы конвоирующей движение, никакого ландшафта за пределами дороги не просматривалось. Небо исправно поило взгляд бездонной синью. Ночью на нем было много звезд, однако привычных взгляду созвездий не наблюдалось. Ни о чем таинственно‑запредельном, космически‑непознанном окружающая обстановка не говорила. Недаром на всем протяжении многодневного пути не покидало меня ощущение, что иду я не где‑то в облаках воображения, но, как всегда, по земле, по какой‑то очень древней дороге, затерянной, скажем, в пустыне Сахара или в «песчаных степях Аравийской земли…»
Идущие по дороге люди да и все остальные существа делились на три отчетливо различимые категории, как бы на три самостоятельных течения, растворившихся в одном общем потоке. Внешне – это как бы трехцветье одного флага: полоска зари, полоска ночи, полоска зелени земной. Ясноликие, отрешенно‑спокойные дети добра, мрачные, изъязвленные искушениями «цветы зла» и самая многочисленная прослойка – незрелые человечки вроде меня, стан колеблющихся, не сделавших выбора, не принявших окончательно той или иной стороны.
Для меня, человека с неиссякшей любознательностью, многое на дороге было в диковинку: удивляло отсутствие усталости и прочей «чувствительности», поражало наличие аппетита, постоянное желание что‑нибудь съесть, схрумкать, проглотить при полном отсутствии «продуктов питания». Повторяю, алчность сия наблюдалась только у таких, как я, неопределившихся. Светлые, а также мрачные существа голода не испытывали. Обходились. Первые – должно быть, восторгом, вторые – неутолимой печалью.
Чувство голода усугублялось отсутствием зубов. Зубы на дороге – и не только у меня, и не только зубы, но и ногти – выпадали, будто иглы у посленовогодних, помоечных елок, – от малейшего резкого движения.
По неопытности некоторые из «зеленых» покушались на придорожную растительность, но у них тут же начиналась многочасовая неукротимая рвота, сопровождавшаяся корчами. Однако никто не умирал.
Есть было не обязательно. Даже не нужно. Правда, унизительное чувство голода порой низводило взалкавшего до положения рыскающей собаки, и потому людей незрелой категории отличить от остальных было легче простого: они постоянно что‑нибудь жевали, и чаще всего… палец своей руки. То есть имитировали прием пищи. Точно так же, как грудные младенцы налегают на резиновую плоть пустышки.
В общении тянуло к себе подобным – к людям русской национальности. Как в больнице, когда, к примеру, если у вас камни в почках, то и заговариваете вы прежде всего с почечниками, а не с чесоточ‑никами или туберкулезниками. Вот и здесь, на дороге, для начала решил я свести знакомство с человеком, напоминавшим мне соседа по петроградской коммуналке Митрича, – он очумело сновал в дорожной толпе на старческих, деформированных ножках и, как бы радуясь этой возможности безнаказанно сновать, жевал палец и суетливо заглядывал в посторонние глаза в надежде пообщаться.
Человек этот, невысокого роста, с шарообразным животом и такой же головой, с шарообразными ягодицами, выпуклыми икрами ног и покатыми, шарообразными плечами, весь как бы состоявший из шаров, носивший широченные штаны с подтяжками красного цвета и ситцевую рубаху с выцветшим рисунком, словно забывший где‑то впопыхах свой пиджачок и теперь на дороге разыскивавший его усердно, как заблудшую душу, – человек этот жизнерадостный оказался знаменитым некогда коллекционером антиквариата Евлампием Мешковым, древним, девяностолетним стариком, «зарезанным», по его словам, врачами одной московской больницы накануне своего девяностолетия.
– Понимаешь, сынок, – попытался он с ходу растолковать мне причину своего недовольства московскими врачами. – Прихватило у меня брюхо. С кем не бывает? И допрежь прихватывало. Покушать я любил. А туточки – бац! Не по себе вовсе, паморки отшибло. Очнулся – глядь, уже операцию сделали. Безо всякого спросу. Оклемался малость, интересуюсь: для чего сделали? Говорят: подозрение на аппендицит – вот и вскрыли. А кому, как не мне, знать, что аппендицит у меня еще до революции вырезан, когда я матросом на броненосце «Инфанта Марфа» служил. Небрежно, братцы, работаем, вот оно что получается. Одно дело – я, старый пень со своей кишкой, а ежели так вычислительную машину ковырнуть, которая атомную ракету на цепи держит, стережет, а? То‑то и оно. Предыдущего шва, хирурги хреновы, не заметили. А через неделю мне хуже и хуже. Не только свежий шов не затягивается, но и давнишний, судовым врачом нанесенный, разошелся. А в итоге: шкандыбай, Мешков, по шоссейке. Такая коллекция дома без хозяина осталась! Хорошо, если государство оприходует, а ну как сродственники накинутся. Ей ведь не только цены – умопостижения подходящего нету!
Старик почему‑то уцепился за меня. Чем я ему понравился – ума не приложу. Коллекционной страстью никогда я не страдал, поесть не любил, закусывал чаще всего «рукавом», аппендикс мне так и не вырезали. Вот разве что… под одним небом цвели?
– Сынок, а пожевать у тебя ничего не найдется? – безо всякой надежды в голосе обратился ко мне старик Мешков.
В верхнем кармашке моего зачуханного блейзера с женскими блестящими пуговицами (этот знаменательный пиджачок для меня не просто вещь, но – подарок жены и еще символ, ибо в нем я принял смерть – правда, как выяснилось позже, всего лишь клиническую), в котором я в свое время, перед позорным увольнением из школы, преподавал детям историю Древнего Рима; так вот, в кармашке этой суконной реликвии имелась у меня застарелая, окостеневшая полоска жевательной резинки, которую лет пять тому назад отобрал я у шкодливого, постоянно жующего, трескучего подростка Куковякина. И вот теперь, на дороге, поразмыслив, извлек я заморское лакомство и по‑братски поделился окаменевшей пустышкой со стариком коллекционером.
«Деду хоть и много лет, а гляди какой круглый да крепкий, будто репа! Вдруг да и пригодится знакомство, – соображал я на ходу. – Тем более что никто здесь, на шоссе, старше себя уже не делается. У такого старичка, помимо знаний, большой опыт общения с людьми. Отщипну‑ка я ему половинку жвачки».
С этих пор и вплоть до развилки, через весь неотвратимый путь старик Мешков увлеченно мусолил сладкое резиновое вещество, тискал его деснами, благодарно сверкая вставными глазами. Мешков конечно же уверял меня, что глаза у него натуральные, просто хорошо сохранились – зеленые, ясные, переливчатые, я же не без некоторых оснований полагал, что органы зрения у деда протезные, пластмассовые или коллекционные – из драгоценных камушков: стоило понаблюдать, как бесстрастно, бессердечно провожал он этими глазами беспомощных ласточек и стрижей, не умевших ходить пешком (птицы не летали из‑за непригодной, разреженной атмосферы, господствовавшей над дорогой). Остекленение мешковского взгляда «вычислил» я чуть позже: старик поскучнел из‑за невозможности коллекционировать на дороге что‑либо путное. Предметов антикварной старины не наблюдалось, а коллекционная страсть в Мешкове осталась прежней. В дальнейшем Евлампий Мешков начнет коллекционировать разного рода мелочи, оседавшие на дорогу из толпы, как из тучи: оторванные пуговицы, выпадающие зубы и ногти, волосы, обрывки ткани, сапожные гвозди, подковки и прочие шлаки. Страсть сделает его внимательным, глаза потеплеют, и ему время от времени начнут попадаться предметы более высокого назначения: медали, значки, нательные крестики.
Прежде, где‑нибудь на Невском проспекте, меня всегда раздражала бесцеремонность встречных взглядов, мнительный я был до сердечных судорог, особенно с похмелья; иной бывало так и обшарит тебя с ног до головы беспринципными гляделками, и ведь знаешь, что смотрит он на тебя поверхностно, смотрит и не видит, а все равно ежишься. А здесь, на дороге, все наоборот. Приглядевшись к попутчикам, на многих лицах обнаружил я эту странную бесстрастность глаз, объяснив ее отсутствием в людях корысти. Особенно ясными и вместе с тем порожними были глаза тех, что посветлей и как бы посчастливей прочих. Передвигались они торжественно, даже сановито. Зато уж смутные очи злодеев курились из‑под опущенных век черным дымом разочарований и перебродившей ненависти. И только глаза незрелых «недотыкомок» продолжали жить, светясь неистребимым огнем бытия земного, переливаясь многочисленными оттенками желаний, помыслов, воспоминаний.
Евлампий Мешков многое мне объяснил на дороге. Его общительный характер способствовал этому. В молодости балтиец Мешков, повитый пулеметной лентой, был прикомандирован к петроградской ЧК и однажды сопровождал на Шпалерную Максима Горького, задержанного по распоряжению недоброжелателей, и великий пролетарский писатель будто бы пошутил тогда: «Ну, что, братишка, приятно тебе Горького употреблять?» На что Евлампий, не сообразив, с кем имеет дело, сморозил: «Если угодно, то нам сладкий ликерец более по душе будет».
На мой вопрос, что за люди на дороге, Евлампий Мешков ответил коротко и ясно:
– Одержимые.
Пока я соображал что к чему, расшифровывая значение ветхого слова, Мешков продолжал меня удивлять:
– Подслушал я про это самое возле одного дождичка. Припекло, вот я и решил освежиться: стою себе, лысину охлаждаю, и забавно мне, что одежонка не мокнет, хотя водица так и шпарит. Под тем же дождем два светлых старичка толкуют. Один другого повыше росточком, и борода у него подлиннее, нос картошкой, как вот у меня, на плечах блузка в складочку, шнурком подпоясанная, а ноги босые вовсе из портков выглядывают. Он‑то и сказал, мотнув головой на угрюмых слепцов, которые днем глаза на запоре держат: одержимые, дескать! А второй старичок, да и старичок ли, глаза ясные, как синь‑пламень от свечки, бороденка огнем пообкусана, и сам весь горячий, будто уголек из костра, так и светится нутряным жаром – перечит первому старичку, похожему на писателя Льва Толстого: «Не осуждай! – звенит железным, нерасплавленным голосом. – Не лезь ты в законы божественные с гордыней бесовской! Не нами наказаны, не нам об них языки чесать. Все мы тут одержимые. Милостью господней». Наверняка – бывший служитель культа, расстрига.
Углубив ладони в карманы широченных штанцов, Евлампий пошуршал «коллекцией», покамест составленной из двух своих последних зубов, а затем продолжал:
– Послушал я тех старичков старорежимных, пригляделся к публике и смекаю – прав первый старичок: одержимые! Кто чем… Одни – злодейством, другие – добромыслием, третьи, навроде нас – и вовсе разной чепухой. А спроси у кого корочку хлебную – не подадут, мимо ушей пропустят просьбу. А всё книги: печатной продукции начитались – вот их и вертит, умников, будто в омуте.
– Вы говорите «их», а нас что же – не вертит? – пытаюсь приструнить Мешкова. – Лично я – водочкой увлекался…
– По их светлому мнению, старичков этих рассудительных, мы, то есть у которых глаза еще бегают, одержимы по мелочишке: жрать хотим, суетимся, сомневаемся, желаем знать, что там, впереди, забегаем поперек батьки в пекло, грешим всё еще, дескать. А эфти светлые, да и мрачные, которые слепцы, – шалишь: никаких уже поступков не совершают, есть не хотят, мозгой не ворочают, святым духом питаются, душу на покаяние несут, тем и одержимы. Ежели сомневаешься – спытай: обратись к кому хошь из них, ну хотя бы за куревом или еще по какому житейскому делу, – бесполезно. Как о стену горох. Я тут среди этих, которые в землю носом смотрят, одного знакомого коллекционера обнаружил. Сунулся было с разговорами к нему, а тот даже не узнал меня и только, будто волчина с жаканом в кишках, по‑сучьи так на меня посмотрел, с немой злобой, и дальше потрюхал. А, случалось, дубликатами обменивались…
С коллекционером Евлампием Мешковым еще не раз придется мне сталкиваться на дороге и толковать о том, о сем, а тогда я его покинул, потому что увидел в толпе прекрасную женщину, обратил внимание на ее дивную фигурку в чем‑то легком, полупрозрачном, светящуюся нежно‑розовым светом, с лицом если не святым, то абсолютно безгрешным, освобожденным от мирских морщин, теней и прочих наслоений и отпечатков доли земной.
Она стояла возле участка, над которым шел снег, как перед экраном огромного телевизора, где рассказывалось о русском Севере или Сибири. В глубине снежного действа были наметены сугробы, кой‑где столбушкой кружилась поземка, поскрипывали шаги легко одетых любителей зимних ощущений, свернувших ненадолго с теплого, бесснежного шоссе, чтобы насладиться зимними впечатлениями. Я уже знал, что снег в зоне зимы традиционных свойств не имеет и что по нему запросто можно было ходить босиком, не боясь отморозить пальцы. Но трепетный облик женщины, напоминающий лепесток цветка, оторванный бурей, смотрелся на фоне сугробов, как… космическая катастрофа, и леденил мне сердце. И тогда я, позабыв о себе, о том гнусном впечатлении, которое вот уже столько лет произвожу на людей своим внешним видом алкаша, шагнул к женщине… И тут она обернулась! Похоже, я вскрикнул, пробормотав имя своей жены: «Тоня! Тонечка…» Но это была не Тоня. Тоня осталась там, на Петроградской стороне или где‑то еще, в моей памяти, в моей молодости. После я жадно вспоминал, что меня сбило с толку? Почему я ошибся? И наконец догадался: две крупные слезы в уголках глаз розовой женщины, как два алмаза! Тоня всегда плакала именно так: не истерично, не размазанно, не мокро, слезы ее вызревали жутко медленно и держались в уголках глаз долго, последние годы нашей совместной жизни – почти постоянно.
Розовая женщина обладала именно женской, выстраданной – не девичьей фигурой, неуловимо тренированной счастьем, горькой тоской и восторгами любви, это было стойкое, умное, опытное и необыкновенно изящное тело. И я поначалу даже не испугался, когда женщина, не без трепета в тонкой лодыжке, ступила в зиму (ступи она со своим изяществом, блеском линий в огонь, я и тогда не вздрогнул бы: ожидаешь, что огонь телесный переможет огонь внешний), но спустя несколько мгновений засомневался в ее неуязвимости и, расталкивая беженцев дороги, ринулся следом за ней в отрезвляющую снеговерть.
На этом первая тетрадь «Записок пациента» кончается. Писал Мценский шариковой ручкой в ученических тетрадях на бумаге, разлинованной в клеточку. Писал неразборчиво, приблизительным, неврастеническим почерком. При перепечатке некоторые из слов приходилось домысливать, а то и угадывать, так что мое с Мценским соавторство очевидно. Да и кто я, в этом мире, если отбросить условности? Такой же пациент. Все мы пациенты. От рождения. Если не раньше. Ибо наряду с волей к жизни в каждом из нас запрограммирован «гибельный ген», смертельная мета. И единственная из панацей от этой хворобы – Вера. Вера в бессмертие духа.
Записки Викентия Мценского не были предназначены им для печати, во всяком случае – нигде подобные заботы не оговаривались (как, впрочем, и запреты на издание).
Тетради Викентия Мценского попали ко мне от врача‑нарколога Геннадия Авдеевича Чичко. С меня было взято слово, что я никогда и никому не открою подлинного имени автора записок. Что я и делаю, публикуя записки в несколько интерпретированном мной литературном их варианте.
До того как нам продолжить публикацию «Записок пациента», расскажем историю появления Мценского в клинике, где заведующим наркологического отделения работал тогда Геннадий Авдеевич Чичко.
На одной из станций ленинградского метрополитена после двенадцати ночи дежурная в красной шапочке обнаружила в вагоне спящего человека.
Такие, «сонного» свойства, находки в метро – не редкость. Попытались добудиться. Открыв глаза, человек не подхватился бежать, наоборот, вел себя вяло, грустно склонял голову на грудь одного из машинистов, пришедших на помощь дежурной по станции.
Тогда решили: сильно пьяный. Позвали сержанта из пикета. Проводили обнаруженного до эскалатора. В пикете тот человек продолжал вести себя тихо, даже печально. Во всяком случае – не агрессивно. Это насторожило сержанта, который и вызвал «скорую».
В скромном, отечественного покроя пальто задержанного, а также в пиджачных карманах потертого фирменного блейзера были найдены паспорт на имя Викентия Валентиновича Мценского, полполоски окаменевшей жвачки, в паспорте – засохшая веточка горькой полыни, остро пахнущая степными просторами; в кармане измызганных джинсов ключи. Скорей всего – от квартиры.
Мценский поступил в клинику с явными признаками алкогольного бреда, предельным истощением нервной системы, отравленной кровью. Помещен был в «наркологию», из горячечного состояния выведен с трудом. Тело его после ряда процедур расслабилось, мышцы «потекли», как после каторжной работы. Человек впервые за много лет по‑настоящему отдыхал. Молча, тяжко, благодарно. С наслаждением человека, воскресшего из мертвых.
На третьей неделе пребывания в клинике Мценский неожиданно улыбнулся.
На вопрос дежурного врача: «Что с вами, больной?»– Мценский ответил: «Да так… Вспомнил кое‑что».
Решили: миновал кризис и улыбка у пациента хорошая, не ущербная, то есть осмысленная.
Что именно вспомнил Мценский – осталось для всех тайной. Для всех, кроме завотделением Чичко, которому Мценский не только доверился, но в дальнейшем посвятил свои клинические записки, названные несколько торжественно: «Шествие».
Приступы ласковой улыбчивости, а затем и негромкого похохатывания посещали больного без предупреждения и – где угодно: за обеденным столом, в туалете, в процедурной, в спальне и особенно отчетливо, размашисто – в прогулочном коридоре.
Засыпал Мценский по приеме успокоительного. Засыпал медленно, с превеликим трудом. Улыбка его тогда постепенно тускнела, тишала, но еще долго, как безголосый дымок из притихшего вулкана, курилась изо рта, болотными пузырьками поднималась со дна исступленной души больного.
Улыбался и похохатывал Мценский целый месяц и вдруг перестал. Затишье наступило после несложной процедуры: ему сделали промывание желудка. До клизмы чего только не применяли: и гипноз, и аутотренинг, и электрошок, не считая ванн хвойных и ванн родоновых. Выручила бабушка Аграфена, внимательная и ужасно опытная нянечка. Она подсказывала Чичко: «Третьи сутки энтот ваш хохотун на горшок не ходит». Сделали процедуру – и Мценский перестал улыбаться. Он понял, что предстоит жить дальше. Ездить по городу на трамваях, зарабатывать на хлеб, читать вывески, смотреть людям в глаза.
И тогда он признался, что валял в клинике дурака. Что он симулянт. И что улыбался он не без умысла, но как бы от щекотки, то бишь от бесполезности лечения.
А на самом‑то деле улыбался он потому, что поверил в воскрешение своего организма и что теперь он знает, как ему жить дальше.
Все – и главный врач, и доктор медицинских наук Христопродавцев, и завотделением Чичко, и приглашенный из Бехтеревского института доцент‑психоневролог, даже бабушка Аграфена, последняя более прочих, – были убеждены, ощупывая Мценского глазами и руками, что это и есть его величество Выздоровление. И пусть скептики продолжают настаивать на отсутствии в мире чудес. Чудес, может, и нету. Зато есть Мценский – изможденный, беззубый, грустный дядька, обладающий теплым, в иронической дымке, взглядом серых глаз, задумчивым, недоверчивых интонаций «подпольным» голосом с ехидцей, широким ртом с лошадиной, задиристой верхней губой и прочими мелочами, дарованными ему природой и собственными привычками.
В клинике Мценский, как было уже сказано, провалялся более года. Агрессивнее в условиях относительной изоляции не сделался. Печаль с его лица не сошла, однако смотрелась умиротвореннее.
По ходу сочинения записок, в самом начале этого мучительно‑сладостного занятия, пациент иногда заикался о какой‑то вселенской печали, мировой тоске, которую будто бы знал не понаслышке, а захватил в мир откуда‑то «оттуда», с какой‑то судной дороги, но распространяться об этом в клинике во всеуслышание с некоторых пор перестал, ибо смекнул: врачам необходимо угождать, лишний раз не пугать их и не разочаровывать. Иначе – залечат. И вот, наконец, комиссия…
В белой комнате клиники сидели бледные городские люди. Стены, мебель, халаты, шапочки, кожа лиц, рук – все это сливалось в один сплошной стерильно‑бесцветный туман, заполнявший помещение, и только черные висячие усы председателя медкомиссии Христопродавцева, ведшего опрос пациента, выбивались из этого оптического тумана, как здравая мысль выбивается из словесной каши.
– Скажите, больной, вы по‑прежнему утверждаете…
– Нет! Нет! Я уже ничего не утверждаю. Пожалуй, теперь я чаще, чем нужно, сомневаюсь.
– Прошу не перебивать. Кстати, как вас теперь зовут? Фамилия, имя?
– Мценский Викентий Валентинович. Как и положено. А я почему‑то сомневаюсь даже в этом. Вот вы меня лечили, лекарствами пичкали, процедурами. А я, к своему стыду, сомневался. Сомневался, что я болен именно в том направлении, которое вы определили для меня. И я… улыбался. Мне вдруг стало забавно наблюдать, как все мы, вместе взятые, делаем что‑то не то, думаем не о том, чувствуем не так. Иными словами – сознательно притворяемся. Сознательно, но не безнаказанно.
Вслед за признанием Мценского в притворстве председатель комиссии, тот самый, с отвислыми запорожскими усами, доктор и профессор Христопродавцев ненадолго воспылал лицом, словно сглотнул горькую пилюлю обиды. И тут же хитренько подмигнул Мценскому:
– Значит, притворялись, Викентий Валентинович? А кто Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций звонил? Спичку в штепсель вставляли и разговаривали? С Пересом де Куэльяром? Выходит, комедию ломали? Выходит, что сознания вы не теряли, а добровольно выбрасывали его на помойку? А все эти кардиограммы и энцефалограммы, они что же – бессовестно врали?
– Разве это со мной происходило? – беззлобно усмехнулся Мценский.
– А с кем же тогда?! – взопрел малость Христопродавцев.
– С моей телесной оболочкой, со скафандром, так сказать…
– Шутить изволите?
– Скучно, потому как…
– Да вы, однако, фрукт! Прошу прощения, товарищи, – обратился председатель к членам комиссии и в первую очередь к Геннадию Авдеевичу Чичко. – Но вас, похоже, и впрямь водили за нос. Трудоспособный экземпляр целый год на казенных харчах, извиняюсь, отдыхал! Больной, вы свободны!
– И как же вас понимать, профессор? Больной я или здоровый? Такой же, как вы? Или?.. И куда мне теперь идти, если я будто бы свободен? За документами, так, что ли?
– Ступайте в палату. Документы вам принесут. И мой вам совет: в следующий раз, когда будете звонить в ЮНЕСКО, не сочтите за труд, замолвите и за нас, грешных, словечко. Из чувства элементарной благодарности хотя бы перед бабушкой Аграфеной, которая вам утку подавала, когда вы не только этих чувств лишились, но и всех остальных.
– Извините… Я, конечно, благодарен. Только мне показалось, что есть проблемы более захватывающие.
– Ну‑ка, ну‑ка, как там насчет пребывания в другом измерении? Вы об этом заикнулись? Вот те на. Мне казалось, что все уже позади.
– Чепуха. Галлюцинации. Физиология. Спасибо за избавление.
– Тогда почему сомневаетесь?
– Нервы шалят. Устал. Разве не так? – улыбнулся Мценский Христопродавцеву замирительно, а на Геннадия Авдеевича глянул с мольбой.
Комиссию созвали по просьбе лечащего врача, завотделением Чичко, отдавшего себя борьбе с алкогольной и курительной наркоманией столь же безоглядно, сколь некоторые из его пациентов отдавали себя в руки безжалостного порока. Чичко сказал:
– Пощадим Викентия Валентиновича. Он и так, можно сказать, подвиг совершил: с того света вернулся.
Но «запорожец» не унимался. Видимо, в рассуждениях Мценского что‑то профессора основательно зацепило.
– Чем намерены заняться после излечения? Ваша специальность?
– Откровенно говоря, никакой специальнос<