Георгий Тушкан М. Лоскутов
Голубой берег
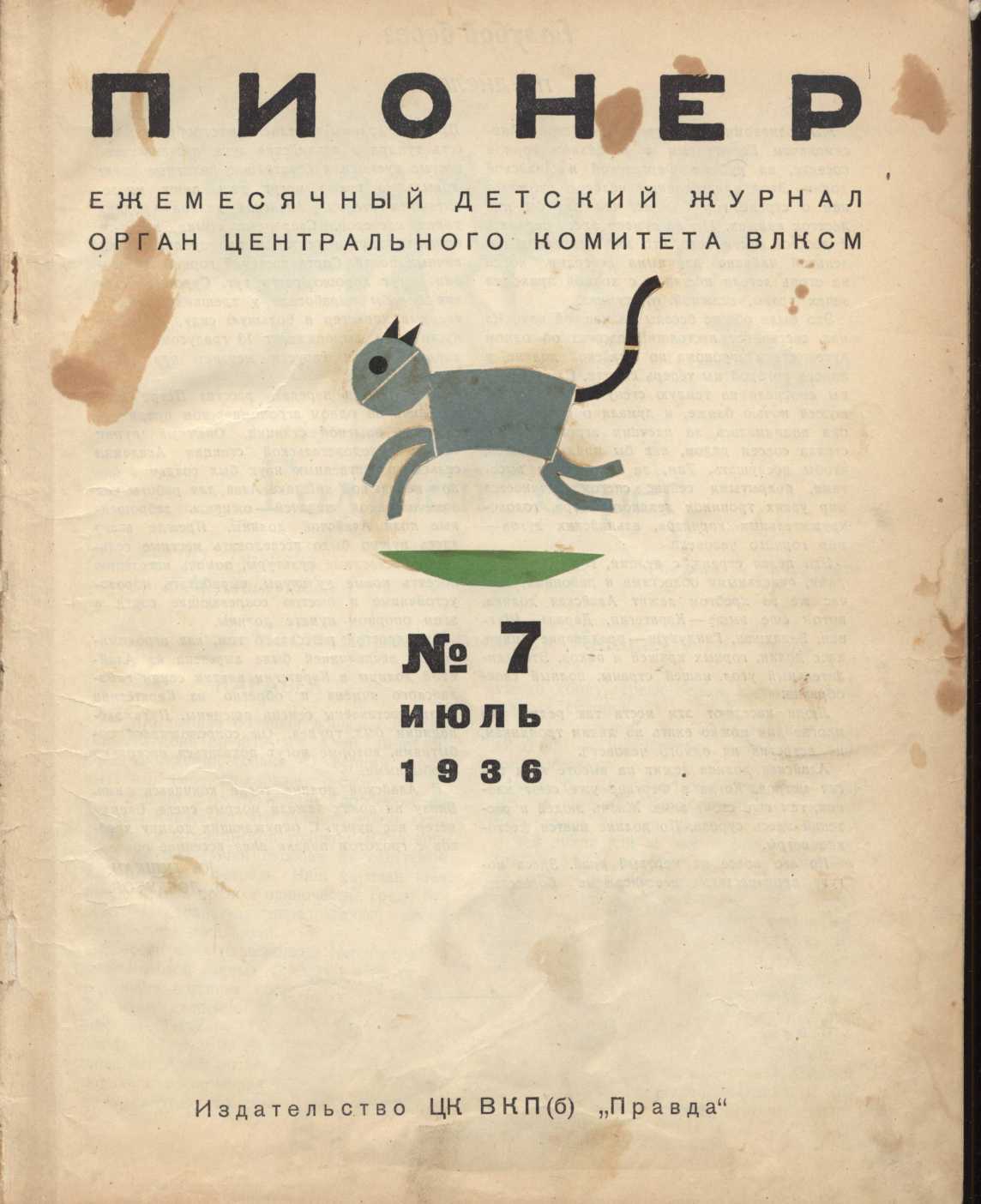
Голубой берег
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мы познакомились с агрономом Петром Анисимовичем Коротковым в маленьком горном поселке, на рубеже Ферганской и Алайской долин. Этот удивительный человек рассказал нам о стране гор больше, чем дал бы нам десяток книжек. Мы не сумеем здесь передать и десятой части того, что мы слышали в маленькой чайхане длинными вечерами, когда на огонь летели мошки и с холмов приходил запах травы, влажной от тумана.
Это были общие беседы за чашкой чаю. Из них составился настоящий рассказ об одном путешествии агронома по Алайской долине, у порога которой мы теперь сидели. Слушая его, мы смотрели на темную стену хребта, казавшуюся ночью ближе, и думали о стране гор; она поднималась за плечами агронома, она стояла совсем рядом, как бы придвинувшись, чтобы послушать. Там, за холодными высотами, покрытыми сейчас снегом, начинается мир узких тропинок ледяного ветра, головокружительных карнизов, альпийских лугов – мир горного человека.
Это целая страна, с аулами, горными городами, отдельными областями и районами; сейчас же за хребтом лежит Алайская долина, потом еще выше – Каратегин, Дарваз, Шугнан, Бадахшан, Гиндукуш – преддверие Индии, хаос долин, горных кряжей и пиков. Это удивительный угол нашей страны, полный своеобразия.
Люди населяют эти места так редко, что многие дни можно ехать по диким тропинкам, не встретив ни одного человека.
Алайская долина лежит на высоте трех тысяч метров. Когда в Фергане уже сеют хлопок, там еще стоит зима. Жизнь людей и растений здесь сурова. По долине мчатся жестокие ветры.
Но это вовсе не мертвый край. Здесь могут произрастать неисчислимые богатства.
Природа долины исполнена многообразия: тут есть тундра и альпийские луга, песчаное‑каменистые пустыни и богатейшие пахотные поля; ковыльные травы могут дать пищу многотысячным стадам. Алайская долина – родина диких клеверов. Старинные арыки когда‑то орошали тысячи гектаров плодородных пшеничных полей. Сорта растений горной Абиссинии могут хорошо расти тут. Суровые условия борьбы выработали у здешних растений твердый характер и большую силу. Даже капуста здесь выдерживает 18 градусов холода, когда обычная капуста мерзнет при пяти‑шести.
Нам хочется передать рассказ Петра Анисимовича об одном агрономическом предприятии его опытной станции. Опытный пункт научно‑исследовательской станции Академии сельскохозяйственных наук был создан в одном небольшом кишлаке Алая для работы над замечательной задачей – оживить заброшенные поля Алайской долины. Прежде всего здесь нужно было исследовать местные сельскохозяйственные культуры, помочь населению посеять новые культуры, выработать морозоустойчивые и быстро созревающие сорта в этом опорном пункте долины.
Это простой рассказ о том, как агрономической экспедицией была вывезена из Алайской долины в Каратегин партия семян гималайского ячменя и обратно из Каратегина были доставлены семена пшеницы. Путь экспедиции был труден. Он сопровождался событиями, которые могут показаться несколько необычными.
В Алайской долине тогда кончалась зима. Внизу на полях лежали мокрые снега. Сверху ветер нес пургу. С окружающих долину хребтов с грохотом падали вниз весенние обвалы.
Ю. ТУШКАН.
М. ЛОСКУТОВ.

Голубой берег
Повесть Ю. Тушкана и М. Лоскутова
Рисунки Б. Винокурова
Часть первая. Кишлак Кашка‑су
КАРАБЕК
– Ай, черная большая лошадь, замечательный конь по фамилии Алай, ай‑ай‑ай! О, превосходная собака. О, верный следопыт! Ай, длинный караван, о‑о‑о!
… Вдвоем с переводчиком Карабеком мы ехали: в Кашка‑су. Это далекий район, прилегающий к китайской границе. В те времена он был почти оторван от советской жизни. Стоял февраль. Наш караван шел много дней в полном одиночестве среди белого пространства, переправляясь через реки и глубокие снега.
Впереди ехал на верблюде Карабек, смуглый молодой киргиз. За ним – я на своем огромном вороном коне по имени Алай. За нами степенно шагали як – горный бык по прозвищу Тамерлан – и два верблюда с грузом. Неорганизованно бежал лишь пес Азам, он же шайтан‑собака; громадная взлохмаченная его голова то мелькала спереди, то появлялась неожиданно где‑то сбоку, среди белых нагромождений горных склонов.
– Ай, черный пес, ай, шайтан‑собака, ай‑ай‑ай! – пел Карабек, качаясь на своем верблюде.
Это был невозмутимый человек – мой друг и помощник Карабек, он очень любил петь песни. Он пел обо всем, что видел и о чем думал. Он не мог прожить полчаса, чтобы не петь, и я думаю, что если бы ему запретили петь он бы умер. Когда ему не хватало материала для песен, он находил его с удивительной изобретательностью. Иногда докладывая мне о каких‑нибудь делах, он чувствовал, что проза в его жизни слишком затянулась; тогда он начинал подпевать. «Ай, ай, товарищ начальник, – выводил он, – вот как я вернулся из кишлака Ак‑су. Ак‑су, Ак‑су, Ак‑су! Су‑у‑у…» Сперва это сердило маня, потом я привык и махнул рукой. Это был славный товарищ, бывший красный партизан и хороший работник, «человек, который видел шайтана, и его детей, и многих других его родственников», – как говорил он.
Мы ехали в дикий район, в места, которые редко посещал кто‑либо, кроме местных киргизов, в кишлак, о котором поговаривали как о притоне контрабандистов. Белые склоны гор, покрытые снегом, стояли по обеим сторонам тропы. Ущелье поднималось вверх, оно становилось все уже, и скалы вырастали по сторонам. Они висели над нами причудливыми фигурами. Было тихо. Лишь иногда внезапно среди безмолвия ущелий, словно отзвуки выстрелов, возникали какие‑то отдельные грохоты и гулы обвалов и заставляли нас вздрагивать. Черный пес Азам бежал теперь смирно по тропе, время от времени останавливаясь далеко впереди, то и дело прислушиваясь и вопросительно оглядываясь на нас.
Карабек тянул какие‑то фразы, в которых русские слова мешались с киргизскими. От нечего делать я прислушивался к его бормотанью.
– A‑а‑а, у‑а… – тянул он. – Азам, адам, шайтан. А‑а, что ты смотришь, черная собака? А я знаю, что ты хочешь сказать. Вот жили‑были на свете несколько друзей: один большой начальник‑агроном товарищ Кара‑Тукоу; один небольшой проводник Карабек, три старых верблюда, один бык, один лошадь Алай и еще один большая черная собака‑шайтан по фамилии Азам. Вот поехали они все вместе в кишлак Кашка‑су. А там был очень дикий и страшный район. И собака говорила, и переводчик Карабек говорил, и многие перед тем говорили начальнику: «Не надо ездить в Кашка‑су; там живут плохие киргизы, там вас встретят контрабандисты и разбойники. Они вас убьют: и начальника убьют, и Карабека убьют, и лошадь убьют, и трех верблюдов, и быка, и шайтан‑собаку!
Мне надоели всеобщие опасения. Да и сам я уже начал подумывать: хорошо ли кончится эта поездка? Чтобы отвлечься от Тревожных мыслей, я разглядывал боковые ущелья, открывающиеся по сторонам вершины скалы, над которыми крутились черные птицы. Но ухо невольно прислушивалось к песне и следило за развитием фантазии Карабека. Я знал, что он вовсе не трус и пойдет со мной куда угодно, но я также знал, что останавливать «пение его мыслей» бесполезно.
– A‑а‑а, и вот сказала тогда собака, и Карабек сказал, и все тоже сказали начальнику: «Нам, конечно, наплевать, и мы все поедем, но нас убьют как сурков». И все семеро поехали. Ехали‑ехали‑ехали‑и‑и‑и. И впереди бежала одна собака. A‑а‑а… Она изображала из себя командира, потому что у нее было много гордости, у этой собаки. И вот убежала ока очень далеко от каравана, свернула в ущелье, и вдруг – хлоп! – навстречу бандиты. «Стой, кто такие?» – спрашивают они собаку. «Мы, – отвечает она важно, – агрономическая экспедиция из Дараут‑Кургана, едем обследовать кишлак Кашка‑су». «Так вот тебе за это!» – и схватил ее за хвост, но она рванулась и убежала без хвоста. Помчалась назад, к своим, свернула в одно ущелье – нет их, в другое – нет, в третье– нет. Нет, нет, нет, не‑е‑ет… Осталась она бежать без хвоста и без товарищей. Вот, значит, убежала она и заблудилась. Села она и заплакала. Она плакала так: а‑а‑а‑а, У‑У‑У, оу‑оу‑оу‑у‑у…
Пес словно понимал песню Карабека. Боясь заблудиться, он то и дело останавливался и поджидал нас. Впереди не было видно никакой тропы. Снег становился глубже, бедная собака зарывалась в нем по грудь и тяжело дышала от усталости.
Мы поднялись на какую‑то равнину. Началась пурга. Троп не было. По всем нашим расчетам, мы давно уже должны были достигнуть кишлака. Может быть, мы заблудились? Может быть, прошли верховья рек и перевалы? Наступающие сумерки и густо поваливший снег закрыли все окружающее непроницаемой завесой. Не было видно вдалеке ни гор, ни неба, ни дороги.
С трудом пройдя еще немного по равнине, мы остановились. Снег завалил всякие следы пути. Дальше идти нельзя было. Где мы находимся: в долине, на плоскогорье или в ущелье, – неизвестно. Собрав верблюдов в кучу, чтобы не растерять их среди пурги, мы легли на кошму под прикрытием их тел. Азам лег рядом с нами на кошму, положив мокрую морду на лапы и ворочая черными глазами.
Стемнело, но пурга еще не улеглась. Ветер становился сильнее. Не из чего было разложить костер. Растет ли что‑нибудь на этой проклятой равнине? Карабек встал, чтобы поискать под снегом какие‑нибудь стебли, и сразу исчез в пурге. Азам тоже вскочил с кошмы и беспокойно посмотрел на меня, но потом опять лег прислушиваясь.
Устроив навес из двух кошм, я взял лопату и отправился за стеблями. Азам побежал за мной, то исчезая во тьме, то снова появляясь возле моих ног. Полчаса я копался в снегу, но удалось мне напасть лишь на один сухой куст и несколько тщедушных корешков прошлогодних растений. Когда я вернулся к верблюдам, Карабека еще не было. Пес беспокойно смотрел во тьму. Тогда, думая, что Карабек сбился с пути, я дал знать Азаму, и он начал лаять, ощетинив шерсть.
Сквозь свист ветра мы услышали какой‑то шум: нето шаги, нето голос. Наконец, до нас донеслось бормотанье: «Ай, какая хорошая жизнь… Солнце светит, и птички поют. А я себе хожу и собираю палки…» Это пел Карабек.
ШАПКА ИЗ КУНИЦЫ
Однако положение наше было отчаянным. Собранных нами жалких веток было недостаточно для костра, который мог бы устоять под ветром.
Я знал страшные свойства здешней метели. Стоять на месте мы не могли по двум причинам: за ночь наш несчастный караван покрыло бы снежной пеленой в несколько метров толщины; и второе: такой холод мог бы выдержать только як. Даже лошадь в подобных условиях неминуемо погибает.
Но двигаться мы не могли. Страшная усталость и сон одолевали весь наш караван.
Животные кое‑как поплелись вперед. Я шатался та лошади, думая, что же будет дальше. Неожиданно я задремал, не знаю, надолго ли. Меня пробудил громкий лай Азама.
В первую минуту я успел заметить только, что ветер стал тише, снег больше не шел, высоко над нами в темноте сверкало несколько звезд. Собака бросалась в сторону, рычала и лаяла. Мы почувствовали внезапно близкое присутствие кого‑то чужого, схватились за оружие и сейчас же услышали голос:
– Спокойнее, подержите свою собаку.
Из темноты появился высокий мужчина в ватном халате, с ружьем за плечами.
– Солом алейкум, здравствуйте, – сказал он, подойдя ближе, когда я успокоил Азама.
Карабек уставил ружье на пришедшего. Это был пожилой мужчина, толстый киргиз с черными усами. На голове его была шапка из куницы, из‑под халата виднелась рыжеватая сурковая куртка. Борода его была запорошена инеем, с усов свисали ледяные сосульки.
– Опусти ружье. Киргиз‑скотовод ехал из кишлака Кашка‑су в Дараут, увидел издалека вас, думал: сбились с дороги.
Он говорил по‑русски чисто, но с трудом подбирал слова.
– А мы…
– А я знаю, что вы агроном и едете в Кашка‑су. Вы хотите сеять здесь пшеницу. Ваша фамилия Коротков. Лошадь вашу звать Алай…
Я поразился: откуда все это было известно, если я умышленно никому не говорил о предполагаемой поездке в Кашка‑су?!
– Здесь сами горы говорят, – сказал киргиз улыбаясь, – человек едет, а перед ним молва летит…
Мне показалось сначала подозрительным, да и просто необыкновенным его появление здесь одного, да к тому же без лошади. Я хотел расспросить его, но он, сделав нам знак рукой, зашагал в ту сторону, откуда появился. И тут сквозь начинающий бледнеть мрак ночи я увидел далеко посреди долины темную группу скал, под прикрытием которых стояла лошадь.
Очевидно, киргиз заметил в стороне нашу стоянку, или услышал возню верблюдов, или еще по каким‑то признакам, одному только местному старожилу известным, почуял нас. Я подумал: какую нужно иметь для этого остроту чувств, выработанную жизнью среди дикой природы гор и пустынь!..
Наш караван подъехал к стоянке толстого киргиза. Азам все еще ерошил шерсть и рычал на чужую лошадь. Мы спешились и сели на кошму.
Киргиз в шапке из куницы внимательно осмотрел нас.
– Я вам вот что хотел сказать. Вы едете в такой кишлак…
– Где нас убьют, знаю, знаю, зарежут и повесят, – прервал я смеясь.
– Изжарят на бараньем сале и продадут китайским купцам, – добавил Карабек.
– Нет, нет, нет, – сказал киргиз, – я совсем не то хотел оказать. Никто вас там, я думаю, не тронет. Да к тому же из тебя немного получишь сала, молодец, – засмеялся он, ткнув пальцем в Карабека.
– Ой, зато из тебя, дорогой, вышел бы хороший плов.
– Ай, это не жир, это мозоли на теле. Я сорок лет работаю как верблюд, – покачал головой киргиз. – Я вам хочу сказать: ходите осторожнее по земле. Вы люди умные, присмотритесь в кишлаке и увидите: есть хороший человек и есть плохой человек. Нас очень далеко занесло от тех мест, где люди хорошо живут. У нас дикое место, глухое место…
Мы подняли верблюдов. Рассказав нам о дороге, киргиз добавил, что к полудню мы будем в Кашка‑су.
– Впрочем, вот что, – вдруг заявил он, оседлав коня. – Я вас провожу до места…
Начинался рассвет.
Перед нами вдруг заискрились мириады снежинок на бесконечной плоскости среди белых снеговых склонов. Мы надели черные и синие очки‑консервы. Азам отряхнулся, весело замахал хвостом и снова побежал вперед.
– Концерт продолжается, – сказал Карабек фразу, подцепленную в Ташкенте и очень понравившуюся ему: «Иконсерт» выговаривал он, выпячивая вперед губы.
СМЕШНОЙ КИШЛАК
Действительно, немного позже полудня мы были уже в Кашка‑су.
Киргиз соскочил с коня и сказал: «Теперь в конце кишлака вы сами найдете кибитку аксакала и председателя совета». Потом он исчез куда‑то.
Мы зашагали среди кибиток.
По обеим сторонам улички стояли киргизы, старые и молодые, они подходили к нам, бесцеремонно осматривали нас и даже ощупывали поклажу.
Это были люди пограничного кишлака, в ярких одеждах, представлявших собой пеструю смесь: тут были одежды киргизов, кашгар, дунган и других народов. Женщины носили тюрбаны, широкие шаровары, на некоторых были надеты пестрые платки, много бус, тяжелые китайские украшения. У иных киргизов из‑под халатов выглядывали синие рубахи дунганского покроя. Какой‑то старик с женским платком на голове кривлялся и кричал, показывая на нас палкой.
Расталкивая толпу локтями, к нам пробрался киргиз маленького роста, с лицом, съежившимся от бесчисленных морщин, с длинной и жидкой бородкой, напоминавшей пучок сухой травы на пригорке. Он шел, протягивая руки вперед.
– Здравствуйте, я Барон, – сказал он, – я Барон, член сельсовета и кандидат партии…
0) н отвел нас в кибитку одного из стариков, белобородого человека, с лицом, изъеденным оспой, словно в дырочках, в рваном халате и со слезящимися глазами. Старик пригласил нас в свою кибитку, и вскоре она вся наполнилась людьми. Посреди кибитки на полу горел костер. Мы уселись на землю вокруг костра. Молодежь стояла у входа и заглядывала в кибитку. Потом вошли еще несколько седобородых киргизов и, поздоровавшись, сели рядом с нами.
Некоторые из них брали катышки конского навоза и осторожно клали к костру, создавая как бы стену из катышков вокруг костра. Этим самым они показывали, что вкладывают свою часть труда в труд хозяина. Некоторые проделывали это с особой изобретательностью и трудолюбием, воздвигая из навозных катышков причудливые фигуры, нагромождая одни на другие; все это делалось с глубокомысленным видом.
Наконец, выпили по две пиалы чаю с лепешками.
Будучи знаком с обычаями, я не спешил сразу начинать деловые разговоры: это означало бы легкомысленную торопливость. Даже начав разговор, я не спешил переходить к делу: это свидетельствовало бы об отсутствии степенности и веры в успех. Мы толковали о всевозможных делах на земле и на небе, имеющих меньше всего отношения к нашей поездке. Старцы, сидящие у костра, витиевато отвечали, мужчины, стоящие и сидящие за их спинами, вежливо поддакивали, при этом мы испытующе оглядывали друг друга. Сквозь дым я различал все новые и новые фигуры людей, появляющихся в кибитке.
– Весна в этом году запоздала, – говорил я, – и в горах была слишком снежная зима. Все говорит за то, что пойдет очень много воды с гор…
– Если начальник приехал, чтобы своей болтовней сделать еще больше воды, то в самом деле можно будет утонуть, – сказал громко кто‑то вошедший.
Это замечание вызвало шиканье и возмущенные возгласы одних, сдерживаемый смех и явное удовольствие других собравшихся. Вошедший же, казалось, не обращал ни на кого внимания. Он бесцеремонно протолкался вперед и стал греть над костром руки. Это был высокий мужчина со смуглым лицом, украшенным густыми усами и черными суровыми бровями. На голове его была черная баранья шапка, заломленная назад. Через плечо, дулом вниз, висело ружье.

В кибитку вошел Джалиль Гош.
– Джалиль Гош, – заговорили в толпе, – Джалиль Гош опять пришел со своим характером.
– Помолчи‑ка, Джалиль, – сказал Барон, член сельсовета, – ты всегда суешь свой язык куда не следует.
– Твой язык годится только, чтобы лизать пятки, старая крыса, – ответил Джалиль презрительно, – я бы его отрезал и выкинул кабанам. Подлизывайся: они приехали от твоей власти, из города…
Новый взрыв смеха покрыл его слова, но тут поднялись старики и закричали на Джалиля. Джалиль, сплюнув, свял с плеча ружье и, сев на корточки, принялся продувать дуло, ни на кого не гладя.
– Не слушай его, товарищ начальник, – шепнул мне Барон, – это вредный человек, бандит, и мы не знаем, что с ним поделать.
Подготовленное мною выступление было теперь испорчено. Я не знал, как выйти из замешательства. Наступило всеобщее молчание, во время которого я вытирал слезы, заливавшие мне глаза: такой едкий дым наполнял кибитку. Носовой платок мой был уже совершенно мокр.
Из неловкости всех неожиданно вывел Карабек. До сих пор он делал вид, что ничего не слышит. Сидя на корточках и раскачиваясь, он бормотал под нос какую‑то песню. Вдруг среди общего молчания он запел так высоко и пронзительно, что получилось смешно и неожиданно. Раздался взрыв на этот раз всеобщего и дружного хохота.
– А, что тут смешного? Ничего смешного нет… – вскинул на них глаза Карабек и невозмутимо продолжал пение, так что все захохотали еще громче.
Это разорвало общую принужденность, и все заговорили, понемногу успокаиваясь и утихая.
– Открывай собрание… – толкнул Карабек Барона.
– Ну, вот что, довольно, – сказал Барон, вытирая смеющиеся среди прыгающих морщин глаза. – Тише, граждане. Теперь начальник расскажет нам о делах.
– Во‑первых, я не начальник, – сказал я. – Я агроном. Все, что я скажу вам, вы можете слушать, можете и не слушать. Можете даже встать и уйти. Можете выполнять и не выполнять – это ваша добрая воля. Я только скажу вам все, что думал, не даром я проехал столько километров… Хотя много вам рассказывать нечего: вы сами почти все знаете, зачем я приехал сюда…
Я рассказал собравшимся о неиспользованных богатствах Алайской долины, о возможности развить тут богатые пастбища и посевы, о пользе ТОЗов (товариществ по совместной обработке земли), рассказал, как советская власть помогает этим ТОЗам людьми, деньгами и машинами.
Карабек фразу за фразой, слово за словом переводил мою речь, так как я не слишком свободно владел киргизским языком.
– Некоторые думают, может быть, что я вас буду заставлять вступать в ТОЗ насильно. Это не так, – говорил я.
– … Заставлять вступать в ТОЗ. О, нет, нет, – повторял Карабек.
– Из такого ТОЗа будет мало пользы…
– Будет совсем, совсем очень мало пользы, – вторил тот, покачиваясь. Я даже боялся, что он сейчас запоет мои слова.
Беседа становилась слишком монотонной да и знал я, что из речей здесь большого толку не будет. Поэтому я понемногу перешел на общий разговор, в котором хотел выяснить интересующие меня вещи. Я стал спрашивать – жителей кишлака об их жизни. Почему они не пасут скота? Почему не сеют?
Не помнят ли старики, когда еще тут обрабатывали землю? Что сеяли? Кто сеет сейчас? Дехкане получат всяческое поощрение. Их опыт очень нужен, и если они дадут часть своего ячменя для наших пробных посевов, они получат хорошее вознаграждение.
(Наступило опять молчание, во время которого на костре шипела шавла – рисовая каша с жиром и молоком. Аксакал, хозяин дома, отец жены Барона, старик с дырявым лицом, шёпотом ворчал на девушку, которая приносила вязанки полыни. Старик щипцами ловко подбрасывал сухие стебли в костер. Присутствующие сидели вокруг костра с совершенно бесстрастными, непроницаемыми лицами.
– Напрасно спрашивал насчет скота и урожая – сказал мне Карабек по‑русски. – Все равно никто ничего не скажет.
Полынь перегорела. Подбросили новую охапку, и наступила минутная темнота.
Барон покашлял и, теребя свою жидкую бородку, начал говорить.
– Советская власть милостива, – сказал он. – Я сам советская власть. Но плохи наши степи: сухо, и воды нет. Кто что сеял раньше, – не знаем. Дед мой сеял. Отец уже не сеял. Я сею немножко ячменя. Снег кругом, камни, бедность. Пусть начальник едет назад и скажет, чтобы власть давала зерно, киргиз есть хочет, киргиз не умеет сеять. Я бедняк, все – бедняки. Баи были, заграницу ушли. Так и скажи: пусть пшеницу везут. Зерно пусть посылают, а то муку плохо везти. He надо муки совсем…
– Правильно, правильно, не надо муки везти, – сказало несколько голосов.
– Пусть везут, – громко вдруг произнес огромный Джалиль Гош, насмешливо глядя на Барона.
Барон вскочил и опять сел, вздымая руки и крича:
– Ты ничего не понимаешь, Джалиль! Молчи ты, глупый! Не мешай собранию!
– Я все понимаю. Пусть везут муку, – упрямо и еще громче повторил Джалиль.
– Граждане, нам надоели выходки этого бандита! – закричал Барон. – Вывести его из собрания!
Все вскочили и подняли крик. Джалиль встал и угрожающе посмотрел на Барона. Тот толкнул его в грудь. Джалиль замахнулся прикладом, но между ним и Бароном встало несколько человек. Кто‑то впопыхах перевернул котел с кашей, и жир затрещал на углях.
В тот же момент Карабек оказал мне быстро, не оборачиваясь:
– Товарищ начальник, один молодой крадет мясо из твоего куржума‑сумки. Не кричи, а так, тихонько, потяни куржум к себе.
Я подвинул куржум, пощупал его рукой, но мяса, вчера сваренного и уложенного там Карабеком, уже не было.
– Карабек, скажи: украли мясо, скажи: пусть отдадут.
– Не надо кричать, – ответил тот, – большой чатак – скандал получится. Все равно мясо – до свиданья…
Тем временем волнение и шум в кибитке улеглись. Джалиль Гош вскинул ружье на плечо и твердыми шагами охотника вышел из кибитки. За ним вышло еще несколько человек: им, видимо, уже прискучило зрелище собрания. Остальные сели.
– Концерт продолжается, – сказал Карабек. – Барон, открывай заседание сначала, только без кулаков. Если на каждом собрании будут драться, то в кишлаке скоро не останется населения, правда, а?..
Он усмехнулся и подмигнул собравшимся. И как раз в этот момент где‑то в кишлаке раздались громкий выстрел и крик, потом еще выстрелы.
Все опять вскочили и выбежали из кибитки. Я тоже хотел пойти посмотреть, что случилось, но Барон остановил меня.
– Тебе не нужно выходить, товарищ начальник, – я лучше тебя знаю. Вы люди приезжие, сидите в стороне…
Я послушался его и не велел выходить Карабеку. Барон ушел.
– Вот какой смешной кишлак, – сказал Карабек, качая головой, разгребая угли костра. – Заседание не состоялось. Каша не состоялась. Мясо исчезло… Если нас ночью в самом деле зарежут, то я ни капельки не буду удивляться…
Когда мы остались одни, меня вдруг охватила страшная усталость. Глаза мои и раньше уже слипались от дыма и полусна. Тяжелая дорога, горный ветер, пурга, путь через снежную долину, ночной киргиз в шапке из куницы, собрание, Джалиль Гош, Барон, выстрелы – мелькали у меня в голове уже в каком‑то туманном калейдоскопе. Я попросил Карабека привести собаку в кибитку и лег спать.
ПАЛКА МОИСЕЯ
– Слушай, черная собака, как воет, плюет и кашляет что‑то в горах. Очевидно, ты думаешь, что это ветер. Да, может быть, ты и права: ветер. А не может ли то быть Хан‑Тенгри, царь духов? Вот он ходит по горам, в больших деревянных калошах на трех шипах, бродит по ущельям и бросает вниз огромные скалы?! А?.. Спит внизу кишлак. Или не спит? Может быть, киргизы сидят в кибитках и прислушиваются к разговору гор? Слушай, собака, слушай, черная собака, в эту ночь с гор спускаются тени убитых и неотомщенных родственников. Слушай в эту ночь в четыре уха: по кишлаку могут ходить еще всякие другие тени…
Было уже совсем темно.
Я проснулся от завывания Карабека. Он сидел на корточках, задумчиво глядя на костер. В его черных глазах отсвечивались огоньки костра. Угли догорели, Напротив Карабека лежал Азам, уткнув голову в передние лапы, он глядел на костер, поводя ушами при каждом шорохе.
«Вот мы опять остались вчетвером», – подумал я. Рядом, за кибиткой, время от времени тяжело ворочался мой конь Алай, и потом опять все умолкало. Только издали доносилось глухое завыванье. Началась метель.
Я открыл глаза и, не поднимая головы, посмотрел на Карабека. Его плоское скуластое лицо, освещенное костром, и особенно глаза отражали сейчас добрый десяток чувств. Карабек что‑то изображал перед собакой: то страшно хмурил лоб и невероятно выкатывал глаза, подражая, очевидно, царю духов, то морщил лицо, как Барен, то скучающе бродил взором по кибитке, поглядывая на мои очки, лежавшие на полевой сумке. Наконец, он не выдержал и осторожно протянул к ним руку, надел очки на нос и важно взглянул на Азама. Очевидно, теперь он изображал агронома и начальника, товарища Кара‑Тукоу. Собака смотрела на него озадаченная, открыв рот, высунув кончик языка и даже склонив голову на бок.
– Ай, товарищ, – строго сказал Карабек, блестя очками, Азаму, – сколько раз я вам говорил, что духи есть предрассудки и вы есть темный человек, начиненный дурманом голова. Сейте высокогорные гималайские семена ячменя, агрономическая культура…
Здесь он перевел глаза на меня и вдруг понял, что застигнут врасплох. Он смутился.
– Я же ему говорю, что Хан‑Тенгри нет, ничего нет, это глупые сказки… – заговорил он, протягивая мне очки и пожимая плечами.
Я встал и осмотрелся. Темнота, ветер, дверь кибитки раскрыта настежь; в кун‑дюк – верхнюю дыру – влетал снег. Нужно было ее закрыть.
– Куда же девался хозяин кибитки? – спросил я.
– Не знаю, он провалился, этот старик…
Накинув овечью шубу, я вышел из кибитки. Метель и темнота охватили меня. Сквозь ветер слышен был далекий грохот. Словно в горах кто‑то ворочал камни. Я вглядывался в темноту кишлака и ничего не мог разобрать. Черная ночь с метелью закрыли даже очертания ближайших кибиток. Странные шорохи иногда, казалось, раздавались и в нескольких шагах от меня. Одну минуту я думал даже, что вижу приближающиеся ко мне фигуры. Я взялся было за рукоятку револьвера. Но фигуры исчезли.
Я прошел за кибитку, к деревянному сараю, в котором стояли моя лошадь и верблюды. Когда я подходил к сараю, мне показалось, что от двери кто‑то отскочил. Я постоял, никто не показывался, ветер мел снег по земле. «Это метель и воображение», – сказал я себе.
Однако следовало запереть на замок наших животных, но хозяина не было. Я вошел в сарай. Алай заржал и потянулся ко мне мордой. С тех пор как мы его поставили, прошло больше четырех часов – срок, по киргизским правилам, необходимый для отдыха коня перед кормом. Я принес из угла сноп сухой травы. Алай нервно стучал копытом и выдергивал у меня из рук клочки сена. В темноте жевали верблюды. Сопел бык. Все было спокойно.
Я вернулся в кибитку.
– Старик в дырочках еще не приходил. Он забыл дорогу к нам, глупый человек. Деревянное ухо, – сказал Карабек.
Деревянное ухо? Очевидно, так Карабек прозвал старика Шамши, хозяина кибитки. Всему, что встречал Карабек, он давал прозвища – людям, кишлакам, дорогам, животным. Иногда эти прозвища были совсем неожиданные, но бесполезно было выяснять их происхождение. Этот человек – «железная труба», говорил он мне. Или: «когда мы проезжали кишлак Птичий хвост, помнишь, где живут Барабанные шкуры…»
Я велел Карабеку спать, а сам для видимости вынул бумаги из сумки. Карабек укрылся шубой. Азам уткнул морду в лапы и тоже делал вид, что спит. На самом деле все прислушивались к ветру.
– Странно, что вообще никто не идет к нам, – сказал я. – Сейчас еще не так поздно, а все люди в кишлаке словно сквозь землю провалились.
И в тот же момент Азам зарычал и сразу вскочил на все четыре лапы. Я успел схватить его за шиворот. Взглянув на дверь кибитки, мы увидели стоящего в полосе света за дверьми человека. Он молча смотрел в кибитку. Но не успели мы разглядеть его лицо, как он исчез так же внезапно, как и появился.
Вместе с Карабеком мы выскочили наружу, но там никого не было. Ледяной ветер со снегом обдал нас. После горячего воздуха костра он словно пронизывал наши лица. Мы прошлись вокруг кибитки, осмотрели сарай, покричали в темноту– никто не откликался.
– Вот что, – сказал я вернувшись, – ясно, что кто‑то намерен нас сегодня ночью пугать. Значит, не нужно пугаться. Выдержка! И не хватайся раньше чем следует за оружие: здесь возможна провокация. Воздержимся от поступков, которые смогут потом дорого обойтись…
|Я растолковал, как умел, все это Карабеку; он понял меня и был даже очень доволен новому слову, которым можно коротко рассказать такую длинную мысль.
– Провокация, провокация… – забормотал он, завешивая входное отверстие кибитки мешком. Я завернулся в шубу, положил под голову сумку и лег. Дул ветер. Мешок надувался парусом, сквозь дыры в мешке летел снег. Из далекого завывания ветра, приходящего с гор, из окружающего шума, треска костра, шелеста тряпки обостренный слух пытался выделить какие‑то близкие шорохи, скрип сапог, разговоры, невесть что, кружащееся вокруг кибитки. Внезапно это ничто сразу оформилось и превратилось вдруг в ясно слышимые шаги. Пес опять подскочил, и шерсть на его спине поднялась щетиной. Приученный не лаять, он горящими глазами уставился на дверь.
– Спокойно. Провокация, – сказал собаке Карабек, кладя руку на ее шею.

Мы увидели стоящего в полосе света за дверьми человека.
Кто‑то громко забормотал у самой кибитки, чья‑то рука появилась в дверях и начала отстегивать мешок.
Я нащупал револьвер. Сознаюсь, что я ощущал тут легкую дрожь, тем более, что дальнейшее было довольно неожиданным. Мешок упал, и у порога появилось странное существо, человек с совершенно необыкновенным лицом: оно плясало. Все черты лица его: брови, губы, складки у носа, множество морщин – все это описало и дергалось, каждая черта порознь и все вместе, точно лицо дергали за ниточку. Это был старик, согбенное существо в женском платке на голове и без сапог, на ногах его были надеты неизвестно откуда взявшиеся здесь тонкие дамские чулки из фильдеперса.
Старик остановился у порога и посмотрел на нас, вернее, сквозь нас, выцветшими, невидящими глазами.
– Асай‑Мсай. Человек‑шайтан – большие очки. Ветер дует – человек плачет, Аллах идет…
– Ну и что же? – спокойно спросил я по‑киргизски.
– Это Палка Моисея, – шепнул мне Карабек.
– Какая палка?
– Ну этот старый трясущийся хвост… Ослиный желудок.
Очевидно, Карабек полагал, что все его прозвища каждому понятны. Вглядевшись в старика, я узнал в нем того самого странного человека, который утром, при въезде в кишлак, плясал и кричал на нас, размахивая палкой.
Палка Моисея! Я понял, в чем дело: «Асай‑Мсай» означает посох святого Моисея. Его носят дервиши секты Дувана, или Дивана, что значит – сумасшедший, безумный, бешеный. Это древняя и странная организация, известная своими зачастую довольно темными делами всему огромному Востоку, от Тибета до Багдада. Верховный вождь секты сидит в Кашгаре, в Западном Китае, там у него штаб и духовная школа. А учеников его, полуюродивых фанатиков, монахов и нищих, даже сейчас можно еще иногда встретить на базарах Бухары и Самарканда.
– Что же вам нужно? – повторил я.
– A‑а‑а… Смотри, смотри, а‑а‑а!.. – заорал вдруг старик, падая на корточки и показывая на дверь рукой.
Карабек поднялся с таким видом, что, если бы я не остановил его, он бы вышвырнул старика на улицу…
Я пытался заговорить со стариком, но бесполезно. Он продолжал выть и бормотать всякую околесицу.
– Ну это уже надоело, – сказал Карабек, – до свиданья, Ата, спокойной ночи.
Тот замолчал на минуту, взглянул на Карабека и снова принялся за свое.
– Вот удивительный старик! Как у него не устанет рот?! – крикнул мне Карабек, хлопая себя по бедрам.
Ему стало весело. Он сел перед стариком тоже на корточки и с удивлением уставился ему в рот. Потом в его глазах мелькнула какая‑то лукавая мысль. Он начал раскачиваться в такт старику и вдруг тоже запел по‑киргизски. Продолжительными периодами, без выхода, по всем правилам киргизского пения: закатив глаза, с клекотанием в горле – они пели друг перед другом, как две птицы.
Старик был озадачен, словно он только сейчас увидел Карабека. Он склонил голову на бок и даже временно умолк с полуоткрытым ртом. Карабек тоже замолчал. Но тотчас же юродивый, набрав в себя новую порцию воздуха, хватил такую высокую ноту, что Азам взвизгнул и шерсть его снова ощетинилась. Однако Карабек не отставал. При каждом вопле почтенного старца он принимался вторить ему в меру своих могучих легких…
При всей комичности картины, я придумывал способ прекратить этот концерт. Дикий угол мира, куда мы забрались, метель за дверью, этот вой, беспокойная беготня собаки, искры, летящие из костра, – все это легко можно было бы принять за бред сумасшедшего…
Но старик не выдержал первый. Он встал и сердито замахнулся своей палкой.
– Ай, ит‑ала‑каз, собака, пестрый гусь! Проклятый человек‑шайтан, а‑а‑а…
Бормоча и пританцовывая в своих чулках по снегу, он скрылся.
– Думал меня перепеть, – спокойно сказал Карабек сплевывая, – ничтожный человек, ослиный желудок. Асай‑Мсай. Палка Моисея… Вот что, начальник, он ругался, что мы ввели собаку в кибитку. Это нехорошо. «Термез» называют киргизы двери, – значит, «собака не войдет». Теперь старик