Сергей Курфюрстов
Дом Кошкина. Маша Бланк
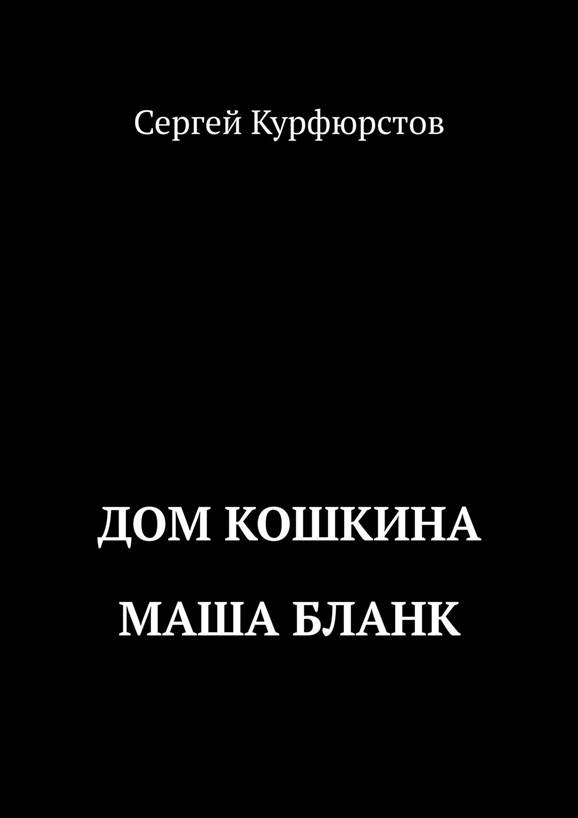
https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21618546&lfrom=159481197
ISBN 9785448330858
Аннотация
«Пусть даже смерти тень нависнет надо мной – не устрашусь. Пойду до самого конца!» Первые месяцы немецкой оккупации. Евреям города приказано явиться на регистрацию, якобы для отправки на работы в Германию. Коля Волынчук, четырнадцатилетний подросток, встречает среди отъезжающих школьную подругу, однако в суматохе теряет ее. Уверенный в том, что их повезут на вокзал, он тайком забирается в машину. Но полные обреченных людей грузовики повернули совсем не туда…
Дом Кошкина. Маша Бланк
Сергей Курфюрстов
© Сергей Курфюрстов, 2019
ISBN 978‑5‑4483‑3085‑8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава первая
По прошествии десятков лет многие происходившие в моей жизни события перестали выглядеть такими уж важными и значимыми, какими они казались мне в свое время. Некоторые и вовсе стерлись из памяти, прихватив с собой имена и лица замешанных в них людей. И только произошедшее со мной детстве до мельчайших подробностей застыло в воображении ярким, полностью завершенным и не требующим дополнений коллективным портретом, каждый персонаж которого навсегда остался именно таким, каким он был тогда. В день, когда меня решили убить…
– Не колдуйте, чародеи, стрелка всё равно быстрее не побежит, – усмехнулась бабушка Генки Свиридова, выставляя две пустые глиняные крынки на застеленный истертой клеенкой стол.
Упершись подбородком в сложенные на столе руки, я, не отрываясь, наблюдал, как равномерно, оборот за оборотом, секундная стрелка будильника двигает стрелку минутную, приближая долгожданные пять утра. Генка, не двигаясь, сидит на стуле рядом со мной, и только его глаза медленно сопровождают циферблатную странницу в её бесконечном путешествии по кругу. Десять минут, и комендантский час окончится.
– Баба Галя, а немцы точно разрешили молоко выдавать? – недоверчиво переспросил я.
– Так соседка донесла. Сказала, в городской управе секцию социального обеспечения учредили. Теперь по субботам детям и беременным женщинам полагается по литру молока. Вы – дети, – значит, вам положено, – уверенно ответила она.
– А откуда молоко? – поинтересовался Генка.
– Из сел привозят. Для столовых. Лишнее в конце недели начинает прокисать, вот его людям и отдают. Халява. Евреи так раньше говорили.
– А почему – халява? – не унимался Генка.
– Так евреи еще при царе детям молоко бесплатно раздавали. Кричали у синагоги: – «Халяв! Халяв!». А это и есть молоко. На их еврейском языке, – пояснила баба Галя и, грустно вздохнув, добавила. – А потом пришла Советская власть, церкви позакрывали, синагогу тоже, – и всё! – халява закончилась…
– А молоко, бабуль, тоже кислое было?
– Как раз нет. Евреи ж для своих привозили. А не как немцы, – что не съели, не выпили, – нам отдают, – нахмурившись, недовольно пробурчала баба Галя в ответ.
Будильник, наконец, зазвенел и, схватив со стола пустые крынки, мы понеслись к продуктовому в надежде разжиться молоком, с которым бабушка Генки обещала сделать вкуснейшие оладьи. И баба Галя оказалась права.
У магазина, заехав на тротуар почти вплотную к витрине, стоял грузовик, целиком заполненный большими сорокалитровыми бидонами. Левый борт был опущен, и двое полицаев, – первый, подавая их сверху, а второй, принимая на земле, – неторопливо разгружались. Еще один человек, забравшись в кузов, внимательно разглядывал собравшихся женщин с детьми, с нетерпением ожидавших начала раздачи. Наконец он громко кашлянул, поправил приколотую к пиджаку желто‑голубую ленточку и, подняв правую руку вверх, громко заговорил.
– Дорогие женщины! Позвольте представиться! Я ваш новый городской голова. Что хочу я вам сказать? За тот месяц с небольшим, как девятого июля сего тысяча девятьсот сорок первого года победоносная германская армия освободила нас от кровавого большевистского режима, мы, истинные украинцы, учредили в нашем городе новую украинскую гражданскую администрацию. Какова ее цель, спросите вы? А она предельно проста! Мы дадим всем украинцам национальную свободу и благополучную жизнь! Одним из последних достижений в этом направлении стало учреждение секции социального обеспечения. Выплата пенсий, помощь малоимущим, охрана материнства, – всё это уже не за горами. Благодаря усилиям налогового отдела, проводится регулярный сбор молока. Каждый честный селянин, – владелец коровы, – сдает по сорок литров в месяц. И это молоко для вас, дорогие мои гражданочки! Еще совсем немного, и мы наладим сбор и выдачу масла, а также других жизненно важных продуктов питания. Однако, администрация города и Великий Германский Рейх также вправе рассчитывать на вашу самоотдачу. Помните! Своим трудом вы приближаете победу над большевистской заразой. Будьте честными, добросовестными и послушными. И учите этому ваших детей! За ними наше будущее.
Явно радуясь тому, что речь была совсем недолгой, женщины дружно захлопали, а увидев, как новый городской голова подал знак начинать раздачу, тотчас сбились в кучу и, толкаясь, беспокойно загалдели.
– Гражданки! Прошу не толпиться и соблюдать очередь! Смотрите за детьми! Литр в руки! – кричала толстая молочница в белом фартуке и с чепчиком на голове, делавшими ее похожей на раздатчицу блюд в общественной столовой. Хотя ей она, наверное, и была. Умело орудуя полулитровым половником, она зачерпывала молоко из бидона и ловким движением переливала его в крынки и бидончики теснящихся вокруг нее горожанок, не забывая при этом следить, чтоб никто не протянул их дважды. Благодаря ее сноровке очередь продвигалась живо, и никто не скандалил.
– Не давайте ей молока! – раздался писклявый женский голос. – Она жидовка! Гоните прочь!
Толпа на секунду затихла, и отовсюду высунулись головы любопытных, жаждущих свои глазами разглядеть, к кому же относятся слова столь «бдительной» гражданки.
– Да‑да! Жидовка! Точно знаю! И муж ее в Красной армии комиссаром служит, – уверенно повторила старуха‑селянка, тыча пальцем в сторону молодой беременной девушки, густо покрасневшей от неожиданно пристального к ней внимания.
Девушка была довольно высокой: – в глаза бросалась издалека. Верно, она об этом знала, и потому совсем смутилась.
– Мне же совсем немного. Для ребеночка, – чуть не плача от обиды, оправдывалась она, указывая на небольшой острый животик, упиравшийся в ее узкое короткое платье, подтягивая выцветший подол вверх, отчего оно, – платье, – казалось еще короче.
Молочница спрятала черпак за спину и, обращаясь к девушке, мягко, но все же решительно произнесла:
– Простите, милочка. Не положено. Распоряжение администрации. Если узнают, что мы евреям молоко отпускаем, – паспорта заставят проверять. А так, хоть кому‑нибудь из «ваших» достанется. Не повезло вам сегодня. Уходите. Прошу вас.
– Да что вы за люди такие! Она же беременная! – крикнула какая‑то женщина с маленьким ребенком на руках. Еще двое детей чуть старше, обняв ноги матери, стояли рядом, вытирая зашмыганные носы об ее длинную крестьянскую юбку.
– Вот ты ей свое молоко и отдай! – огрызнулась неугомонная старуха и, ткнув девушку клюкой в живот, завизжала в сторону стоявшего в кузове машины полицая. – Полиция, куда смотрит полиция! Гоните жидовку прочь!
Ухмыльнувшись, полицай спрыгнул с машины, подошел вплотную к девушке и, ухватив за длинную косу, грубо швырнул бедняжку наземь. При падении и без того короткое платье еще выше задралось, ноги оголились совершенно, а шершавым асфальтом стертые в кровь девичьи коленки мгновенно покрылись ярко‑красными ссадинами.
Упершись руками в землю и слегка приподнявшись, она обвела насильника затравленно‑тоскливым взглядом, не выражавшим абсолютно никакого страха, но лишь безграничное удивление непуганого человека, которого не только ни разу в жизни не били, но и обидное слово при нем никогда не было произнесено. Удивление было настолько велико, что она даже не заплакала, – видимо, отказываясь верить своим глазам и напрочь отрицая реальность происходящего.
Придерживая левой рукой живот, девушка неуклюже попыталась встать, но вновь была опрокинута на землю пинком второго полицая, к ногам которого откатился выпавший из ее рук небольшой оцинкованный бидончик. С размаха ударив по нему ногой и отбросив метров на двадцать по улице, предатель указал пальцем вслед и злобно зарычал:
– Фас, жидовка, фас!
Беспомощная растерянность уныньем овладела ее душой, а осознание неспособности противостоять совершаемому над ней насилию равно, как и повлиять на безразличие толпы, довели до горького отчаяния. Она была слишком слаба против этой грубой физической силы, и ее слабость не вызвала почти ни у кого даже обыкновенного сострадания. Никто не смог или не захотел заступиться за нее. Она вскочила и побежала прочь, рыдая от жестокой обиды и несправедливого унижения. Мне было жаль ее, но сделать я не мог ничего.
Полицай выпрямился, расправил плечи и победной походкой прошелся вдоль казавшейся равнодушной толпы.
– Эх, попалась бы она мне в другом месте… а то, на улице несподручно, – вызвав у некоторых одобрительные ухмылки, бахвалился он.
Отстояв, наконец, очередь и получив положенное молоко, мы с Генкой свернули на обозванную теперь улицей Адольфа Гитлера бывшую Большую Бердичевскую и направились к нему домой, мысленно представляя горячие оладушки бабы Гали. У палатки, где до войны торговали живой рыбой, краем глаза я заметил женщину, возле которой крутились трое ее детей. Осторожно, чтобы не пролить, она переливала молоко из своей крынки в бидончик беременной девушки. Той, которую так унизительно изгнали из очереди.
«Хоть одна добрая женщина нашлась, – подумал я и пристыженно отвел глаза, – а ведь я тоже мог так поступить!». Но они были уже далеко, а мы вышли на центральную площадь.
Было довольно рано, около семи. Людей на площади почти нет, и только два полицая скучают неподалеку, не зная, чем себя занять и к кому придраться.
– Эй, малые. Давайте‑ка сюда! – крикнул один из них, жестом подзывая к себе.
Я знал его. Молодой головотяп и халамыдник, вечно задиравший всех, кто слабее его. Околачиваясь у нашей школы, он сшибал мелочь у малышни и без разбора отвешивал тумаки налево и направо. Его даже чуть было не посадили, но внезапно начавшаяся война уберегла от тюрьмы. Ему было лет восемнадцать или около того. Высокий и худой. Презрительно поднятая вверх губа обнажала редкие, гнилые зубы. Казалось, две спички могли уместиться между них. Хотя, может, и одна.
Второму лет за сорок. Маленький и щуплый, с усеянным мелкими морщинами невыразительным лицом крепко алкающего человека. Если бы не тоненькие ухоженные усики, при повторной встрече я бы вряд ли его узнал.
– Что там у тебя? – грубо рявкнул молодой и, не дожидаясь ответа, выхватил крынку из рук Генки. – Ого! Молочко? Сейчас попробуем.
После нескольких жадных глотков, последний из которых он так и не смог завершить, полицай замер, и его лицо приняло выражение человека, только что усевшегося на новенький, специально заточенный для такой пакости острый гвоздь. Молоко, сбрызгиваясь во все стороны, выплеснулось изо рта, и он рассержено завопил:
– Оно прокисшее! Ты почему не сказал?
– А нечего чужое молоко пробовать, – поучительным тоном заметил Генка и, хотя его глаза были спрятаны за очками, я все же сумел разглядеть сотню сверкающих наглостью смешинок.
Полицай брезгливо швырнул глиняную крынку наземь, та разбилась, и молоком жирно залило его недавно начищенные сапоги. Совершенно от этого рассвирепев, матерясь и размахивая кулаками, он в ярости бросился на нас.
Присев, Генка ловко увернулся и отскочил. Второй удар пришелся по мне. Теряя равновесие и все же крепко прижимая крынку к груди, я отшатнулся, но устоял. Губа, лопнув изнутри, мгновенно распухла и уперлась в зубы. Пинок в живот опрокинул меня на асфальт, и выплеснувшееся молоко, заливая лицо и глаза, потекло в рот, где, смешавшись с кровью из разбитой губы, приобрело муторный кисло‑кровавый привкус; крынка выкатилась из рук. Я лежал на земле, ничего не видел и только чувствовал телом, как удар за ударом тупая боль проникает мне в ребра.
«За что? Черт, за что? Я лежу сейчас здесь, на земле, посреди огромной площади. Меня бьют ногами два полицая, также как двое других чуть раньше избивали молодую еврейку. Никто за нее не вступился. Никто не спасет и меня. Значит, я такой же, как она? Случайно выбранная жертва. Причина не важна? Важно лишь показать свою силу и власть. Унизить всех, и пусть боятся. Если ты слаб – умри! Сопротивляешься? Погибни!».
Удары неожиданно прекратились одновременно с раздавшимся глухим звуком похожим на треск расколовшейся глиняной кружки. Я сумел разомкнуть слипшиеся ресницы и сквозь молочную пелену увидал, как молодой полицай прижимает к разбитой голове руку, сквозь пальцы которой тонкими струйками просачивалась кровь.
Генка подскочил ко мне, рывком за шиворот помог подняться и коротко скомандовал:
– Бежим!
– Давай вниз, к Каменке! Через Малёванку уйдем! – крикнул я на бегу.
«Почему у них нет оружия? – вертелось в голове. – Еще не выдали? Или не положено? Как же повезло, что у них нечем стрелять! Да какая разница! Главное добежать до спуска с Замковой горы, а оттуда вниз, к реке. Дальше они не пойдут».
Мы неслись, перепрыгивая через сваленные на земле деревянные столбы и обегая аккуратно свернутые бухты колючей проволоки. Столбы и колючка лежали равномерно по длине всей улицы, и было очевидно, что привезли их сюда неспроста.
«Но зачем? – думал я, преодолевая очередной барьер. – Что немцы собираются строить? Для чего эти столбы и проволока? Кого хотят запереть? Ладно. Потом. Первым делом – удрать».
Наконец‑то спуск. Крут и извилист. Сходу сбежать – вряд ли удастся. Бывали смельчаки, но зачастую это заканчивалось сломанными руками или ногами, а то и разбитой головой. Присев на краю обрыва и за спиной упершись ладонями в землю, мы вытянули ноги вперед и, быстро ими перебирая, начали свой сорокаметровый спуск.
Мелкие камешки больно врезались в ладони, поднятая шарканьем ног сухая пыль заполняла глаза, нос и, вызывая нервное подергивание, скрипела на зубах; пропитавшаяся молоком сорочка накрепко прилипла к груди. Теперь главное не сорваться и не покатиться кувырком вниз. Главное не сорваться… Ещё десять метров… пять… ну, наконец‑то! Я оглянулся и посмотрел вверх. Никто нас больше не преследовал. Сняв обувь и заскочив на выложенные поперек реки камни, перепрыгивая с одного на другой, мы добрались до другого берега, и оттуда, босыми пятками по мокрой траве, добежали до моста на Подол. Только там можно было остановиться и перевести дух.
Скинув уже задубевшую от молока сорочку и простирнув ее в реке, я лег на мягкую, влажную от росы траву и уставился в утреннее, еще не жаркое небо. Генка, жуя соломинку, присел рядом и о чем‑то задумался.
– Что у него с головой стряслось? Откуда кровь? – повернувшись к Генке, спросил я.
– Ты ничего не видел? – удивленно спросил он.
– Нет. Глаза открыть не мог. Молоком залило.
– Ну вот, – вздохнул Генка, – такое пропустил! Видел бы ты его харю, когда я его по башке крынкой долбанул. Будто черствый пончик в одно место запихнули.
– А, так это ты его…
– А кто еще? – Генка обиженно отвернулся и сплюнул на траву, – тебя ногами топтали. Что оставалось? Убежать?
– Спасибо, Генка, – благодарно улыбнувшись, я слегка пожал его плечо.
«Хорошо, что есть такой друг, как Генка. Поддержит. Заступится. А у девушки из очереди такого наверняка нет. Муж, как сказала старая ведьма, на фронте, и защитить ее некому».
Мысли о ней не покидали меня. Неожиданно возникшее чувство солидарности не позволяло дольше оставаться равнодушным к ее судьбе, поскольку и моя собственная вдруг оказалась сопричастной. Сегодня и с ней, и со мной обошлись несправедливо. Сегодня ее и меня избили, унизив ни за что. Кто‑то решил воспользоваться безнаказанностью, в поисках жертвы ткнул пальцем в небо – и жребий пал на нас. Так нас с Генкой еще и ограбили, уничтожив молоко и лишив еды! Хотя ее, конечно, тоже. Не важно, что по другой причине. Результат один. Как же хочется отомстить! Насолить, напакостить, сделать что‑нибудь эдакое гадкое, чтобы всё, что они творят, возвернулось с лихвой. Представился бы такой случай – было бы здорово…
– Искупаемся? – предложил я.
– Не знаю, – ответил он, – честно говоря, мне не очень хорошо.
Я прикоснулся ко лбу Генки и точно: он совсем был горячим.
– Да ты, брат, заболел, – сочувствуя, произнес я, – давай‑ка домой, а то твоя бабушка, верно, испереживалась.
Баба Галя, услышав о нашем неудачном походе за молоком, еще долгое время, ругаясь, посылала всевозможные проклятья на головы бессердечных полицаев, а под конец пообещала сходить к знакомой гадалке, чтоб та на них порчу навела. Затем, подуставши, махнула рукой, сказала: «Бесы они. Черт им судья», и пошла на кухню валерьяны в стакан накапать. Генка лежал в постели и, прижав мокрое полотенце ко лбу, постанывал в такт праведному бабушкиному возмущению.
Что ж… молоко не донесли, оладий не поели, придется домой голодным топать. Распрощавшись с Генкой и его бабушкой, я пообещал назавтра взять у матери горчичники и отправился домой, размышляя о том, что будет, если мы снова нарвемся на этих двух полицаев. Думаю, не поздоровится. Теперь придется площадь аккуратно обходить. Хотя, не вечно же им там торчать. А вдруг это именно их патрульный пост? И если все‑таки поймают? Не убьют же! Но изобьют – это точно. А может, в полицейский участок заберут да там добавят. И не пожалуешься никому. Все сами боятся. Эх, скорее бы Красная Армия разбила этих проклятых немцев. Под Киевом, говорят, наши крепко их бьют. Ничего, добьют. Обязательно добьют. Немцам Киев никогда не взять! А оттуда прямая дорога к нам. Сто километров с небольшим. А что такое сто километров для Красной Армии? Пустяк! Вот тогда‑то мы всем этим гадам и предъявим. За все ответят! Когда наши вернутся, я даже участковому Кошкину буду рад, – хоть он, и сволочь! Но если он нас от немцев и полицаев избавит, я все ему прощу. Так и скажу: «За освобождение нашего города заслужили вы, товарищ Кошкин, низкий поклон и мое личное прощение». Да. Именно так я ему и скажу.
Глава вторая
Ненавижу август! Липкая, противная, дурманящая до головокружения сто раз несносная жара! Сейчас бы спуститься с Замковой горы вниз, к Каменке, запрыгнуть на выложенные поперек узенькой речушки валуны, пробежаться по ним до середины и оттуда плюхнуться бомбой прямо в холодную воду. Черт с ними, с пиявками. Всю кровь все равно не выпьют.
Но сначала горчичники. Генке. Сумел ведь простудиться в такую жару… Нащупав за пазухой тонкую пачку, я свернул в переулок и неожиданно оказался посреди огромной, что‑то вполголоса обсуждающей толпы почему‑то довольно тепло и не по сезону одетых людей с чемоданами в руках. Толпа доходила до конца бывшего Милицейского переулка, названного так в честь находившегося там до войны районного отделения милиции, в кабинетах которого теперь заседали полицаи. Прежние «аншлаги»[1]с нумерацией домов и названием переулка с фасадов зданий немцы сняли сразу, а другие так и не повесили. Наверное, название еще не придумали. «Хотя, что тут думать? Был Милицейский переулок, а раз теперь там полицаи – значит, будет Полицайский», – усмехнулся я, довольный собственной догадкой.
– Здравствуй, Волынчук!
– Здравствуйте, Борис Аронович!
Наш учитель математики. Глянь! – в новёхоньком костюме! Ни разу в таком его не видел. И жена с ним рядом. В красивом выходном платье… огромные красные бусы, видные за километр… и даже волосы на бигуди наверняка еще с вечера накрутила. Вырядились, как на концерт, – ей Богу!
А может, и вправду музыкальное мероприятие намечается? Баян в чехле стоит на тротуаре. А вот еще один. Мальчик, лет семи, стоит в сторонке, прижимая к груди футляр со скрипкой, будто бы это его самая большая ценность и взрослые наконец‑то доверили ему ее охранять. Он стоит, не двигаясь и абсолютно не реагируя на свою младшую сестру, девочку лет трех, истово, но безуспешно норовящую извлечь из кармана его коротких штанишек нечто, видимо, для нее весьма желанное. Она пыхтит, сопит и капризничает, левой рукой пытаясь вытолкать это «что‑то» наружу, а правой хоть как‑то зацепиться за него. Для этого ей приходится подниматься все время на цыпочки, – что еще больше ее раздражает, – и я уже отчетливо слышу сквозь низкий и глухой рокот переговаривающейся толпы ее настойчивое хныканье:
– Ябака, дай ябака!
Мимо меня, поддерживая под руки пожилую женщину, прошли двое невероятно похожих друг на друга молодых парней.
– Не волнуйтесь, мама. Нас же не в Сибирь отправляют. Мы с Яшей, как только прибудем на место, сразу же вам напишем. Почта, говорят, работает уже очень хорошо. У немцев с этим пребольшой порядок. Они даже новые почтовые марки выпустили, и Яша их немедленно купил.
Спохватившись, женщина резко остановилась и, посмотрев на второго сына, вскрикнула:
– Ой, Яша, а марки? Марки ты не забыл?
Он нежно погладил мать по руке и, ласково заглянув в глаза, мягким голосом успокоил:
– И марки с конвертами; и чернила; и запасные перья; и, конечно же, бумагу, – все взял, ничего не забыл!
Они продолжили свой путь, и какое‑то время я все еще слышал ее встревоженно‑жалобный голос:
– И все‑таки несправедливо. Что из того, что я русская, а муж еврей? Я же мать! Пусть русская, – но мать! Почему мне не позволяют ехать вместе с сыновьями? Был бы жив ваш отец, он бы непременно добился, чтобы нас отправили вместе…
Ага! Значит, все эти люди куда‑то едут! И ясно, что не в Сибирь. Но куда? Я, конечно, знаю, что от любопытства дохнут кошки, – но я же не из‑за любопытства! Я из‑за любознательности! Да и заболевшему Генке будет что рассказать…
Помогая себе локтями, я протиснулся к полицейскому участку, из которого прямо на улицу вынесли два стола с пишущими машинками. Писари, нажимая на клавиши, приводили в действие литерные рычаги, те громко отстукивали имена и фамилии проходящих регистрацию людей и замолкали лишь для того, чтоб на секунду уступить место визгливому скрежету сдвигаемой в начало строки давно заезженной каретки.
К каждому столу была прикреплена деревянная табличка, на одной из которых черной краской было написано «Раб», а на другой, – шрифтом поменьше, – «Служ. Ижд». Полицай с важным видом мерил шагами расстояние между столами и покрикивал в рупор:
– Повторяю! Подходим с паспортами! У кого в графе «социальное происхождение» значится «рабочий», – идем к столу с табличкой «Раб». Служащие и иждивенцы ко второму.
– Папа, нам к первому столику.
Голос, знакомый голос. Я обернулся и, конечно же… это она! Маша Бланк. Самая красивая девочка в нашем классе! Нет, ну что я говорю? Во всей школе! Или даже… во всех школах, вместе взятых! Высокий лоб и слегка удлиненный нос, казалось, составляли одну ровную и непрерывную линию, делая ее похожей на изваянья греческих богинь с картинок из учебника истории. Расчесанные на пробор волнистые русые волосы, собранные сзади в клубок, как это обычно делают уже взрослые женщины, и всегда спокойный, скульптурно замерший взгляд еще больше закрепляли это сходство.
А еще у нее был талант, каким не мог похвастаться никто. Даже из мальчишек. Она могла языком достать до кончика носа! Шевелить ушами и громко свистеть каждый дурак может, но языком коснуться собственного носа? Нет, для этого определенно нужен талант! На вопрос, как ей это удается, Маша «якобы скромно» себе воображала: «Думаю, этому способствует мой классический греческий профиль. Папа говорит, как у Персефоны». Не знаю, кто такая Персефона[2], и в какой школе учится, но Маша наверняка красивее.
– Здравствуй, Коля, – она улыбнулась мне своими летними веснушками, и ее лицо вновь стало живым и настоящим.
– Привет… а куда это вы едете? – выпалил я уже минут десять мучивший меня вопрос.
– Ты не читал объявления? Они два дня по городу расклеены. Всем евреям приказано зарегистрироваться в местных полицейских участках. Для распределения на работы. Некоторых в Германию везут. Уже машин десять на вокзал отправили.
– На вокзал? А ты? Ты тоже уедешь?
– Не знаю. Мы еще не прошли регистрацию. Но надеюсь, что нет, – Маша наклонилась к моему уху и, прикрыв ладошкой рот, тихонько добавила, – я заметила, на вокзал отправляют только тех, кто прошел регистрацию у второго столика. Служащих с семьями и иждивенцев. А рабочим велели собираться у старой тюрьмы. На Чудновской улице.
– Так, так, так, молодые люди. Простите, что невольно подслушал ваш разговор. И хоть я, конечно же, сделал это не нарочно, но, тем не менее, хочу отдать должное вашей, Машенька, наблюдательности. Вы, также, как и я, довольно ловко подметили, что на вокзал отправляют только представителей интеллигенции.
Обернувшись, мы увидели нашего учителя истории и большого любителя шахмат Максимилиана Соломоновича. Он хитро подмигнул, будто демонстрируя, что все происходящее его ужасно забавляет, затем слегка приподнял шляпу, раскланялся по‑старомодному и, заложив руки за спину, продолжил свой неспешный променад. Судя по его беззаботному виду, «променад» было самое подходящее слово.
– Машенька, очередь подходит. Простите, юноша. Нам нужно идти, – отец взял ее за руку, мать прощально улыбнулась, и они направились к столику регистрации с табличкой «Раб».
Миллионы мыслей взорвались в моей голове:
«В Германию! Они уезжают в Германию! Навсегда! И я больше никогда ее не увижу. А может все‑таки оставят? Подождать и узнать? Обязательно важно подождать и узнать! А вдруг повезут? Проводить? Забраться тайком в машину, прибыть на вокзал и там проводить их на поезд? В последний раз помахать на прощание? А может, даже… поцеловать? В щечку. Вдруг согласится? Ведь мы же расстаемся навсегда! Да! Я поступлю именно так! Но… ах, черт! Горчичники! Нужно отнести эти проклятые горчичники!».
Я рванул в соседний переулок, добежал до дома бабы Гали и, взлетев на второй этаж, нетерпеливо забарабанил в дверь.
– Баба Галя! Это я! Коля! Откройте! Я горчичники от матери принес! Для Генки! Спите все, что ли?
Нет ответа. Где же она? Неужели не дома? Я продолжал колотить еще какое‑то, казавшееся нескончаемым время, и наконец, тихий голос бабы Гали донесся из‑за двери.
– Тише, Коленька. Тише. Гена спит. Сейчас открою.
Я слышу, как ключ медленно и туго проворачивается в замке. Один оборот… лязг щеколды… скрежет цепочки… ну, наконец‑то!
Дверь приоткрылась, и на пороге появилась бабушка Генки. Не дав сказать ни единого слова, я впихнул ей в руку пачку горчичников и, буркнув: «вот, держите; я побежал», стремглав помчался вниз с этажа.
– Куда летишь, Коля? Гена тебя все утро ждал. Не зайдешь, что ли?
– Потом, баба Галя, потом! Там евреев в Германию отправляют! И Машу Бланк тоже! Я после приду и все расскажу, – прокричал я, прыгая вниз по ступенькам и распугивая спавших на них котов.
Выскочив на улицу, уже через несколько минут я вновь оказался у полицейского участка. Людей стало меньше. В надежде увидеть Машу я безудержно завертел головой, но ни ее, ни ее родителей нигде не было видно. Где же она? Неужели уехали?
Я огляделся. В начале переулка два закрытых грузовика медленно выворачивали на Подольскую. В третью машину, помогая друг другу, все еще забирались люди. Может быть она там, в машине? С почти физической болью глухая непомерная тоска сдавила разгоряченное сердце, остановила кровь, и лишь одна‑единственная мысль, безоговорочно завладевая всеми импульсами и движениями тела, все еще билась в цепенеющем мозгу: – «Найти Машу!». Я рванул к машине, смешался с людьми и уже через несколько секунд запрыгнул внутрь.
Усевшись на пол, я уперся в чужую спину. Борт машины поднялся, с лязгом закрылись засовы, края брезента опустились и грузовик, дернувшись, медленно начал движение. После солнечного света глаза еще не привыкли к темноте и, лица людей были едва различимы.
– Маша, – тихо позвал я, – Маша, ты здесь?
– Я – Маша, – кто‑то откликнулся из темноты.
Нет! Не она! Другой голос… Неужели ее здесь нет?!
– Я ищу Машу Бланк, – уточнил я.
– Может, она в другой машине, – отозвались за спиной, – перед нами еще две были.
– Не переживай, мальчик. Мы все едем в одно место. На вокзал. Там вы и встретитесь, – какая‑то женщина сочувственно пыталась меня успокоить.
«Хорошо. На вокзал, так на вокзал. Наверняка, Маша будет уже там».
Я представил, как она удивится, неожиданно встретив меня на вокзале. Может, даже оценит то, как я ловко пробрался в грузовик в самый последний момент перед отправкой. Не может, а наверняка! Она будет с восхищением смотреть на меня своими хитрющими глазищами и скажет, что я самый отчаянный мальчик во всей нашей школе и жаль только, что мы расстаемся навсегда.
«Ерунда», – возражу я ей и посмотрю так, чтобы она сразу поняла, будто бы я знаю больше, чем говорю. А потом по секрету скажу, что Красная Армия уже к ноябрю, заранее спланированным наступлением, отбросит немцев за границы нашей Родины. Пусть там, в Польше, сидят себе и раны зализывают. Вот тут товарищ Сталин и поставит Гитлеру ультиматум: «Советское правительство и весь советский народ решительно и ультимативно требуют вернуть всех советских граждан на Родину». А если не согласится, то мы за наших граждан и до Берлина дойдем! И не будет больше никакой Германии! А что будет? А будет, Маша, Германская Советская Социалистическая Республика! Так что и полгода не пройдет, как домой собираться будете.
От этих мыслей мне стало хорошо и спокойно и на какое‑то короткое мгновение мне даже показалось, что я уснул.
Грузовик остановился, и снаружи послышались злые окрики вперемежку с лаем собак.
– Все выпрыгиваем из машины! Быстро! Дезинфекция! Вещи и одежду кладем в сторону! Снимать с себя все! Деньги и ценные вещи складываем в ведра!
Спрыгнув с машины, я увидел, что мы находимся в лесу. В обычном сосновом лесу, какими густо поросло все украинское Полесье. Если зайти в такой лес и пойти строго на север, то через семь, максимум десять дней, можно выйти где‑нибудь в Белоруссии, не встретив по пути ни единого человека. Так, во всяком случае, говорил наш учитель географии. Но почему в лесу? Где вокзал? Зачем нас сюда привезли? Может, все происходящее это часть какого‑то запланированного обмана? Десятки из ниоткуда появившихся и выстроившихся в ряд немецких солдат с собаками. Такие же десятки бегающих вокруг и бешено орущих полицаев. Что здесь должно произойти? И что нам делать? Подчиниться? Протестовать? Как? Разве зверь, застрявший лапой в капкане, может протестовать против того, кто его туда загнал? Значит все, что осталось – это просто смириться? Как же глупы эти люди! Как же глуп я сам! Так слепо поверить в такой очевидный обман! И только я виноват в своей собственной глупости!
Люди вокруг меня неуверенно, оглядываясь по сторонам, начали раздеваться. Матери помогали своим маленьким детям. Те почему‑то молчали и совершенно не капризничали. Наверное, они думали, что это какая‑то новая игра, правила которой им еще не объяснили и правильность того, что они делают, подтверждается тем, что такие же группы, но уже совершенно голых взрослых людей с детьми находились неподалеку между аккуратно сложенных на чемоданах вещей. Из глубины леса донеслись выстрелы. Сначала непрерывные и бесконечные, затем вперемежку с одиночными, потом только одиночные. Почему‑то совсем не было птиц. Будто бы они давно улетели, напуганные шумом непрерывной стрельбы. Или может немцы устроили какую‑то дикую, непонятно зачем и кому нужную охоту на всех пернатых леса? А может, они не улетели вовсе, и это стреляют именно по ним? Что это? Какая‑то массовая птичья бойня? Но тогда зачем мы здесь?
Я огляделся по сторонам. Из глубины леса, оттуда, где прежде были слышны выстрелы, на поляне появились около двух десятков полицаев. Они подошли к нам, и мы оказались между ними с одной стороны и немцами с другой.
– Вперед, собаки! Двигаемся к лесу! Вперед! Еще живей! Вещи не трогать! Заберете позже! Вперед!
Крики полицаев слышались со всех сторон. Один схватил меня за руку и с силой вытолкнул вперед. Сосновые шишки и сухие иголки невыносимо‑острой болью впились в мои босые пятки. Стараясь запомнить, где остались ботинки и одежда, я остановился и оглянулся назад, но тут же получил за это оплеуху. При ударе нарукавная повязка полицая соскочила на локоть, и я заметил, что надпись на ней уже едва видна: – залита кровью.
Куда нас ведут? Откуда кровь? Может, они перестреляли в лесу всех птиц и теперь хотят, чтобы мы их зачем‑то собрали? Может, они их едят? Генка рассказывал, французы едят лягушек. Так может эти немцы едят лесных птиц? Армия у них большая, вот и запасаются. А ботинки? Одежда? Зачем велели снять одежду? А! Я понял! Не хотят, чтоб мы ее запачкали! Вот бы мне от матери досталось, если бы я вещи кровью измарал.
Метров через пятьсот нас вывели к недавно выкопанной яме, содержимое которой не было видно из‑за длинного насыпного холма, отделявшего нас от нее. Я был почти в самом конце этой вереницы голых людей.
– Лезем на насыпь, собаки! Живей, жидовня! Живей! – кричали полицаи.
Колонна изогнулась, и люди начали подниматься на холм. Они двигались медленно, и их босые пятки глубоко погружались в свежевырытую землю, будто бы ее только что обильно полили водой. Я видел, как их белые ноги краснеют от человеческой крови и, покрываясь вязким чернозёмом, сливаются в единое целое с красно‑белыми повязками с черной свастикой на рукавах немецких солдат. Да, это была кровь. В тот момент я это осознал.
Приблизившись к яме, одна из девушек, шедших впереди колонны, оторопело попятилась, резко развернулась и стремглав понеслась назад. Высокая, крепкая, заметная издалека. Несчастная бежала мимо ошеломленно притихших людей, ловко просачиваясь сквозь них и так же ловко уворачиваясь от рук полицаев, пытавшихся схватить ее за длинную толстую косу, конец которой она крепко прижимала к своей обнаженной груди. Другой рукой, будто боясь его потерять, она поддерживала маленький, но уже начавший заметно расти острый животик, совершенно не мешавший ей бежать быстро. Она мчалась, сверкая еще не покрывшимися корочкой ярко‑красными ссадинами, так неприглядно уродовавшими ее нежные колени, и в ужасе кричала: «Я туда не пойду! Нет! Я туда не пойду!».
Ее поймали в конце колонны. Прямо возле меня. Змейка обреченных закончилась, и бежать ей было больше некуда. Она остановилась; будто отгораживаясь от всего мира, обмотала косу вокруг головы и глаз и, прижимая ее руками к лицу, тихо заплакала. Теперь я точно ее узнал.
Немецкий офицер, молча наблюдавший за ее бесполезной попыткой убежать, резким марширующим шагом направился в сторону девушки, на ходу расстегивая кобуру пистолета. Он подошел к ней вплотную, не сгибая руки, поднял пистолет прямо перед моим носом и выстрелил.
Кровь залила мне глаза. Кусочки рванной плоти облепили тело. Я ничего не видел и только чувствовал, как теплые струи текут по лицу, шее, всему моему телу, достигая самих ног. Стрельба, крики людей, лай собак вдруг перестали различаться между собой и превратились в один густой и однородный шум падающей с высоты воды.
«Меня здесь нет! Я далеко! Стою на плотине! А это… это происходит не со мной!», – воплем сдавливалось сознание.
Вода без остановки продолжала падать все с тем же монотонным и протяжным гулом. В ее густой толще я едва различил размытый силуэт, смутно похожий на человеческий. Он протягивал руки и что‑то говорил. Что именно? Понять было невозможно. Его ладони были вс<