Полина Викторовна Дашкова
Точка невозврата (сборник)

https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=602435&lfrom=159481197
«Точка невозврата / Полина Дашкова»: АСТ Астрель; Москва; 2010
ISBN 978‑5‑17‑069776‑2, 978‑5‑271‑30317‑3
Аннотация
«Я не знаю, где кончается придуманный сюжет и начинается жизнь. Вопрос этот для меня мучителен. Никогда не сумею на него ответить, но постоянно ищу ответ.
Когда я писала трилогию „Источник счастья“, мне пришлось погрузиться в таинственный мир исторических фальсификаций. Попытка отличить мифы от реальности обернулась фантастическим путешествием во времени.
Документально‑приключенческая повесть „Точка невозврата“ представляет собой путевые заметки. Все приведенные в ней документы подлинные, я ничего не придумала, я просто изменила угол зрения на общеизвестные события и факты.
В сборник также вошли четыре маленьких рассказа и один большой. Все они обо мне, о моей жизни. Впрочем, за достоверность не ручаюсь, поскольку не знаю, где кончается придуманный сюжет и начинается жизнь».
Полина Дашкова
Точка невозврата
Лешенька
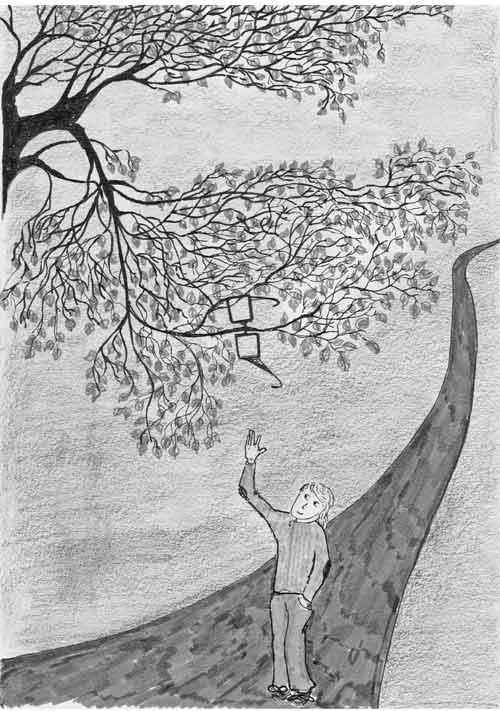
«Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом». (Св. апостол Павел, Первое послание к Коринфянам)
Хирург В. Л., как обещал, позвонил мне в девять утра и сказал: «Ваш больной очнулся, настроение бодрое, улыбается, передает вам привет. Отдыхайте, постарайтесь выспаться». Я пролепетала слова благодарности и впервые за десять суток крепко уснула. Операция длилась восемь часов, но прошла благополучно. Наркоз «мой больной» перенес легко. Пока он в реанимации, к нему все равно не пустят, так что сегодня в клинику ехать не нужно. Я закрыла глаза и увидела «моего больного» совершенно здоровым. В институтской аудитории он сидел через ряд от меня, впереди, и вертелся, чувствовал мой взгляд. Я спрашивала себя: ну что ты на него уставилась? Он вовсе не в твоем вкусе. У тебя есть мужественный взрослый жених, а этот – мальчишка, ребенок. Он повернулся, поправил очки, сверкнул на меня глазом. Щеки его пылали. Я равнодушно подумала: ну вот, зачем мальчику такие роскошные золотые волосы, голубые глаза, нежный девичий румянец? Ему следовало бы родиться девочкой. Наверное, от него будут рождаться очень красивые девочки.
Просвеченная солнцем аудитория, пляска пылинок внутри толстых пологих световых столбов, быстрый поворот золотой лохматой головы, розовый абрис щеки, коричневая дужка очков, большие круглые заплаты на локтях изношенного свитера, – все это уже тогда, почти тридцать лет назад, стало воспоминанием, причем не моим, а нашим с ним общим. И две наши девочки, и долгие годы неразлучной жизни уже существовали в прошлом или в будущем. Не важно.
Наши поезда, самолеты, вертолеты, бесчисленные города, леса, моря, океаны, в которых он упорно учил меня плавать, – все вдруг взметнулось со дна моей души, закрутилось мгновенным радужным вихрем и улеглось на место, притаилось, оставив легкий озоновый запах.
В наше первое лето в тамбуре поезда Тюмень – Тобольск он спел мне песню «С одесского кичмана сбежали два уркана». Кажется, именно тогда мы впервые поцеловались. В Тобольске в гостинице нас поселили в разных номерах: его – в мужском, меня – в женском. Мы решили – как вернемся в Москву, срочно обзаведемся штампами в паспортах, чтобы впредь это безобразие не повторялось.
Мы терпеть не могли ритуалов. Сбежали с собственной свадьбы. После регистрации всего пару часов посидели за столом и отправились на вокзал, сели в поезд, укатили в далекий южный город. Уже взрослые, мы тихо удирали с разных торжественных мероприятий, с фильмов, концертов и спектаклей, которые нам не нравились. Мы были легки на подъем, бесконечно много ходили пешком по Москве, Питеру, Нью‑Йорку, Парижу, Венеции, Праге. Мы забредали в глубь непроходимой тайги под Ханты Мансийском и видели медведя‑людоеда. Мы встречали Новый год в студенческом забастовочном штабе в Братиславе в радостные дни «бархатной революции». Мы купались в Атлантическом океане на Брайтон‑Бич, носились на мотоцикле по горному серпантину греческих островов, спускались в сталактитовые пещеры, летали на парашюте, привязанном к катеру, над Средиземным морем.
Я давно догадывалась, что прошлое – хорошо забытое будущее, а всякое новое знание есть воспоминание. Потом мне это подтвердили люди, весьма осведомленные – Платон, Блаженный Августин, Альберт Эйнштейн. Пространство не трехмерно, а время не линейно. Пространство может искривляться, время то и дело меняет темп и движется в разных направлениях. Прошлое живет в памяти, будущее – в воображении. Разница невелика.
Почти сразу после звонка хирурга я открыла глаза и вскочила. Нечто серое, размером не больше теннисного мяча, пронеслось надо мной. Странный шорох, сухой, пульсирующий, и дрожь воздуха – вот все, что я успела запомнить. Это был воробей. Он влетел в открытое окно спальни, ударился о зеркало, прочертил быстрые зигзаги под потолком, словно оставил какие‑то ритуальные знаки, и вылетел прочь.
Я не верю приметам. Зачем они нужны? Мне и так уж все сказали врачи. Опухоль четвертой степени, метастазы. Впрочем, врачам я тоже не верю.
«Мой больной» лежал в проводах и трубках, как компьютер, к которому много всего подсоединили. Мой Лешенька смотрел на меня, улыбался и рассказывал, что в операционной и в реанимации потрясающе интересно. Похоже на путешествие в будущее или на голливудскую фантастику. Ему нельзя было ни пить, ни есть, но это мешало ему значительно меньше, чем невозможность жестикулировать. Рассказывая о чем‑то, Лешенька размахивал руками так, что сшибал свои очки. Они бились, ломались, терялись, в конце концов он перестал их носить, и зрение его как‑то само собой выправилось. Он водил машину по московским пробкам, по десяткам незнакомых городов, читал при тусклом свете самый мелкий шрифт, монтировал свои фильмы и отлично обходился без очков просто потому, что ему надоело каждый раз заказывать новые.
Я с самого начала попросила врачей не сообщать моему мужу подробности диагноза, размер опухоли, количество метастазов, и о воробье, залетевшем в спальню, я, разумеется, не сказала ни слова. Лешенька, в отличие от меня, верил врачам и приметам. Я убеждала его, что врачи вылечат, и придумывала приметы, которые это подтверждали. Я знала, что его болезнь они лечить не умеют, но верила, что он выздоровеет, просто потому, что ему надоест болеть.
Хирург С. Ю., который оперировал Лешеньку, зашел в палату, осмотрел его, весело поболтал с ним, потом увел меня в ординаторскую и очень подробно рассказал, какие органы и насколько сильно поражены метастазами.
«Там не осталось живого места. Этот вид опухолевых клеток самый агрессивный. Они растут очень быстро. Если вам нужно поплакать, не сдерживайтесь. Лучше здесь, чем там у него, в палате».
Я ответила, что плакать предпочитаю в одиночестве, дома в ванной. И вообще не собираюсь сдаваться.
«Хорошо», – сказал хирург и принялся рассказывать мне чудесные истории о том, как выживали самые безнадежные онкологические больные вопреки всем медицинским прогнозам.
После операции Лешенька поднялся на ноги удивительно скоро. Мы ходили по маленькой палате, со штативом капельницы, нам не хватало рук, чтобы держать все дополнительные склянки и пакеты, которыми он был обвешан. Но количество их с каждым днем убывало. Мы гуляли по коридору, наконец вышли в больничный парк.
Стояла волшебная золотая осень, теплая, сухая. Под ногами шуршали кленовые листья. Над головой сияло чистое, без единого облака, небо. Я говорила, что через год мы непременно приедем сюда, в Измайлово, и будем вспоминать эти наши послеоперационные прогулки, больницу, хирургов В. Л. и С. Ю. Они отлично сделали свое дело, спасибо им.
«С. Ю. я вспоминать не буду, – сердито проворчал Лешенька, – он к тебе откровенно клеится. Ты с ним часа два болтала в ординаторской».
Впервые за долгую жизнь я обрадовалась, что Лешенька меня ревнует. Раньше это пугало и раздражало. Он ревновал меня ко всему на свете, не только к людям, но и к вещам. Я должна была всегда носить колечки и сережки, которые он мне дарил, пить кофе из чашек, которые он для меня покупал, подробно рассказывать ему обо всех своих выступлениях, встречах с читателями, поездках, прочитанных книгах. Если какой‑нибудь фильм или спектакль я смотрела без него, он обижался совершенно по‑детски. Он ревновал меня даже к моим вымышленным героям. «Ты рядом, но тебя как будто нет, ты думаешь только о них, я слышу, как они там у тебя в голове ходят, разговаривают, кашляют, смеются и плачут».
Когда мы ждали первого ребенка, он вдруг заявил: «Ты будешь любить его больше, чем меня, и как же мне тогда жить?» Я решила, что он шутит. Но нет, это оказалось вполне серьезно. И дурацкая детская присказка «Вот я стану старый, толстый, лысый, и ты меня разлюбишь» тоже была вовсе не шуткой.
Во время одной из наших прогулок по больничному парку он сказал: «Мы жили слишком счастливо. Теперь за это приходится расплачиваться».
Я спросила: «С кем расплачиваться?» Он ответил: «Не знаю».
Хорошо заживали швы. Поднимался гемоглобин и лейкоциты. Были чистые легкие и здоровое сердце. Химиотерапевт сказал мне, что надежды нет, но есть шанс: молодой возраст и сильный резерв организма. В любом случае, такого больного нельзя оставлять без лечения. В отличие от хирургов, этот доктор мне не понравился. Азарт и амбиции никак не вязались с его трагической специальностью. Про себя я назвала его «доктор А. А.».
У нас не осталось ни времени, ни выбора. Когда обнаружили опухоль, она была такая огромная, что без операции Лешенька мог погибнуть в течение нескольких суток от кишечной непроходимости. Операция спровоцировала бурный рост метастазов, а их и так уж было полно. Следовало срочно начинать курс химиотерапии.
У медсестры, которая вкатила в палату штатив с капельницами, были так густо накрашены ресницы, что светло‑серые глаза казались белыми. В большой банке покачивалась прозрачная, совершенно безобидная на вид жидкость. Лешенька старательно сжимал и разжимал кулак, чтобы вздулись вены.
За мгновение до того, как в вену вошла игла, я шагнула к сестре, отстранила ее профессиональную руку, обняла Лешеньку и прошептала:
– Пойдем отсюда.
– Конечно, Малышонок, поехали домой, – ответил он и принялся искать в тумбочке коробку конфет, чтобы подсластить недоумение белоглазой сестры.
Мы вышли в золотое осеннее утро. Мы сбежали. Я видела, как два силуэта, его и мой, растворились в солнечном свете на повороте аллеи больничного парка. Мы продолжали существовать, но в другом измерении. Пространство искривилось, вернее, скривилось в страдальческой гримасе. Все, что происходило здесь и сейчас, не могло быть реальностью, потому что здесь и сейчас присутствовала смерть, а в реальности ее нет. Как положено фантому, она окружает себя разнообразными ритуалами. Ритуалы завораживают.
Игла вошла в Лешенькину вену. Прозрачная жидкость потекла по трубке. Я не шевельнулась, не сказала ни слова. Я поступила разумно. Мой муж лежал в одной из лучших московских клиник, проходил курс интенсивной химиотерапии. Он был образцовым пациентом, смиренным, терпеливым и доверчивым. Я была образцовой женой пациента. Свежие овощные соки, супчики в термосах – для него. Конверты с крупными купюрами – для врачей. Шоколадные наборы и мелкие купюры без конвертов – для сестер.
После второго курса размеры и количество метастазов увеличились еще больше. Доктор А. А. сказал, что это значительно ухудшает прогноз, однако третий курс необходим, поскольку такого больного нельзя оставлять без лечения. Это не гуманно.
Перед третьим курсом нам дали короткую передышку. Невозможно было представить, что с того страшного дня, когда обнаружили опухоль, прошло всего лишь два месяца. За такой короткий срок мой муж не похудел – он растаял, от него ничего не осталось, как будто плоть его до костей обглодали пираньи. Вместо лица образовалась желто‑серая маска скорби, словно злая колдунья превратила Лешеньку в кого‑то другого. Мне хотелось стянуть маску и потихоньку сжечь, как сжег Иван‑царевич лягушачью шкурку своей заколдованной суженой.
Мы все – он, дети, я – чувствовали себя персонажами жуткой сказки. Наши жесты, реплики, диалоги, монологи подчинялись законам какой‑то чужой и, кажется, очень древней драматургии.
Я пыталась поймать ускользающий взгляд доктора А. А., спрашивала, уверен ли он, что третья химия нужна, если от первых двух стало только хуже? Он возмутился. Оставлять такого больного без медицинской помощи негуманно, бесчеловечно. Я подумала, что вот, появилось новое выразительное словечко в ритуальном течении наших с А. А. диалогов. Бесчеловечно.
Кроме доктора А. А. были, разумеется, другие. Пожилой светила, лучший специалист по Лешенькиному диагнозу, заявил, что лечат моего мужа неправильно. Они его убивают. Он так и сказал, вернее, воскликнул и добавил уже спокойно, сочувственно: этот вид опухолевых клеток не поддается воздействию химии. Печень вся в метастазах, она не справляется с химическим ядом и разрушается еще стремительней. Все яды остаются в организме. Я спросила: что же делать? Он ответил: срочно перекладывать из той клиники в нашу, в реанимацию, дома держать нельзя, до третьей химии он просто не доживет.
Я соединила его по телефону с доктором А. А. После пятиминутной беседы светило назвал А. А. игроком и мальчишкой. Между ними произошел неприятный конфликт. Потом, в очередном диалоге со мной, А. А. назвал светилу отсталым ретроградом и напомнил мне о шансе, который дает нам резерв молодого организма. Для шутки это было слишком жестоко.
Две недели Лешенька оставался дома. Он почти не мог есть, с трудом передвигался, но нам удавалось гулять и даже ходить в ближайшее кафе. По утрам он старательно делал гимнастику, пил свежие соки, травяные чаи, аккуратно принимал разные чудодейственные биодобавки. Баночками и коробочками была уставлена вся кухня. Я закупала эти пилюли в огромном количестве. Продавцы‑консультанты твердили, что нужно увеличивать дозы, звонили и предупреждали, что в следующем месяце не будет поставок препарата, настоятельно советовали закупить сразу на полгода вперед, ибо лечение нельзя прерывать, рассказывали страшные истории, как кто‑то пожалел денег, а потом уж было поздно.
Их голоса звучали сочувственно, ласково. К некоторым мы даже ездили, и Лешенька проходил всякие интересные альтернативные диагностики. Ему щупали пульс, заглядывали в глаза, к нему подсоединяли какие‑то устройства, и на экране компьютера возникали разноцветные органы, испещренные загадочными знаками. Он слушал комментарии и советы очень серьезно, завел специальный блокнот, записывал туда расписание приема пилюль.
Я была благодарна продавцам‑консультантам больше, чем дипломированным докторам. Доктора уже похоронили моего мужа. Продавцы консультанты обещали, что он выживет. Но главное – их пилюли были безвредны, в отличие от химии.
Лешенька беспрекословно верил и тем, и другим, твердил, что третий курс непременно поможет и отказываться нельзя ни в коем случае. Я не спорила. Доктор А. А. стал для него непререкаемым авторитетом. Почти каждый вечер, закрывшись в кабинете с телефоном, я тихо умоляла доктора хотя бы продлить передышку. А. А. сурово объяснял мне, что о передышке не может быть и речи. Даже думать об этом бесчеловечно. Пока остается шанс, нужно бороться.
О сильном резерве молодого организма доктор больше не упоминал. От организма ничего не осталось, все его системы разладились, всякое естественное отправление превратилось в пытку. Лешенька мужественно терпел, он готов был терпеть все, лишь бы выздороветь.
Я советовалась с разными специалистами, как облегчить очередное страдание. Гематологи, урологи, проктологи, эндокринологи, терапевты говорили примерно одно и то же. Нужны такие‑то процедуры и такие‑то лекарства, но ничего этого нельзя. У процедур и лекарств есть побочные эффекты, которые сразу убьют моего мужа.
Каждый специалист считал своим долгом напомнить: «Вы же понимаете, он обречен». Каждый давал подробное научное объяснение пытки. Из объяснения следовало, что причиной страданий была не болезнь, а химиотерапия. Но все равно необходимо продолжать, проводить третий курс. Иных способов лечения медицина пока не придумала. Да, третий курс не поможет. Вообще ничего не поможет. Все бесполезно.
Доктора искренне удивлялись, когда я просила не произносить этого при Лешеньке. Он же взрослый человек, неужели сам не понимает?
Нет. Он не понимал. Он старательно, изо всех сил лечился. Я на ходу училась смягчать боль и облегчать невыносимые симптомы при помощи всяких народных домашних средств, травяных отваров, настоек, мазей. Лешенька был уверен, что через пару месяцев начнет съемку очередного фильма, полетит в Краков, потом в Нью‑Йорк. Осталось потерпеть немного, вот пройдем третью химию, отдохнем и станем жить дальше. Само слово «химия» звучало так, словно речь шла о школьном предмете. Надо хорошо подготовиться и сдать экзамен на «отлично».
Опять мы отправились по ненавистному маршруту, к девяти утра, натощак. Больничный парк облетел, стало холодно, моросил мелкий ноябрьский дождь. В Москве началась эпидемия гриппа. В клинике объявили карантин. Доктор А. А. милостиво распорядился, чтобы охрана пропускала меня в любое время, каждый день. Перед началом курса Лешеньке влили все необходимое, чтобы поднять до приемлемой нормы показатели крови.
Я спрашивала доктора, абсолютно ли он уверен, что поступает правильно? У нас осталось совсем мало времени, болезнь сама по себе мучительна, однако она все‑таки милосердней лечения. Об этом говорят дипломированные врачи, это черным по белому написано во всех учебниках и справочниках.
Доктор обиделся: «Почему вы так плохо обо мне думаете? Неужели я кажусь вам таким легкомысленным и амбициозным человеком? Или вы считаете, что я иду на это ради денег? Нет! Я верю, у нас есть шанс остановить рост метастазов. Курс будет самый интенсивный, по новейшей методике».
Мне стало неловко, что я обидела благородного доктора, который искренне хочет нам помочь. Я попросила прощения. Слово «шанс» само по себе звучало волшебно. Никто из дипломированных докторов не давал нам ни единого шанса. Только А. А.
У Лешеньки почернели и скрутились спиральками вены обеих рук. Но белоглазая сестра была мастерицей своего дела, она всегда находила местечко, куда ввести иглу. В маленькой палате стояла невыносимая духота, но окно открывать не разрешалось из опасения простудить больного. Лешенька не мог спать от духоты и от боли. Боль никак не была связана с метастазами. Болели руки, изуродованные тромбофлебитом. Болел кишечник, сожженный интенсивным курсом. Болела кожа, она слезала клочьями и кровоточила.
«Я больше не могу, я хочу домой», – говорил Лешенька.
«Нельзя прерывать курс, ни в коем случае», – объяснял А. А.
«Если Леша вечером не берет трубку, мне страшно, что он уже в реанимации и я его больше никогда не увижу», – жаловалась я доктору.
«Успокойтесь, – снисходительно улыбнулся доктор, – в нашем отделении нет реанимации. Когда станет совсем плохо, мы его вам отдадим».
В подземном туннеле, соединявшем больничные корпуса, я часто встречала странное существо. Шарик на ножках. Совершенно круглая, раздутая женщина прогуливалась по туннелю. Лысую голову прикрывала косынка в цветочек. Лицо было бледно‑серое, отечное, без бровей и ресниц, но с темными усами и бородкой. Я знала, что для посторонних глаз мой Лешенька, истощенный, желтый, выглядит не менее чудовищно. Мой муж, и эта незнакомая женщина, и другие обитатели отделения химиотерапии напоминали персонажей с полотен Босха.
Волоча по кафельному туннелю сумку с термосами, бутылками, банками, я вдруг отчетливо поняла: невозможно вылечить человека, так уродуя и унижая живую плоть. Конечно, это другая реальность, подмена, имитация реальности.
Я входила в маленькую душную палату, целовала желто‑серую маску, натягивала чистые шерстяные носки на распухшие ледяные ноги. Приходилось разрезать резинки носков, иначе они не налезали. Лешенька был такой холодный, что у меня стыли губы и пальцы. Я поднимала его и упрямо повторяла про себя: «Все равно спасу, вытащу, отмолю». Мы чистили зубы, умывались. Нас неотлучно сопровождал штатив капельницы. Каждая ложка каши, каждый глоток овощного сока становились нашей победой. Если не было тошноты после еды, мы считали себя триумфаторами.
Рано утром в день выписки Лешенька позвонил и сказал: «Меня не отпускают. Слишком плохие анализы. Забери меня отсюда, я больше не могу».
Через час я была в клинике. Через три часа мне все‑таки отдали моего мужа, но с условием, что мы будем регулярно вызывать на дом медсестру, сдавать анализ крови, отправлять результаты доктору А. А. по электронной почте и через десять дней вернемся на четвертую химию.
Когда мы вышли за ворота клиники, я знала совершенно точно: больше мы сюда не вернемся. В пасмурном ноябрьском свете не так заметна была страшная желтизна. Шапка, шарф, воротник куртки делали его облик почти прежним, в машине мы болтали о чем‑то, что не имело отношения к болезни, к больнице, и стало казаться, что мы сбежали, ускользнули, возвращаемся в свой мир. Все страшное закончилось, мы живы, теперь нужно только выздороветь.
Мне было удивительно легко поверить в это. Тяжесть и абсолютную безнадежность диагноза я скрывала не только от Лешеньки, но и от наших детей, от близких друзей, от знакомых, вообще от всех, кого это волновало. Себе самой я врала точно так же, как другим, иначе я бы не выдержала.
Дома каждая минута была подчинена строгому расписанию приема пилюль, отваров, настоек. Опять мы делали гимнастику, гуляли, ходили в ближайшее кафе. Лешенька просматривал отснятый материал своего нового фильма.
Уже через несколько дней ушла боль, перестала слезать кожа, появился аппетит, невероятно улучшились показатели крови. Я аккуратно отправляла результаты анализов доктору А. А. Он ждал нас на четвертую химию.
У нас была давняя привычка рассказывать друг другу свои сны. Лешеньке снилось, что он участвует в каких‑то соревнованиях. Добежит и выздоровеет. Попадет в цель и выздоровеет. Перепрыгнет препятствие и выздоровеет. Сны почему‑то всегда прерывались в самый важный момент. Он не успевал узнать, удалось ли добежать, попасть в цель, перепрыгнуть препятствие.
Я спала урывками, вскакивала при малейшем шуме, боялась, что он встанет и упадет, что начнется тошнота и он захлебнется. Мне снился один и тот же кошмар. Гигантская розовая свиноматка в черном кружевном белье восседает на глинистом холме. Существа, отдаленно похожие на людей, маленькие, серенькие, иссохшие, ползут вверх, скользят по глине, тянут руки. Свиноматка спокойно и деловито сжирает каждого, кто приближается к ней. Они не замечают этого, она кажется им божеством, такая розовая, мягкая, величественная. Они упрямо ползут, оттесняют друг друга, покрываются слоями глины. Среди них мой Лешенька. Я пытаюсь остановить его, но не могу. Свиноматка смотрит на меня сверху вниз, надменно и насмешливо. У нее маленькие, водянистые глазки, густо обведенные бирюзовыми тенями. На голове пышный белокурый парик.
Я не рассказывала Лешеньке этот сон, придумывала для него другие сны, смешные, яркие, счастливые. Самой себе я повторяла: «Свиноматка – образ опухоли. На самом деле ее нет. Опухоль вырезали. Что же это?»
Я не чувствовала усталости, но однажды с удивлением обнаружила, что с меня сваливаются джинсы и обручальное кольцо соскальзывает с пальца.
«Ты не спишь, не ешь, только мной занимаешься, из‑за меня не можешь работать. Тебе скоро это надоест», – говорил Лешенька.
Я терялась, не знала, что ответить. Мне становилось страшно, когда он так говорил. Я чувствовала рядом с нами постоянное чужое присутствие. Нечто ледяное, зловонное, наглое влезло в нашу жизнь. Уже не во сне, наяву, я видела свиное рыло, водянистые глазки. Оно никак не походило на общепринятый образ смерти, на скелет с косой. Оно было свиноподобным человеком или человекообразной свиньей, вполне упитанной, весомой, зримой. Оно копало огород, выращивало овощи и смотрело сериалы по телевизору. Оно распространяло вокруг себя удушливый зловонный дым обыденности, смертной скуки, прогорклого сала, водочного перегара, повседневного унылого предательства, тошных домашних склок, тлена, окончательного вечного небытия.
У того, кто подышит этим дымом, возникают галлюцинации. Потустороннее свиное хрюканье воспринимается как собственный внутренний голос, который твердит: никто никого не любит, все друг другу врут и завидуют. Жри, пей, ни в чем себе не отказывай. Кто смел, тот и съел, кто не успел, тот опоздал, за все надо платить. Ты состаришься, сдохнешь, тебя съедят черви, и ничего не останется.
Нужен очень сильный духовный иммунитет, чтобы не обмануться, не принять злобный бред за абсолютную истину. У кого‑то сильный иммунитет, у кого‑то слабый. Не знаю, с чем это связано.
Небытие умеет создавать свою реальность. Она кажется вполне убедительной. Серые денечки, бессонница и ночные кошмары. Одиночество. Неизлечимые болезни, катастрофы, несчастные случаи. Все бессмысленно и безнадежно. От всех прочих многообразных реальностей эта отличается лишь тем, что в ней нельзя жить.
«Я стану старым, толстым, лысым, ты меня разлюбишь. Мы жили слишком счастливо, теперь приходится за это расплачиваться. Из‑за меня ты не можешь работать, тебе скоро надоест».
Задолго до опухоли в нем, здоровом, красивом, талантливом, стало что‑то происходить, меняться, незаметно, глубоко внутри. Чуть‑чуть потускнел взгляд, потяжелела походка, сжались губы, появилась какая‑то сумрачная тревога, настороженность, панический страх старости, отвращение к своему телу, недоверие ко мне, к детям, к самому себе. Он делал великолепные фильмы и уныло спрашивал: «Кому это нужно?» Какие‑то телевизионные продюсеры, знатоки общественных вкусов и рейтингов говорили ему, что это скучно, и он верил. Множество обычных живых людей восхищались фильмами, он не то чтобы не верил, а просто не слышал. Дети и я повторяли, что он самый талантливый, красивый, любимый. Не слышал.
Еще до опухоли он незаметно для нас и для самого себя ускользнул в иллюзорную реальность и заблудился там. Я была уверена, что выберется. В незнакомых и самых запутанных местностях он всегда находил дорогу, даже без карты.
Природа рака до сих пор остается загадкой. Во всех тканях организма каждый день появляются безумные, произвольно делящиеся клетки. Но есть сложная, мудрая система защиты внутри организма. Пока она работает, безумные клетки не опасны. Но если система защиты блокируется, они неудержимо размножаются, образуют опухоль. Она вырабатывает особый белок, который вызывает рост сосудов, и притягивает к себе все соки организма, по кровеносному руслу распространяет свое безумие на всю систему. Так возникают метастазы.
Опухолевые клетки живут только ради самих себя. Им все безразлично. Их цель – жрать, делиться, создавать свои бесчисленные копии. Их суть – абсолютный, ледяной эгоизм. У них нет индивидуальности и клеточной памяти. Это дает им возможность выживать, когда гибнут их мирные разумные собратья. Развитие раковой опухоли происходит в точном соответствии с теорией Дарвина. Естественный отбор. Выживают сильнейшие.
Методы лечения под стать болезни, также жестоки и загадочны. Средневековые врачи лечили рак мазями и пилюлями из человеческих испражнений. До сих пор это практикуется в так называемой альтернативной медицине.
Дипломированные онкологи, оснащенные современной сложнейшей техникой, действуют жестко и решительно. Жгут рентгеном, травят гормонами и химией. Уничтожать опухолевые клетки таким способом все равно что бомбить город, в котором повысилась преступность, вместе со всеми домами и жителями. Понятно, что у бандитов больше шансов отсидеться в убежищах, чем у обычных законопослушных граждан. Выживает сильнейший, жаднейший, хитрейший. Вот логика иллюзорной реальности.
Я прочитала море разнообразных текстов о раке. Я читала и думала: «Все это весьма любопытно, поучительно, однако при чем здесь мой Лешенька? Он так старательно, терпеливо лечится, выполняет предписания врачей и продавцов‑консультантов, готов лечь и на четвертую химию, если на этом будет настаивать доктор А. А.».
Улучшение оказалось последней короткой передышкой. Желтуха нарастала вместе со слабостью и постоянной мучительной тошнотой. Когда пришел результат очередного анализа крови, мне пришлось закрыться в ванной, чтобы выплакаться хоть немножко, иначе слезы бы задушили меня.
Позвонил разгневанный А. А. «Почему вы не присылаете мне результаты анализов?» Я спросила: «Зачем?» Он ответил: «Ну, мне же интересно. При такой локализации метастазов химиотерапию стали применять совсем недавно, я хочу понаблюдать динамику». Я сказала: «Бог вам судья», – и повесила трубку.
Лешенька уже не мог ходить самостоятельно, но смириться с этим не желал, вставал, шел, падал. Я поднимала. С каждым разом это было все трудней. Он говорил: «Не сумеешь. Надорвешься». Я молилась про себя, а вслух повторяла: «Ничего, ты легкий, мы поднимемся, что бы ни случилось, мы все равно поднимемся».
Я перестала звонить врачам, мне надоело слышать, что мой муж обречен, остались считаные дни и ничего нельзя сделать.
«Позвони всем врачам, спроси, почему я так слабею!» – требовал Лешенька.
Однажды мне все‑таки пришлось вызвать «скорую». Отказали почки. Опять я услышала те же опостылевшие речи. Мне предложили госпитализировать его. Я спросила: зачем, если все равно ничего сделать нельзя? Мне ответили: вы не справитесь, это невозможно, у вас тут дети.
Они уехали. Я заварила петрушку в молоке, еще какие‑то травки. Утром почки заработали.
Однажды ночью я проснулась и обнаружила, что Лешенька не дышит. Я стала целовать его и просить: «Дыши, дыши, вернись, пожалуйста».
Он вернулся, открыл глаза, испуганно забормотал: «Малышонок, что это было? Где я был? Ничего не понимаю, не помню. Не отдавай меня туда, там очень страшно».
Это повторялось часто, по несколько раз в сутки. Но мы все равно поднимались, умывались, одевались, даже делали некое подобие утренней гимнастики и завтракали за столом.
Я давно уж не выходила из дома, но близился Новый год. Я отправилась в торговый центр и купила Лешеньке легчайшую, очень теплую куртку на гагачьем пуху, с лисьим воротником. Дети нарядили елку. Впервые за многие годы не было никаких гостей, только телефонные звонки с осторожными поздравлениями и пожеланиями, чтобы все плохое осталось в уходящем году.
Когда забили куранты, мы чокнулись свежим морковным соком. Лешенька сидел за столом, рассматривал свою куртку, гладил лисий воротник, но примерить не сумел. Каждое движение давалось ему с огромным трудом.
Мы уложили его. Больше он не вставал. Его нельзя было оставить одного ни на мгновение, он сразу переставал дышать. Мы с детьми по очереди возвращали его, он открывал глаза и опять был с нами, дышал, разговаривал, жил.
Первого января пришел священник, Лешенька исповедался и причастился. Второго января я вызвала врача, разумного милосердного терапевта, просто чтобы послушал сердце, измерил давление, что‑нибудь посоветовал.
Стрелка тонометра плавно прошла по кругу, не останавливаясь. Врач попробовал еще, и еще раз, молча, выразительно взглянул на меня. Потом, наедине, сообщил: давления нет, сердцебиения нет. Только мозг живет. Я спросила, сколько у нас осталось времени. Он ответил: нисколько. Это может случиться в любую минуту.
Когда врач уехал, Лешенька мрачно произнес: «Объясни мне, что значит вся эта суета? Ты решила отдать меня в больницу? Ты устала и больше не можешь?»
В дверном проеме замаячило знакомое свиное рыло. Водянистые глазки надменно щурились. Свиноматка стояла в прихожей у зеркала, поправляла златокудрый парик, подмазывала веки бирюзовыми тенями.
Я помолилась про себя, а вслух объяснила Лешеньке, что никуда не собираюсь его отдавать и совершенно не устала, он моя радость, мое солнышко, самый любимый, красивый, талантливый и что бы ни случилось, мы поднимемся.
Свиноматка насмешливо хрюкнула и исчезла. Лешенька попросил, чтобы я наклонилась к нему, обнял меня, долго не отпускал, потом вспомнил, что пора принимать очередную порцию биодобавок.
Ничего у него не болело, но он икал и не мог удобно улечься. Мы с детьми выстраивали разные конструкции из подушек, то было слишком высоко, то слишком низко. Мы ставили его любимые фильмы, включали музыку, по очереди читали ему вслух «Повести Белкина». Дети соскребали снег с карниза. Ему нравилось сжимать в кулаке снежок.
Давно настала ночь, мы дышали вместе, возились с подушками, по очереди растирали ледяные распухшие ноги, тонкие, как веточки, руки. Лешенька говорил: «Сделай что‑нибудь, чтобы я мог продышаться, у тебя же все получалось, мы до сих пор справлялись, сейчас сделай что нибудь».
Врач оставил мне набор препаратов, которые снимают судорожную икоту, поддерживают кровообращение и работу сердца, проинструктировал, что, когда и в какой дозировке вводить, но предупредил, что все это в принципе бесполезно. И реанимацию вызывать не нужно.
Я делала инъекции в бедро. Лешенька сказал, что я научилась отлично колоть, он совершенно ничего не чувствует. Стоило мне на секунду выйти из комнаты, дети кричали: «Мама, он не дышит!»
Я неслась назад, и мы начинали дышать. Я знала, это не может продолжаться бесконечно. Дети совершенно измучены, у меня кружится голова и подгибаются коленки от слабости. Я спросила: «Господи, что мы делаем?»
И тут же получила простой, ясный ответ. Мы собираем его в дорогу. Наша любовь и нежность – вот все, что он может взять с собой. Это багаж особого рода. Чем его больше, тем легче путь.
Звук его дыхания изменился, появились булькающие хрипы. Лешенька попросил: «Уберите дым, вся комната в дыму».
Свиноматка нагло, по‑хозяйски, расхаживала по квартире. Она принарядилась, бесформенный торс был обтянут кофтой с розами и люрексом.
«Помолись, Малышонок», – спокойно произнес Лешенька.
Я и так уж молилась. Вслед за мной и за детьми он повторял слова молитвы. Дым рассеялся, остался только в углу, под потолком. Свиноматка зависла там же, жадно зыркала на нас подведенными глазками, насмешливо похрюкивала.
Инъекции не помогали. Хрипы звучали все громче, слышать их было невыносимо. Лешенька попросил вызвать реанимацию. «Мне очень плохо. Ты не справляешься, нужна профессиональная медицинская помощь».
Они приехали очень быстро. В груди у него клокотало, не прекращалась икота. Они сказали, что это агония. Я попросила вколоть что‑нибудь, чтобы как‑то облегчить. «Вы уже вкололи все, что можно», – сказал доктор, разглядывая ампулы на столике у дивана.
Детей и меня вывели из комнаты, закрыли дверь. Один доктор остался с Лешенькой, второй поил нас успокоительными микстурами. В четыре утра они открыли дверь и разрешили зайти.
Передо нами было спокойное, чистое Лешенькино лицо. Я подумала: вот и прошла эта проклятая желтуха. Нет больше страшной чужой маски, нет никакой свиноматки, дым рассеялся окончательно.
С того дня, когда обнаружили опухоль, прошло меньше четырех месяцев, но казалось, прошли долгие годы. Впервые за этот бесконечный срок я позволила себе заплакать при нем, рядом с ним. Слезы оказались жгучими, как кислота. Они выжигали глаза. Я почти ослепла, внешний мир виделся смутно, словно сквозь перевернутый запотевший бинокль.
Примерно через сутки, когда мне удалось уснуть, я почувствовала легкое сухое прикосновение его губ, услышала испуганный шепот:
– Малышонок, объясни, что происходит? Они все говорят, что я умер. Это правда?<