
Через посредство Стокера и Хэнселла,
Грейс-Инн-сквер, 14 [Берневаль-сюр-мер]
[Приблизительно 28 мая 1897 г.]
Мой дорогой друг! Посылаю Вам весточку в знак того, что помню о Вас. Ведь мы пуд соли съели вместе в галерее С. 3, правда? Надеюсь, у Вас все в порядке и Вы устроились на работу.
Послушайте моего совета: не надо больше лезть на рожон. А то дадут такой срок, что закачаетесь. Посылаю 2 фунта просто на счастье. Я и сам сейчас бедный человек, но все же примите это от меня как дружеский привет. Там еще 10 шиллингов — передайте их, пожалуйста, тому маленькому темноглазому парнишке, которого посадили на месяц, кажется, С.4.14. Он отбывал срок с 6 февраля по 6 марта — низенький такой славный паренек, помнится, из Уонтеджа. Уж мы дружили, так дружили. Если знаете, где он, перешлите ему деньги от С. 3. 3.
Я перебрался морем во Францию, и, похоже, жизнь моя налаживается. Во всяком случае, я на это надеюсь. Худо мне пришлось, но в Рединге я приобрел много хороших друзей. Пишите мне на адрес моих адвокатов, указывая на конверте мое имя. Ваш друг
С. 3. 3.
162. ЭДВАРДУ РОУЗУ{270}

Отель де ла Пляж, Берневаль
[Почтовый штемпель — 29 мая 1897 г.]
Дорогой Эдвард Роуз! Друзья, приходившие на свидание со мной, часто говорили мне, что в статьях, под которыми стоит Ваше имя, звучат лестные для меня ноты, признается мое значение как драматурга, и вот я пишу сейчас — впервые после выхода на свободу, — чтобы сказать Вам, какая это радость — знать, что среди тех, кто занимается в Англии эстетикой драмы, есть хоть один человек, помнящий мои произведения и желающий напомнить о них другим. Французы всегда относились ко мне очень тепло, они поставили мою «Саломею» и пишут обо мне как о живом художнике, в то время как англичане отказывали мне даже в том ни к чему не обязывающем признании, какое получают умершие.
|
|
Вам, уверен, будет приятно узнать, что я надеюсь вернуться к литературной деятельности и чувствую, что, хотя я многого лишился, о многом не стоит и жалеть. Я стал еще большим индивидуалистом в области этики, но отчетливо вижу сейчас, что жил жизнью, недостойной художника, с ее нарочитым пристрастием ко всему материальному.
Я восхищен Вашими успехами. Для Вас Ваши лавры, наверное, уже увяли, выгорели на солнце, для меня же они свежи и зелены, поскольку о Ваших победах я узнал только сейчас. На самом деле они не должны увядать и для Вас, поскольку достались Вам в трудном и опасном соревновании: инсценировка требует чутья в выборе произведения для переделки в пьесу, и мои друзья поражаются, с каким мастерством сделаны обе Ваши инсценировки. Мне очень хотелось бы увидеть «Узника Зенды», однако я вынужден был заниматься собственной драмой, ужасной по своим истокам и исходу; но я могу извлеч
убрать рекламу
ь из нее — а может быть, уже извлек — нечто глубоко важное для моей жизни и творчества.
Во Франции я нашел восхитительное убежище, приняли меня с симпатией, даже, могу сказать, радушно. Эта страна стала матерью для всех современных художников, она всегда утешает, а порой и исцеляет своих строптивых сыновей. Чтобы избежать любопытствующих взоров и злых языков, я взял забавный псевдоним «Себастьян Мельмот», поэтому, если Вы когда-нибудь захотите черкнуть мне строчку о своей работе, присылайте на это имя. Вам оно, вероятно, покажется еще более курьезным, чем мне. «Мельмот» — название довольно необычного романа моего двоюродного деда Мэтьюрина, который заворожил Гете и les jeunes romantiques[60] и которому Бальзак дал собственную прелестную концовку. Сейчас эта книга уже потухший вулкан, но я выйду из его кратера, подобно Эмпедоклу, если боги окажут милость отвергнувшему их.
|
|
Прошу Вас, хотя в том и не сомневаюсь, хранить в тайне мое имя и адрес. Пишу, чтобы хоть так вернуть столь почетный для меня долг. Искренне Ваш
Оскар Уайльд
163. РОБЕРТУ РОССУ{271}

Отель де ла Пляж, Берневаль-сюр-мер
[29–30 мая 1897 г.]
Мой дорогой Робби! Письмо твое восхитительно, но неужели ты не понимаешь, милый мой, как правильно я поступил, написав в «Кроникл»? Всем добрым побуждениям надо поддаваться. Если бы я всегда слушался моих друзей, я за всю жизнь не написал бы ни строчки.
Посылаю Мэссингэму дополнение — довольно важное; если он его опубликует, перешли мне этот номер.
Еще я спросил его, интересуют ли его другие мои тюремные впечатления и собирается ли он войти в синдикат. Теперь я думаю, что, судя по тому, каким длинным получилось мое письмо, я мог бы написать три статьи о тюремной жизни. Там, конечно, будет много психологии, много моего внутреннего мира; а одну можно будет озаглавить «Христос как предшественник романтического движения в жизни» — эта соблазнительная тема открылась мне, когда я оказался среди нищих и отверженных, то есть такой публики, какую Христос больше всего жаловал.
Бози ужасает меня. Мор пишет, что он фактически дал обо мне интервью! Это непостижимо. Вероятно, не желая причинить мне боль, Мор не прислал мне эту газету — в результате я провел мучительную ночь.
|
|
Он не успокоится, пока не погубит меня. Заклинаю Вас, убедите его не делать этого во второй раз. Письма его ко мне возмутительны.
Пришло письмо от моей жены. Там вложены фотографии детей — два прелестных мальчика в отложных воротничках, — но она не предлагает мне встретиться с ними; она пишет, что дважды в год будет видеться со мной сама, но мне нужны прежде всего дети. Какое жестокое наказание, милый мой Робби, и — увы — как я его заслуживаю! Но оно заставляет меня чувствовать себя презренным грешником, а этого я вовсе не хочу. Регулярно присылай мне «Кроникл». И почаще пиши. Одиночество идет мне на пользу. Я работаю. Всегда твой
Оскар
164. ЛОРДУ АЛЬФРЕДУ ДУГЛАСУ{272}

Отель де ла Пляж, Берневаль-сюр-мер
[? 2 июня 1897 г.]
Дорогой мой мальчик! Если ты будешь возвращать мне мои прекрасные письма, сопровождая их письмами, полными желчи, ты так никогда и не запомнишь мой адрес. Он написан выше.
О Люнье-По я, разумеется, не знаю ничего — только то, что он чрезвычайно красив и по натуре настоящий актер. Ведь человеческая натура прекрасно обходится без разума; она черпает силу в самой себе и часто бывает столь же великолепно неразумна, как все могучие явления природы, — к примеру, молния, то и дело сверкавшая прошлой ночью над сонным морем, которое раскинулось перед моим окном.
Постановка «Саломеи» склонила чашу весов в мою пользу — я имею в виду отношение ко мне в связи с моим тюремным заключением; я глубоко признателен всем, кто принял в ней участие. С другой стороны, я не могу отдать свою новую пьесу за бесценок, поскольку я совершенно не представляю себе, на что буду жить начиная с осени, если в ближайшее время не получу денег. Я попал в очень тяжелое и опасное положение: меня уверяли, что меня ждет некая сумма, но на поверку оказалось, что никаких денег и в помине нет. Это был жестокий удар — ведь я, разумеется, начал жить так, как полагается жить литератору, то есть с гостиной, книгами и прочим. Я не могу помыслить об ином образе жизни, если я собираюсь писать; если нет — тогда, конечно, дело другое.
Итак, если Люнье-По не имеет возможности мне заплатить, то я, разумеется, буду считать себя свободным от каких-либо обязательств перед ним. Но пьеса, о которой идет речь, — пьеса религиозная по сюжету и по его трактовке — отнюдь не предназначена для включения в репертуар. Наибольшее, на что я могу рассчитывать, это три спектакля. Я добиваюсь только своего возвращения как художника, своей сценической реабилитации — и не в Лондоне, а именно в Париже. Это мой долг и моя дань уважения великой столице искусств.
Если пьесу возьмет кто-нибудь другой, располагающий деньгами, и разрешит Люнье-По в ней сыграть, я буду вполне доволен. Как бы то ни было, я ничем не связан, и, что еще важнее, пьеса пока не написана! Я все никак не управлюсь с самыми необходимыми письмами, где пытаюсь поблагодарить тех, кто был ко мне добр.
Что касается «Журналь», я с удовольствием что-нибудь для них написал бы; буду стараться получать эту газету регулярно. Подписываться на нее через редакцию я не хочу, поскольку мне важно хранить мой адрес в секрете. Пожалуй, лучше сделать это в Дьеппе, откуда я получаю «Эко де Пари».
Мне говорили, что «Жур» напечатал некую фальшивку — подобие интервью с тобой. Это весьма огорчительно для меня и, без сомнения, в такой же степени для тебя. Надеюсь, однако, что дуэль, на которую ты намекаешь, вызвана другой причиной. Во Франции только начни драться на дуэлях, так им конца не будет, а это ведь морока. Уповаю на то, что тебя всегда защитит общепризнанное право английского джентльмена на уклонение от дуэли, — разумеется, если речь не идет о ссоре личного характера или публичном оскорблении. И не вздумай драться на дуэли из-за меня — это было бы ужасно и произвело бы на всех крайне неприятное впечатление.
Как можно больше пиши мне о своем и чужом творчестве. Куда лучше встречаться на двойной вершине Парнаса, чем где-нибудь еще. Я с большим интересом и удовольствием прочел твои стихи; и все же я по-прежнему считаю высшим твоим достижением то, что ты написал два с половиной года назад — баллады и, местами, пьесу. Я понимаю, что после этого слишком многое побуждало тебя высказываться непосредственно, но теперь, я надеюсь, ты начнешь возвращаться к формам, более удаленным от реальных событий и страстей. Ведь, как я писал в «Замыслах», объективная форма дает гораздо больше возможностей быть субъективным, чем любая другая. Если бы меня спросили, что я думаю о себе как о драматурге, я бы ответил, что своеобразие мое заключается в том, что я превратил самую объективную форму в искусстве, какой является драматургия, в нечто столь же личное, как лирика или сонет, что я обогатил театр новыми характерами и расширил — по крайней мере в «Саломее» — его художественный горизонт. Ты ведь неравнодушен к балладе — так вернись же к ней. Баллада есть подлинный источник романтической драмы, и истинные предшественники Шекспира — вовсе не греческие и латинские трагики, от Эсхила до Сенеки, а барды англо-шотландского пограничья. В такой балладе, как «Гилдерой», предвосхищена любовная история Ромео и Джульетты, как ни различны эти два произведения по сюжету. Повторяющиеся фразы в «Саломее», которые сцепляют ее в единое целое, как лейтмотивы, навеяны — и я понимал это, когда писал, — рефренами старинных баллад. Все это я говорю для того, чтобы убедить тебя вновь взяться за балладу.
Не знаю, кого благодарить за книги, присланные из Парижа, тебя или Мора, — скорее всего, обоих. Разделите благодарность в соответствии с моими суждениями о книгах.
«Наполеон» Ла Женесса произвел на меня глубокое впечатление. Автор, должно быть, очень интересный человек. А книга Андре Жида меня разочаровала. Я всегда считал и теперь считаю, что эгоизм — это альфа и омега современного искусства, но, чтобы быть эгоистом, надобно иметь «эго». Отнюдь не всякому, кто громко кричит: «Я! Я!», позволено войти в Царство Искусства. Но лично к Андре я испытываю огромную любовь, и я часто вспоминал его в тюрьме, как и милого Реджи Чомли с его большими глазами фавна и лучезарной улыбкой. Передай ему мой нежный привет. Всегда твой
Оскар
Передай, пожалуйста, Реджи вложенную сюда карточку и сообщи ему мой адрес. Скажи, чтобы ни того, ни другого никому не показывал.
165. РОБЕРТУ РОССУ{273}

Четверг, 3 июня 2.45 пополудни (по берневальскому времени)
Широта и долгота на море не обозначены
1897 год от Р. X.
Дорогой Робби! Исключительно деловой тон твоего письма, которое я только что получил, заставляет меня подозревать, что тебя обуревает злоба и что твое спокойствие — только личина, скрывающая бурю. Да и твой упрек в том, что на моем письме отсутствует дата, больно меня ранит и говорит о том,
убрать рекламу
что твои чувства ко мне изменились. Настоящее письмо содержит дату и все прочие сведения.
Из Парижа никаких вырезок не приходит, что удваивает мою нервозность, когда я слышу о тамошних делах. К счастью, хоть я и не знал, когда было опубликовано фальшивое интервью с Бози, я догадался заказать номера газеты за три дня подряд; только что я их получил и прочел этот наглый комментарий к невинным словам Бози.
Вдобавок Бози сообщил мне, что находится на грани дуэли! Еще бы. Они там написали, что он нелепо одет. Я попробовал убедить его никогда не драться на дуэлях, ибо тому, кто встал на этот путь, остановиться невозможно. И хотя их дуэли не опаснее, чем наш английский крикет или футбол, все же без конца играть в эту игру, должно быть, надоедает.
Кроме того, сражаться с заурядным интервьюером — значит сражаться с мертвецом, а это отдает не то фарсом, не то трагедией.
Сегодня вечером заявятся Эрнест Даусон, Кондер и Дэл Янг, собираются будто бы здесь ужинать и спать; насчет ужина я еще могу поверить, а вот спать они, по-моему, никогда не спят.
Похоже, в «Кроникл» занервничали. Пока от них ни ответа, ни привета. Но если они согласятся взять, что я им предложил, за мной остановки не будет. Кто назначен управляющим моим имуществом после банкротства? Я хочу знать его фамилию и адрес. Всегда твой
Оскар
ЛОРДУ АЛЬФРЕДУ ДУГЛАСУ

[Отель де ла Пляж, Берневаль-сюр-мер]
Пятница, 4 июня [1897 г.], 2.30
Милый мой мальчик! Я только что получил твое письмо, но тут у меня Эрнест Даусон, Дэл Янг и Кондер, так что я успел прочесть только три последние строчки. Я вообще неравнодушен к окончанию чего бы то ни было: конец в искусстве и есть истинное начало. Не подумай, что я разлюбил тебя. Конечно же, я люблю тебя больше всех на свете. Но встреча невозможна — наши жизни разделены навсегда. Нам осталось только сознание того, что мы любим друг друга, и я думаю о тебе каждый день, и я знаю, что ты настоящий поэт, отчего ты становишься в моих глазах вдвойне милым и чудесным. Мои гости обращаются со мной очень ласково, и я им всем чрезвычайно признателен. Самый симпатичный из них Янг, а Эрнест интереснее всех как личность. Он обещал прислать мне свои стихи.
Вчера просидели до трех часов ночи; мне это, конечно, вредно, но я не жалею — время провели превосходно. Сегодня с моря ползет туман, идет дождь — в первый раз здесь. Завтра рыбаки берут меня в море; вечером непременно тебе напишу.
Бесконечно любящий тебя
Оскар
167. УИЛЛУ РОТЕНСТАЙНУ{274}

Отель де ла Пляж, Берневаль-сюр-мер
Среда [Почтовый штемпель — 9 июня 1897 г.].
Мой добрый дорогой друг! Я был бесконечно растроган Вашим вчерашним письмом, полным тепла и дружеского участия, и с нетерпением жду радостной встречи с Вами, пусть даже Вы приедете только на один день. Я сейчас отправляюсь в Дьепп завтракать со Стэннардами, которые ко мне чрезвычайно ласковы, и оттуда пошлю Вам телеграмму. Я льщу себя надеждой, что Вы приедете завтра дневным пароходом, так что и Вы, и Ваш друг сможете здесь поужинать и переночевать. В этой маленькой гостинице я — единственный постоялец, но она очень уютная, а шеф-повар — таковой здесь имеется! — в деле своем настоящий художник; каждый вечер он прогуливается по берегу моря, вынашивая идеи для завтрашнего меню. Ну не прелестно ли? Я снял шале на целый сезон всего за 32 фунта, так что смогу, надеюсь, возобновить работу и сочинить пьесу или еще что-нибудь.
Я уверен, дорогой Уилл, Вы обрадуетесь, узнав о том, что я вышел из тюрьмы человеком отнюдь не озлобленным и не опустошенным. Напротив: во многих отношениях я стал богаче, чем был. Я ни капли не стыжусь, что побывал в заключении — я посещал места куда более мерзкие, — а стыжусь того, что вел жизнь, недостойную художника. Я вовсе не то хочу сказать, что с Мессалиной водиться более похвально, чем со Спором, и что в первом случае все прекрасно, а во втором все ужасно; просто я понял, что сознательно пестуемый материализм, с его философией цинизма и похоти, с его культом чувственного — а на деле бесчувственного — наслаждения, действует на художника разрушительно, обедняя воображение и притупляя высшие формы восприятия. Да, мой мальчик, я пошел в жизни неверной дорогой. Я не сделал того, что мог. Но теперь, если я буду здоров, если у меня останется несколько простых и добрых друзей — таких, как Вы, — если я смогу жить в тишине и уединении, если не стану вновь пленником беспрерывной тяги к наслаждениям, калечащим тело и порабощающим душу, — что ж, тогда я, быть может, еще создам нечто, способное заслужить похвалу моих друзей. Разумеется, потери невосполнимы; и все же, дорогой мои Уилл, когда я пытаюсь охватить мыслью то, что мне осталось, — прекрасный мир с его солнцем и морем, золотисто-дымчатые и серебристо-мерцающие ночи, и многие книги, и все цветы, и несколько верных друзей, и еще мозг и тело, не вовсе лишенные здоровья и силы, — да я богач, если владею всем этим; а что до денег, то они принесли мне ужасное несчастье. Они погубили меня. Я хочу жить простой жизнью и спокойно писать — большего мне не надо.
Так что знайте, что Вы найдете меня во многих отношениях вполне счастливым, и, разумеется, Ваше доброе согласие навестить меня принесет мне еще больше счастья.
Что же касается Ваших «безмолвных песен на камне», то я жду их с трепетом. Это просто замечательно с Вашей стороны. В жизни я получал немало трогательных подарков, но Ваш будет самым драгоценным из всех.
Вы спросили, что привезти мне из Лондона. Дело в том, что от морского воздуха мои сигареты отсыревают, а коробки у меня нет. Так что если у Вас денег куры не клюют — купите мне коробку для сигарет, это будет замечательный подарок. В Дьеппе нет ничего среднего между чемоданом и бонбоньеркой. Итак, жду Вас завтра (то есть в четверг) к ужину, с тем чтобы Вы остались на ночь. Если не получится, приезжайте в пятницу утром. Я, представьте себе, каждое утро в восемь уже на ногах!
Надеюсь, Вы помните, что для меня одного Вы вовсе не Уилл Ротенстайн, художник. Для меня вы просто Уильям Ротенстайн, член Королевской Академии. Это один из значительнейших фактов в истории искусств.
Мне не терпится познакомиться со Стрэнгманом. Его перевод «Леди Уиндермир» восхитителен. Ваш верный и благодарный друг
Оскар Уайльд
168. РОБЕРТУ РОССУ (открытка){275}

[Берневаль-сюр-мер]
Вторник, 15 июня [1897 г.]
Дорогой Робби! Ты как воды в рот набрал о моем письме и его перепечатке; прошу тебя, расскажи все начистоту. Я чувствую неладное. Пойми, только узнавая о худшем, я могу ценить лучшее.
Нельзя ли перевести в Дьепп все, что осталось от моих денег? Я думал, они все у тебя. Но ты пишешь, что нет.
Портрет Королевы в «Нью ревью» просто великолепен. Я хочу повесить его на стену в своем шале. Каждый поэт должен от зари до зари любоваться на портрет своей Королевы.
С. М.
ЛОРДУ АЛЬФРЕДУ ДУГЛАСУ

Кафе «Сюисс», Дьепп
Четверг, 17 июня [1897 г.] 2 часа пополудни
Дорогой мой мальчик! Мне пришлось попросить моих друзей оставить меня, поскольку письмо моего адвоката и вызванное им ощущение серьезной опасности так подействовали на мои нервы, что я просто вынужден был искать одиночества. Любая тревога полностью выводит меня из равновесия, делает меня мрачным, раздражительным и несправедливым — в таком состоянии я сам себе противен.
Сейчас, конечно, встретиться мы не можем. Я должен выяснить, почему мой адвокат предпринял этот внезапный шаг, и, кроме того, если твой отец — или, лучше сказать, К., как я всегда его мысленно называю, — если К. заявится сюда и закатит грандиозную сцену, это окончательно погубит мое будущее и оттолкнет от меня друзей. Им я обязан всем, что имею, вплоть до нательного белья, и совершить поступок, который их со мной поссорит, — значит обречь себя на гибель.
Так что давай пока ограничимся письмами — будем писать друг другу о том, что мы любим, о стихах и красках нашего времени, о претворении идей в образы, составляющем духовную историю искусства. Я думаю о тебе постоянно и люблю тебя неизменно, но мрак безлунной ночи разделяет нас. Мы не можем преодолеть его, не подвергаясь отвратительной и безымянной опасности.
Со временем, когда шумиха в Англии уляжется, когда можно будет устроить все тайно, когда мир станет ко мне более безразличным, — тогда мы встретимся, но сейчас, пойми, это невозможно. Ты увидел бы затравленное, возбужденное, нервное существо. Мне было бы мучительно предстать перед тобой в моем теперешнем состоянии.
Лучше поезжай куда-нибудь, где ты сможешь поиграть в гольф и вернуть себе лилию и розу. И очень тебя прошу, не посылай мне телеграмм без крайней необходимости: телеграф находится в семи милях отсюда, и мне приходится платить почтальону, да еще оплачивать ответ, так что вчера, дав на чай
убрать рекламу
троим почтальонам и послав три ответа, я оказался sans le sou[61] и в состоянии нервного истощения. Передай, пожалуйста, Перси, что я с глубокой благодарностью приму от него в подарок велосипед; лучше будет купить его здесь, где живет классный тренер, способный научить любого, и у него есть английские машины — стоить это будет 15 фунтов. Если Перси вышлет чек на эту сумму на указанные здесь имя и адрес, я буду несказанно счастлив. Пошли ему мою визитную карточку.
Всегда твой (правда, несколько потрепанный и измученный)
Оскар
170. ЛОРДУ АЛЬФРЕДУ ДУГЛАСУ{276}

Кафе «Сюисс», Дьепп
Среда, 23 июня [1897 г.]
Мой милый мальчик! Спасибо за письмо, которое я получил сегодня утром. Мой fte[62] удался на славу: пятнадцать мальчишек получили клубнику со сливками, абрикосы, шоколад, пирожные и sirop de grenadine[63]. Еще был огромный глазированный торт с розовой надписью: «Jubil de la Reine Victoria»[64], окруженный двойным венком из зеленых и красных розочек. Каждому из детей был заранее задан вопрос, что он хочет получить в подарок; и представь себе — все до одного выбрали музыкальные инструменты!!!
6 accordions
5 trompettes
4 clairons[65]
Они спели мне «Марсельезу» и другие песни, водили хоровод, а потом сыграли «Боже, храни королеву» — во всяком случае, по их мнению, это было «Боже, храни королеву», а мне не хотелось их разубеждать. И еще я подарил каждому по флажку. В них было столько веселья, столько прелести. Я произнес тост в честь a La Reine d'Angleterre[66], и они прокричали: «Vive la Reine d'Angleterre!»[67] Моя следующая здравица была в честь «La France, mere de tous les artistes»[68] и, наконец, в честь «Le Prsident de la Rpublique»[69] — я решил, что так надо. И все в один голос воскликнули: «Vivent le Prsident de la Rpublique et Monsieur Melmoth!»[70] Так что меня объединили с президентом. Забавно, если вспомнить, что я вышел из тюрьмы всего месяц назад.
Они пробыли у меня от половины пятого до семи и играли во всякие игры; уходя, каждый получил от меня корзинку с праздничным пирожным, покрытым розовой глазурью с надписью, и bonbons[71].
Они устроили в Берневале грандиозную демонстрацию — отправились к дому мэра и принялись кричать: «Vive Monsieur le Maire! Vive la Reine d'Angleterre. Vive Monsieur Melmoth!»[72] Вот в какую компанию я попал.
Сегодня мы с Эрнестом Даусоном приехали сюда обедать в обществе художника Таулова, великана с темпераментом Kopo. Ночую здесь и возвращаюсь завтра.
Завтра напишу еще кое о чем. Всегда твой
Оскар
171. РОБЕРТУ РОССУ{277}

Шале Буржа, Берневаль-сюр-мер
20 июля [1897 г.]
Мой дорогой Робби! Твоя ссылка на «домашние обстоятельства» выглядит достаточно предательски — мне очень недоставало твоих писем. Прошу тебя, пиши не реже двух раз в день, и поподробнее. Пока ты сообщил мне только о Диксоне. Так вот, напиши ему, что его приезд в Лондон обошелся бы нам слишком дорого. А посылать ему рукопись я не хочу. Это небезопасно. Лучше сделать все в Лондоне, вымарав предварительно имя Бози, мое имя в конце и адрес. Ты вполне можешь положиться на миссис Маршалл.
Картины, как я уже сказал, нужно застраховать на 50 фунтов.
Что же касается Бози, я чувствую, что ты проявил к нему свою обычную ласковую терпимость и чрезмерную снисходительность. Его нужно заставить извиниться за свою вульгарную, смехотворную аристократическую заносчивость. Я написал ему, что quand on est gentilhomme, on est gentilhomme[73] и что он ведет себя гадко и глупо, обращаясь с тобой как с человеком второго сорта только потому, что он третий сын шотландского маркиза, а ты третий сын простолюдина. Честь не имеет отношения к родословной. Титулы должны быть достоянием геральдики, и только ее. Пожалуйста, стой на этом твердо; всю эту чушь нужно из него выколотить. Что же касается его оскорбительной, грубой неблагодарности по отношению к тебе, кому, как я ему писал, я обязан возможностью возобновить литературную работу, да и жизнью самой, — у меня нет слов, чтобы выразить мое отвращение к его душевной черствости, к тупости его натуры. Я просто вне себя. И прошу тебя, напиши, когда представится случай, совершенно спокойно, что ты отметаешь всю эту высокомерную чушь и что если он не в состоянии понять, что дворянин есть дворянин, и не более того, то ты не желаешь иметь с ним ничего общего.
Жду тебя первого августа, и архитектора тоже.
Поэма почти окончена. Некоторые строки необыкновенно хороши.
Завтра приезжает Уиндхэм — предлагает перевести «Le Verre d’Eau»[74] Скриба, чем, без сомнения, следовало бы заняться тебе. Привези мне «Эсмонда» и любой из твоих стульев времен королевы Анны — хочу погрузиться в эпоху.
Я очень рад, что Мор чувствует себя лучше.
Пародия на Фрэнка Харриса в «Джоне Джонсе» великолепна. Кто написал эту книгу? Очень зло и очень точно. Всегда твой
Оскар
172. КАРЛОСУ БЛЭККЕРУ{278}

Кафе «Сюисс», Дьепп
[Почтовый штемпель — 4 августа 1897 г.]
Мой дорогой друг! От Ваших слов разрывается сердце. Я не ропщу на то, что моя жизнь превратилась в обломки, — так оно и должно быть, — но, когда я думаю о бедной Констанс, я просто хочу наложить на себя руки. Но я знаю, что обязан пережить все это. Будь что будет. Немезида поймала меня в свою сеть, сопротивляться бесполезно. Почему человек так стремится к саморазрушению? Почему его так завораживает гибель? Почему, стоя на высокой башне, он хочет ринуться вниз? Никто не ведает, но таков порядок вещей.
Я считаю, что для Констанс было бы лучше, если бы я приехал, но Вы думаете иначе. Что ж, Вам виднее. Моя жизнь выплеснута на песок — красное вино на сухой песок, — и песок пьет ее, потому что хочет пить, другой причины нет.
Хотелось бы Вас повидать. Не имею никакого понятия, где я буду в сентябре. Какая мне разница? Боюсь, мы уже никогда не встретимся. Но все справедливо: боги держат наш мир у себя на коленях. Я был создан для того, чтобы погибнуть. Богини судьбы качали мою колыбель. Только окунувшись в грязь, я способен ощутить покой. Всегда Ваш
Оскар
173. РЕДЖИНАЛЬДУ ТЕРНЕРУ{279}

[Дьепп]
Вторник, 10 августа [1897 г.]
Мой дорогой Реджи! Не приедешь ли ты сюда в субботу вечерним пароходом? Здесь у меня Робби, и нам тебя очень не хватает. Тут чрезвычайно тихо, погода замечательная. К тому же вчера вечером нагрянула цирковая труппа. В воскресенье я жду Смизерса, который печатает рисунки Обри и уже закупил его с потрохами; мы вместе тут ужинаем, а потом едем в Берневаль.
Не знаю, знаком ли ты со Смизерсом; он неизменно носит широкополую соломенную шляпу и синий галстук, изящно заколотый булавкой с алмазом совершенно нечистой воды — или, скорее, вина, ибо воды он в рот не берет: она тут же ударяет ему в голову. Лицо его, тщательно выбритое, каким и должно быть лицо священника, совершающего службы у алтаря Литературы, выглядит бледным и усталым, чему причиной не поэзия, а поэты, которые, по его словам, отравляют ему жизнь, настаивая, чтобы он их печатал. Он обожает первые издания всего на свете, особенно женщин, — девочки составляют главный предмет его вожделений. Он самый искушенный эротоман в Европе. И вообще он замечательный товарищ и отличный парень, мы прекрасно с ним ладим.
Когда приедешь, иди прямо в кафе «Сюисс», где мы с Робби будем тебя ждать.
Учти, что, если ты не появишься, я буду в полном отчаянии. С нетерпением жду. Всегда твой
Оскар
174. УИЛЛУ РОТЕНСТАЙНУ{280}

Берневаль-сюр-мер
14 августа 1897 г.
Мой дорогой Уилл! Не знаю, подойдет ли Вам нижеследующее. Если подойдет — используйте на здоровье. И не забудьте поскорее меня навестить. Мечтаю о Вашем приятном обществе. Сейчас здесь Робби Росс и Шерард — он сегодня уезжает. Мы всей компанией отправляемся в Дьепп ужинать со Смизерсом. Всегда Ваш
О. У.
Он основал школу и пережил всех своих учеников. Он всегда слишком много думал о себе, что мудро, и слишком много писал о других, что глупо. Его проза — прекрасная проза поэта, его стихи — прекрасные стихи прозаика. У него властная натура. Бе
убрать рекламу
седа с ним есть испытание не только интеллектуальное, но и физическое. Его никогда не забывают враги и часто прощают друзья. Он обогатил нашу речь несколькими новыми словами, но стиль его тривиален. Он хорошо боролся и изведал все трудности, кроме славы.
!!!!!!
175. УИЛЛУ РОТЕНСТАЙНУ{281}

Берневаль-сюр-мер
24 августа 1897 г.
Мой дорогой Уилл! Я сделал это, конечно же, только как одолжение Вам. Имени моего указывать не нужно, и я не прошу никакого гонорара. Итак, я сделал это для Вас, но моя работа, как работа всякого художника, est prendre ou laisser[75]. Не мог же я копаться в скверных фактах и входить в низменные детали. К примеру, я знаю, что Хенли редактировал «Нэшнл обсервер» и был критиком очень желчным, хотя в некоторых отношениях — достаточно трусливым. Я регулярно получаю «Нэшнл ревью», и у меня нет слов, чтобы описать, насколько этот журнал глуп и скучен. В человеке меня интересует только глубинная суть, а вовсе не внешние случайности, более или менее грязные.
Мои слова о том, что проза У. Э. X. — проза поэта, были незаслуженным комплиментом. Его проза идет рывками, судорожно, и ему не по плечу изысканная архитектура длинной фразы, раскрывающейся, как дивный цветок; написал же я это только ради симметрии. «Его стихи — прекрасные стихи прозаика» — это относится к лучшему из созданного Хенли, «Больничным стихам», написанным верлибром, а верлибр есть проза. Деля стихотворение на строки, автор задает ритм и приглашает читателя этому ритму следовать. Но единственный предмет его забот — литература. Поэзия не выше прозы, и проза не выше поэзии. Говоря о поэзии и прозе, мы имеем в виду чисто технические особенности словесной музыки — можно сказать, ее мелодию и гармонический строй, — хотя это вовсе не взаимоисключающие термины; разумеется, я вознес Хенли незаслуженно высоко, сказав, что его проза — прекрасная проза поэта, но вторая половина той фразы неявным образом отдает дань его верлибрам, которые У. Э. X., если бы у него осталась хоть капля критического чутья, должен был бы оценить первый! Вы, судя по всему, не поняли, что я хотел сказать. Малларме бы понял. Но дело не в этом. Все мы падки на пошлые панегирики, но У. Э. X. заслуживает скорее длинного перечня его литературных неудач, снабженных датами.
Я все еще здесь, хотя ветер дует немилосердно. На стенах у меня висят Ваши прелестные литографии, и Вам приятно будет узнать, что я не предлагаю Вам их переделать, хоть я и не издатель «доходных серий».
Рад был узнать, что Монтичелли продан, хотя Обах не пишет, за сколько. Завтра здесь будет Дэл Янг, и я скажу ему об этом. Похоже, он думает, что картину купил он. Разумеется, я ничего не знаю об обстоятельствах продажи.
В прошлый четверг Робби Россу пришлось вернуться в Англию, и я боюсь, в этом году он не сможет приехать снова.
Куда я сам подамся — не знаю. Чтобы делать ту работу, которую я хотел бы делать, у меня нет нужного запала и, боюсь, никогда уже не будет. Творческая энергия из меня выбита. К чему надрываться ради того, что принесло мне так мало радости, когда я это имел. Всегда Ваш
О. У.
176. ЛОРДУ АЛЬФРЕДУ ДУГЛАСУ{282}

Кафе «Сюисс», Дьепп
Вторник, 7.30 [? 31 августа 1897 г.]
Милый, родной мой мальчик! Я получил твою телеграмму полчаса назад и пишу тебе эти строки только лишь для того, чтобы сказать, что быть с тобой — мой единственный шанс создать еще что-то прекрасное в литературе. Раньше все было иначе, но теперь это так, и я верю, что ты вдохнешь в меня ту энергию и ту радостную мощь, которыми питается искусство. Мое возвращение к тебе вызывает всеобщее бешенство, но что они понимают? Только с тобой я буду хоть на что-то способен. Возроди же мою разрушенную жизнь, и весь смысл нашей дружбы и любви станет для мира совершенно иным.
Как бы я хотел, чтобы после нашей встречи в Руане мы не расставались. А теперь между нами необозримая пропасть. Но мы ведь любим друг друга. Доброй ночи, мой милый. Всегда твой
Оскар
КАРЛОСУ БЛЭККЕРУ

Гранд-отель де Франс, Руан
Понедельник [почтовый штемпель — 6 сентября 1897 г.]
Мой дорогой Карлос! Погода в Берневале была такая скверная, что я сбежал сюда, где она много хуже. Я не могу оставаться на севере Европы — климат меня просто убивает. Я не имею ничего против одиночества, если светит солнце и меня окружает joie de vivre[76], но последние две недели в Берневале были отвратительно мрачными и совершенно убийственными. Никогда не был я так несчастен. Я пытаюсь раздобыть денег, чтобы поехать в Италию, и надеюсь добраться до Сицилии, но дорожные расходы ужасают меня. Вряд ли я увижу Вас до отъезда, поскольку Вы пишете, что окажетесь во Франции не раньше конца сентября, и переезд из Базеля будет, без сомнения, долгим и утомительным.
Я глубоко огорчен тем, что Констанс не пригласила меня приехать и встретиться с детьми. Я и не чаю теперь когда-нибудь с ними свидеться. Всегда Ваш
Оскар
Пишите мне в Берневаль-сюр-мер.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
Неаполь 1897–1898

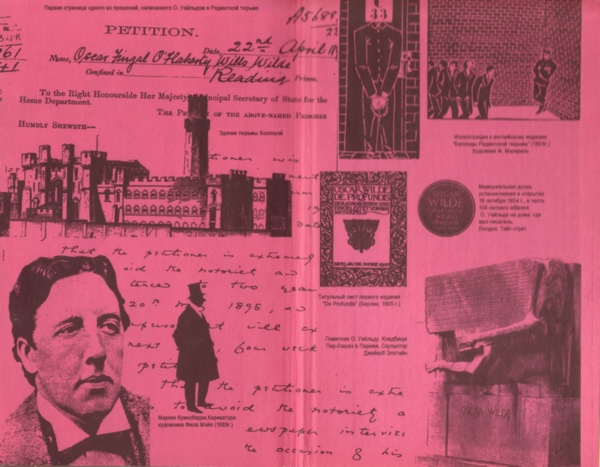
Описание

Единственное упоминание о поездке Уайльда из Берневаля в Неаполь принадлежит Винсенту О'Салливану. В своей книге «Облики Уайльда» (1936 г.) он пишет о том, как, получив письмо от Уайльда, он встретился с ним в Париже. За обедом Уайльд рассказал, что он едет в Италию:
«Он говорил об этом довольно долго, приводя подробности, часть из которых от меня ускользнула, потому что я не был в курсе событий. Насколько помню, главная трудность была та, что друзья и родственники его жены хотели помешать его воссоединению с лордом Альфредом Дугласом, который находился в Неаполе. Потом он добавил: «Я рассказываю вам все это не потому, что мне нужен совет. Я все обдумал и не собираюсь советоваться ни с кем». Я заверил его, что у меня и в мыслях нет предлагать ему советы. Это была чистая правда — во-первых, я считал излишней самонадеянностью советовать что-либо человеку, старшему по возрасту и стоящему настолько выше меня по заслугам; во-вторых, мне было совершенно безразлично, куда он поедет и что сделает.
Под конец он добавил: «Я еду в Италию сегодня вечером. Или, вернее, поехал бы, если бы не одно глупое обстоятельство. У меня нет денег».