Михаил Алексеев
Драчуны
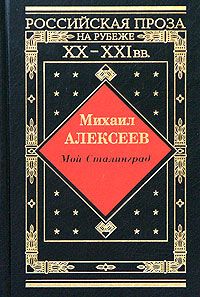
Текст предоставлен правообладателем. https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174483
«М.Алексеев Мой Сталинград»: ИТРК; Москва; 2003
ISBN 5‑88010‑163‑0
Аннотация
«… Помутившись разумом, слепые в ярости, мы, на потеху обступившим, взявшим нас в кольцо зрителям, коими оказались учащиеся старших классов, начали дубасить друг дружку со всем возможным усердием и, наверное, напоминали молодых кочетов в момент их бескомпромиссной схватки. Появившаяся на лицах кровь усугубила дело, поприбавила лютости. Мы готовы уж были к рукам подключить и наши крепкие зубы. А тут еще кто‑то большой и, конечно же, очень глупый, крутясь возле дерущихся, подзадоривал, подогревал:
– Дай ему, Ванька, как следует!.. И ты, Мишка, не сдавайся! Чего красные сопли развесил?.. Под дых ему, под дых!.. Та‑а‑ак! Молодцы!.. А ну еще разик!.. Так… так… так! …»
Михаил Алексеев
Драчуны
Роман
Внучке моей Ксении посвящаю
Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения… Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное и интересное, что им случалось наблюдать в жизни.
Л. Н. Толстой
Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства; без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь.
Ф. М. Достоевский
Часть первая
У Ивана Павловича Наумова было правило, коего он неукоснительно придерживался на протяжении всех лет своей педагогической практики: чтобы проверить учеников на сообразительность, обычно в начале последнего часа занятий он подходил к доске, записывал на ней арифметическую задачу и, повернувшись к классу, объявлял:
|
|
– Ну, так вот‑с… (однажды в этом месте у Ивана Павловича вырвалось слово «господа», но учитель быстро поймал его и проглотил). – Ну, так вот‑с… Кто решит пример первым, тот первым же и отправится домой. – При этом длинные, прямые, редкие и жесткие, седые усы его хитренько подергивались. Должно быть, за них да еще за крутой лоб и круглые зеленоватые глаза Иван Павлович и был прозван в какие‑то донашенские еще времена Котом.
Кот, как ему и полагалось, уходил в дальний угол и, затаившись, зорко наблюдал оттуда за классом, подстерегая жертву – то есть ученика, который быстро справится с заданием и, не удержавшись, подскажет результат своему товарищу.
До революции, когда Иван Петрович обучал в трехклассной церковноприходской школе наших отцов и матерей, он поступал в таких случаях очень просто: тихо, опять же по‑кошачьи, подходил к подсказчику и, ни слова не говоря, вытягивал его линейкой вдоль спины, а то и опускал это орудие на добрую головушку несчастного рыцаря.
Теперь взамен физического мудрый Кот изобрел воздействие психологическое, пожалуй, более тяжкое для нас, его питомцев. Ученик, который «решил» задачку с помощью соседа по парте, казалось бы, вопреки всякой логике, отпускался домой, а тот, который его выручил, тут же получал задачку новую, намного сложнее первой, затем еще одну, потрудней, за этой – еще и еще… много задачек – и так до тех пор, покуда весь класс не опустеет и в нем не останутся лишь двое: учитель и провинившийся ученик.
|
|
На этот раз в роли пойманной мыши оказался мой верный дружок Ванька Жуков, невыдуманный тезка известного чеховского героя. Задачка в общем‑то была пустяковой даже для нас, недавно приобщившихся к учению огольцов: пятнадцать разделить на три. Я хоть и был не в самых лучших ладах с арифметикой, но в обычной, спокойной обстановке без особенных усилий одолел бы такой пример. Но тут представилась возможность отличиться и, главное, раньше срока отправиться домой – не домой, конечно, а в другие места, где тебя ожидало множество занятий куда более веселых, чем школьные уроки.
Но вот беда: когда желанная цель близка, и когда ты всей нетерпеливой душой своей устремился к ней, на тебя вдруг страшною тяжестью наваливается какое‑то отупение, голова наотрез отказывается соображать, и ты, мгновенно окатившись потом, в ужасе летишь в некую пропасть.
В такой‑то роковой для меня миг я и услышал горячий Ванькин шепот:
– Пять… пять!..
К восьми годам дружок мой еще не до конца избавился от шепелявости, и у него получалось не «пять», а «пячь».
И вот тут‑то рука, бросившая мне спасательный круг, была поймана, что называется, с поличным. Решивший раньше всех пример Ванька был остановлен учителем на полпути к дверям. Из солидарности с товарищем задержался было и я. Однако Иван Павлович строго пресек благородные мои намерения, сказав:
– Ты, братец, иди. А Жуков останется.
– Но я же…
– Правильно. Ты же решил, ну и ступай. Марш, марш! – Длинные усы Кота ехиднейше шевельнулись. – А Жуков посидит еще. Куда ему спешить!
|
|
Удар был тщательно выверен загодя. Ученый Кот угодил в самое больное место: «спешить» и мне, и Ваньке было куда.
Сэкономленное на последнем уроке время и то, что оставалось до вечера, мы провели бы наилучшим образом. Нам ничего не стоило в один миг переплыть на долбленке узенькое местечко на Грачевой речке и очутиться в тернах, то есть в терновнике, где ягоды собраны лишь наполовину, а самые спелые, налитые сладчайшим соком предоставлены скворцам, по случаю теплой осени не торопившимся в заморские края. Надклеванные ими тернинки источают густо‑красную сукровицу и, пораненные, вкусны уже выше всякой меры. Ими‑то мы и собирались полакомиться в первую очередь. А во вторую – побродить по яблоневым садам, оставленным, поскольку урожай уже вывезен, хозяевами без всякого присмотра: пошарить глазами по вершинам дерев – там наверняка отыщется где одно, где два, а где и десяток либо анисовых, либо антоновских яблок, которые к этой поре необыкновенно вкусны и душисты. Яблоки эти недоступны только для взрослых, но не для нас, деревенских ребятишек. По ловкости и быстроте вскарабкиванья на деревья с нами могут сравниться разве что кошки, да и то в момент, когда их настигает собака. На огородах, обычно притулившихся к садам, можно еще захватить врасплох и морковку – она не боится легких осенних заморозков и по этой причине убирается позже других овощей. «Перестоит» ее, может быть, лишь капуста, которой небольшой морозец на пользу. Эту‑то садово‑огородную азбуку мы с Ванькой Жуковым знали на «отлично».
В плане нашем на тот остаток дня было и другое. На обратном пути мы намеревались заглянуть в церковь, к вечерней службе, но не для того, чтобы помолиться. Просто в такой час представлялась великолепная возможность проникнуть на колокольню, а через нее – в сообщающиеся между собой темницы, то есть чердаки под всеми пятью главами, где водилось несметное количество голубей, так что при удаче можно было прихватить парочку и унести домой, в собственную голубятню. Правда, от подобной операции у Ваньки могли еще сохраниться не самые добрые воспоминания. Прошлой осенью мы промышляли с ним таким‑то вот образом и увлеклись настолько, что забыли про время, а значит, и про то, что вечерня кончилась, массивные церковные двери мой дядя Иван Морозов, служивший тут за сторожа, запер преогромным замчищем и перекрыл для нас путь через паперть. Обнаружив это, мы поначалу испугались, заскучали, но ненадолго: вспомнили, что в железной крыше одной из темниц есть слуховое оконце, через которое легко можно выбраться на крышу и по водосточной трубе спуститься на землю, перемахнуть же через ограду нам и вовсе ничего не стоило. Словом, мы успокоились и решили тогда еще немного поохотиться на молодых голубей, глупеньких, неопытных, а потому и попадавшихся в наши руки прежде всего. У меня было уже два несмышленыша, их теплые тела ворочались под рубахой, я даже слышал кожей, как часто‑часто бьются их испуганные сердечки. Мне не терпелось поскорее унести добычу на свое подворье и выпустить в сарае, под покровительство старых, умных, добрых, очень гостеприимных голубей. Однако у Ваньки было на одну птицу меньше. Не мог же он отстать от меня. Да я и сам не хотел бы этого, а потому, как мог, стал помогать товарищу, выпугивая пернатых из самых потайных, дальних углов. Сняв с ноги сапог, Ванька принялся «шуровать» им по карнизам. В конце концов сапог вырвался из его руки и провалился куда‑то далеко вниз, в расщелину, образовавшуюся между обшивочными досками и бревнами, составлявшими основу всего здания, – туда, значит, откуда его можно вызволить не иначе как разобрав всю церковь; мы поняли это сразу, но еще пытались как‑то исправить положение, вытащить сапог и отвратить от Ваньки превеликую порку. Сапоги ведь новые, недавно купленные Ванькиным отцом, Григорием Яковлевичем Жуковым, да и то не для Ваньки, а для его старшего брата Федора, у коего Ванька едва выпросил их, чтобы хоть один разик, один‑единственный, пройтись по селу и подразнить сверстников, в том числе, конечно, и меня, которому и во сне‑то не могло присниться такое сокровище.
Ванька Жуков не плакса, для этого он был слишком горд, но тогда я увидел в полумраке церковного чердака, как глаза его сперва покраснели, а потом из них обильно потекли слезы, оставляя за собой на пыльных щеках две извилистые светлые дорожки. Позднее он признался мне, что не боялся отцовской выволочки (к ней он давно привык), больше всего его удручала встреча с Федькой – тот, конечно же, будет крайне огорчен, узнавши про этакую беду.
Пошарив еще немного по карнизу, порядком оцарапавшись торчавшими там и сям ржавыми гвоздями, мы выбрались на крышу, спустились, как и намечали, по водосточной трубе; молча, не глядя друг на друга, перелезли через ограду и ударились всяк своей дорогой, забыв попрощаться и, против обыкновения, не договорившись о завтрашних планах. Странно, но каждый из нас чувствовал себя виноватым перед товарищем. Ванька, похоже, оттого, что явился причиной плохой концовки счастливо начавшегося предприятия, я – оттого, что ничем не мог помочь приятелю.
В скверном расположении духа вернулся я домой, а наутро был очень удивлен, увидев возле школы Ваньку Жукова, затеявшего веселую возню с верзилой по имени Самонька. Парень этот третий год начинал свое учение в одном и том же классе, поскольку перейти в четвертый ему мешали выстроившиеся в несокрушимо строгий ряд сплошные «неуды». Видя, что Ванькиных силенок явно не хватает, чтобы сладить с Самонькой, я тотчас же подключил свои; вдвоем, хоть и не вдруг, мы все‑таки уложили Самоньку на обе лопатки. «Ну, постойте, вам это так не пройдет», – пробормотал третьегодник и, отряхнувшись, подхватив валявшуюся поодаль ученическую свою сумку, нехотя побрел к школьным дверям. Мы не обратили никакого внимания на Самонькины слова. Для нас было важно, что Самонька нами повержен, а лично для меня важнее важного было то, что видел Ваньку прежним, веселым и озорным. Наверное, отцова порка неожиданно оказалась умеренной, а Федькино горе не столь уж безутешным.
Так или иначе, но, не задержи Иван Павлович Ваньку в классе, мы с ним наверняка нынешним вечерком наведались бы в церковь, прошмыгнули бы незаметно мимо глуховатого Ивана Морозова к лестнице, винтообразно взбирающейся к колокольне, и вдоволь поохотились бы за голубями.
Теперь все наши планы безнадежно рушились.
Понурившись, чувствуя себя совершенно уничтоженным, я медленно вышел на школьное крыльцо, еще медленнее спустился по ступенькам во двор; прислонившись к ограде, стал ждать Ваньку. Знал, что он теперь будет отпущен из класса последним, а потому и запасся терпением. Уйти без Ваньки я, разумеется, не мог. Во‑первых, потому, что это было бы похоже на предательство. Да и само путешествие в намеченные места без Ваньки лишалось своей привлекательности, а стало быть, и смысла; без Ваньки речка – не речка, лес – не лес, сады – не сады, да и для чего мне все это, когда рядом не будет Ваньки Жукова! Не будет его милой шепелявости, не будет и его разбойничьего свиста в четыре пальца, как‑то хитро положенных на язык, – как ни старался, но я так и не научился этому искусству, составлявшему предмет моей зависти: Ванька свистел столь пронзительно, что по всему лесу сороки срывались со своих мест и подымали переполошный, панический крик. Не будет и выворачивания единственного кармана, пришитого Ванькиной матерью к правой штанине, и выскребывания из уголков малой крохи самодельной махорки, похищенной Ванькой у отца, той самой, за которую приятель мой сечен был чаще всего. Любая плата, однако, ничто в сравнении с ощущением своего превосходства, когда ты на глазах восхищенного тобою товарища совсем по‑взрослому ссыпаешь те табачные крохи на донышко ладони, а затем осторожно и солидно, как делает это отец, наполняешь ими «козью ножку». Закупориваешь ее, чиркаешь спичку и, чуть‑чуть припалив ресницы (у Ваньки они длинные и светлые, как у теленка), начинаешь раскуривать и, демонстрируя высший пилотаж, выпускать через ноздри струйки дыма. Ванька дает и мне «курнуть разик», всего только один раз, не больше, но, видя, как я кашляю и задыхаюсь, говорит снисходительно:
«Тебе, знать, рано таким делом заниматься». Честно говоря, мне казалось, что и ему не приспело еще время заниматься этим самым делом, потому что видел, как Ванька изо всех сил пытается удержать рвущийся из груди кашель, как краснеют его белые галочьи глаза и как ему мучительно хочется скрыть все это от меня. Справившись с удушьем, пряча обильно выступившие слезы, он еще и успокаивает: «Ничего, Миш, научишься и ты».
Забегая вперед, скажу: не научился. Ни тогда, в конце двадцатых, ни в сиротские свои тридцатые, ни в сороковые, военные годы, хотя учителей по этой части было более чем достаточно. Один фронт мог сделать тебя заядлым курильщиком: иной без колебания отдавал свою пайку хлеба за крохотный «чинарик», за искуренную больше чем наполовину цигарку; ради одной затяжки мог расстаться с такой драгоценностью, каковой являлись знаменитые фронтовые сто грамм. Но и окопы не сделали меня трубкокуром. Положенную мне махорку, а позднее и папиросы, ротный старшина отдавал другим бойцам и командирам.
Мне многое хотелось перенять, и я перенимал от Ваньки. Даже, как он, чистил зубы тем, что жевал смолу, или вар, как звали эту вязкую, упругую аспидно‑черную массу в нашем селе Монастырском на Саратовщине. Зубы от нее делались кипенно‑белыми, как у молодого волчонка, а десны такими крепкими, что не кровоточили и тогда, когда мы разгрызали железной крепости ржаные сухари и перемалывали на зубах, точно на жернове, колючие плиты колоба[1].
Я уже признался здесь, что более всего мне хотелось научиться у Ваньки лихому свисту. Всякую прогулку с ним в лес ли, в сады, в поля, на луга, Большие и Малые, на гумна, тоже Большие и Малые, я старался использовать, чтобы по дороге взять у товарища урок свиста. Но либо педагогические способности Ваньки были невелики, либо я оказался непонятливым учеником – не знаю, отчего, но пока что успехами своими похвалиться я не мог. Из‑под моих пальцев, засунутых в рот и зажимавших там язык, вместо свиста вырывалось какое‑то жалкое, отвратительное шипение. В отчаянии я мог бы, кажется, и зареветь, но Ванька и тут приходил на выручку, утешая по обыкновению: «Ничего, Миш, научишься и ты. Это Федька, братка мой, меня научил. Знаешь, как он свистит!»
Ванька, как и все мои односельчане, у многих глагольных слов в разговорной речи уворовывал букву «е», и у всех у нас получалось: «работат» вместо «работает», «гулят» вместо «гуляет», «знат» вместо «знает», ну и тому подобное.
Село наше некогда основали монахи одного из владимирских монастырей, присланные в эти глухие тогда болотные и лесные саратовские края, чтобы сеять тут коноплю, лен, собирать пчелиный мед, а по осени отправлять добычу под охраной вооруженных мужиков за тысячу верст в свой монастырь. С ними‑то и докатилось к нам круглое «о», на которое больше всего опирается, как на посох, житель села, нареченного Монастырским.
Иван Павлович Наумов и его жена Мария Ивановна были родом из волостного села Баланды, остановившегося где‑то на полпути к городскому чину, разговаривали не по‑нашему, из гласных звуков ими подчеркивался «а», и монастырское оканье было и непривычным, и малоусладительным для их уха. Этим только и можно объяснить, почему Мария Ивановна, умная, в высшей степени сдержанная, однажды, когда я учился, кажется, уже в четвертом классе, малость «сорвалась», не вытерпела, сделала мне замечание. «Алексеев, – сказала она, чуть морщась, – не говори „корова“. Неужели ты не слышишь, как это ужасно звучит?!» Первыми среагировали на ее замечание мои уши. Они мгновенно воспламенились, и, если бы это было ночью, класс, наверно, увидел бы над моей партой два красных фонарика. И все‑таки я не растерялся – звонко, чтобы слышали все, почти прокричал:
«Марья Ивановна, но будет еще ужаснее, ежели я в диктанте напишу: „карова“.
Теперь наступила очередь покрыться румянцем смущения и ее умному лицу. «Несносный», – чуть внятно сказала она и улыбнулась. Ее улыбка, тихая и светлая, всегда означавшая для нас отпущение всех наших грехов, озарила весь класс, и класс разрядился дружным, сочным, радостным смехом. «Ну, ладно. Порезвились и довольно. Вернемся к уроку.»
Хуже было с Ванькой. Как и в письменной, так и в устной своей речи он совал это «о» куда нужно и куда не нужно и, естественно, выше тройки по русскому языку никогда не подымался. Я пробовал помочь ему, но безуспешно. Учитель из меня получался такой же, как и из Ваньки, если не хуже. Он хоть кое‑что, но все же сумел передать мне. Втайне я завидовал многому из того, чем располагал Ванька Жуков. Мне, например, очень не хватало Ванькиной отваги, а в условиях деревенского житья‑бытья ее надобно иметь в достатке. Робких ребятишек на селе не любят и если чем и жалуют, то разве что частыми оплеухами. А с Ванькой Жуковым шутки плохи: на одну затрещину он немедленно ответит тремя, более ядреными и звонкими. При этом Ваньку не остановит и то, что его обидчик старше годами и, следовательно, покрепче и физически. В таких случаях недостаток собственных силенок Ванька вполне компенсирует смелостью и ловкостью. Нельзя сказать, чтобы из всех схваток он выходил победителем. Влетало порядком и ему, отважной головушке. Редко когда Ванькина физиономия не носила на себе свежих следов недавних горячих баталий. То, смотришь, под глазами Ванькиными синем‑сине, то губа у него рассечена, то бровь, то ухо – где‑нибудь, но чуть ли не постоянно бугреет сгусток запекшейся крови, как у драчливого петуха на гребешке. Допытываться у Ваньки, кто его поколотил, бессмысленно: он никогда не скажет. Либо соврет, не моргнув глазом: врезался, мол, ночью в дверную скобу или во что‑нибудь еще.
Теперь я ждал, когда мой отважный товарищ появится на крыльце. По времени должен был уж появиться: прошло около полутора часов. После меня давно покинули класс и все остальные ученики. Девчонки сразу же разбегались по домам. Ребята вели себя совершенно по‑иному. Они вылетали из школы пулей, точно их и вправду выстреливали оттуда. Шалые от радости, будто козлята, спущенные с привязи на волю, они с диким воплем и козлячьим мемеканием вприпрыжку проносились мимо меня и тут же, за оградой, не желая, видимо, так скоро расставаться, начинали разные игры. Одни, схватившись за руки или плотно обнявшись, мерились силой; другие, построившись в цепочку, наклонившись, ждали, когда через них будут перескакивать их товарищи, – тут затевалась чехарда; там и сям, сопровождаемые визгом и хохотом, стремительно росли кучи малы; немного поодаль быстро вычерчивали палкой линии – готовили арену для сражения в козны. Этим, последним, я завидовал в особенности и при других обстоятельствах не оказался бы в стороне, потому что одноклассники затевали самую любимую мою игру. Понуро глянув в их сторону, я успел подумать о том, что дома, в печных отдушинах, тайно от брата Леньки, у меня хранился немалый запас кознов – и больших, коровьих, и поменьше, свиных, и совсем крохотных, овечьих, тех, что назывались нами попросту лапшой. При желании я мог бы обратить их в деньги, поскольку козны имели свою цену. На одну копейку ты мог купить пять больших, бычьих; значит, на ту же копейку тебе дадут два десятка свиных или тридцать штук овечьих. Мой средний брат Ленька (я в семье был младшим) по искусству этой игры не имел себе равных, сокрушал всех подряд, кто бы ни отважился скрестить с ним оружие, то есть налитые свинцом панки, которыми разбивается кон. Целясь в него, Ленька прищуривал левый глаз и обязательно высовывал на левую же сторону кончик языка. Считалось, что это помогает ему поражать ставку с любой отметки. Немудрено, что Ленькина ученическая сумка всегда больше чем наполовину была наполнена кознами и что при случае Ленька приторговывал ими. Свой тайный запас я мог сделать только из выигрышей брата, но не из своих, потому как страсть к этой игре у меня находилась в вопиющем противоречии с умением. Тем не менее я сейчас непременно был бы среди тех, кто начинал игру. Но без Ваньки?..
«Скоро, что ли, этот презлющий Кот отпустит его?» – мои глаза вновь обратились на школьную дверь. Время от времени она открывалась и выпускала на улицу учеников старших классов. С очередной партией появился и Ванька. Я не сразу увидел его, потому что Ваньку закрывали от меня взрослые ребята. Но вот раскрасневшееся его лицо показалось впереди. Я сорвался со своего наблюдательного пункта и рванулся с кличем «ура» навстречу. И был ошеломлен, когда Ванька с ходу ударил меня головой в подбородок, да так сильно, что из глаз моих посыпались искры.
– Ты… ты за что меня, Ванька? – возопил я, задыхаясь и от страшной боли, и от жгучей обиды. – За что‑о‑о?! Эх, ты‑и‑и!..
– А ты… ты за что?! – в свою очередь, закричал Ванька, вцепившись в мой воротник. Смаргивая с длинных ресниц слезы (они выступали у него скорее от злости, чем от боли или обиды), Ванька вдруг размахнулся и ударил меня в лицо. Мне ничего не оставалось, как ответить ему тем же.
Помутившись разумом, слепые в ярости, мы, на потеху обступившим, взявшим нас в кольцо зрителям, коими оказались учащиеся старших классов, начали дубасить друг дружку со всем возможным усердием и, наверное, напоминали молодых кочетов в момент их бескомпромиссной схватки. Появившаяся на лицах кровь усугубила дело, поприбавила лютости. Мы готовы уж были к рукам подключить и наши крепкие зубы. А тут еще кто‑то большой и, конечно же, очень глупый, крутясь возле дерущихся, подзадоривал, подогревал:
– Дай ему, Ванька, как следует!.. И ты, Мишка, не сдавайся! Чего красные сопли развесил?.. Под дых ему, под дых!.. Та‑а‑ак! Молодцы!.. А ну еще разик!.. Так… так… так!
То был Самонька, вынырнувший из‑за спин других ребят, где, пригнувшись, таился до этой минуты. Откуда нам было знать, что это он, выйдя из школы и увидев впереди себя Жукова, незаметно, очень умело подтолкнул Ваньку так, что тот угодил головой прямо в мой подбородок в момент, когда я кинулся к товарищу. Подтолкнул и сейчас же скрылся, точно рассчитав свой ход: теперь и я, и Ванька были в полной уверенности, что один из нас и затеял эту драку – вот только непонятно, почему. Но могли ли мы, ребятишки, распаленные боем, выяснять что‑то, доискиваться истины, когда война между нами уже началась, и когда каждый из нас если и думал о чем‑либо, так только о том, как бы не оказаться побежденным?..
Как и следовало ожидать, старшеклассники недолго оставались в роли зрителей. По разным причинам для кого‑то из них был ближе Ванька Жуков, а для кого‑то – я. Тут вступил в действие и древний, как сама Русь, неписаный закон, сформулированный, однако, лаконично, кратко и тревожно‑возбуждающе: наших бьют! Подчиняясь ему, как сигналу бедствия, мальчишки с Непочетовки, Завидовки и других близлежащих улиц и проулков взяли мою сторону, а те, что жили на другом конце села, именуемом Хутором, и в примыкавших к нему окраинных домах, вступились за Ваньку. Оставили свои веселые игры и наши одноклассники. Позабыв о сумках с учебниками и тетрадями, валявшихся где попало прямо на земле, они с воинственным кличем ворвались на поле брани и сейчас же пустили в дело свои кулаки, не разбирая поначалу, кто тут их друг, а кто враг. Теперь «красные сопли» можно было увидеть не только под моим и Ванькиным, но и под многими другими носами.
Выскочившему из школы Ивану Павловичу, а также поспешившим ему на помощь мужикам из соседних дворов и из сельского Совета не сразу удалось усмирить это воинство. Лишь после того, как к ним присоединились покинувшие церковь отец Василий и Иван Морозов – к этому часу они готовили Божий храм к вечерне, – только после этого костер был погашен. Но головешки от того костра с их едким, щиплющим глаза дымком и резким, раздражающим запахом каким‑то образом переселились в мое сердце, отчего жизнь, вчера еще полная очарования и ослепительного смысла, сразу же потускнела для меня, слиняли ее краски, побледнели, и все вдруг как бы задернулось серой, нерадостной пеленой, через которую не мог пробиться ни один солнечный лучик и осветить, согреть осиротевшую, напуганную душу ребенка.
Ну а Самонька?
Увлеченный зрелищем ребячьей потасовки, он уже и забыл, что явился источником, из которого она выплеснулась и затем воспламенилась. Когда взрослым, действующим и словом, и другим, более убедительным для сельской детворы средством, удалось в конце концов утихомирить ее, Самонька тотчас заскучал и с явным сожалением побрел домой. Он был бы, пожалуй, не против, ежели б назавтра случилось нечто подобное. И не потому, что сам был злым, отпетым парнем. По своему характеру Самонька скорее принадлежал к существам простодушным и даже добрым. Дело, однако, в том, что с учением у него не ладилось и школа могла представлять для Самоньки интерес постольку, поскольку там можно поразвлечься.
Мужики рассказывали потом, что труднее всего им было разнять, отцепить друг от друга нас с Ванькой. Меня лично привела в чувство и мгновенно отрезвила редкая по ядрености, звончайшая оплеуха, отпущенная от всех щедрот (знать, по‑родственному) дядей Иваном, который затем ухватил железными лапищами племянника за уши и отдернул от Ваньки. Последнего сгреб в охапку здоровенный и упитанный отец Василий и унес зачем‑то (не на исповедь же?) прямо в церковь, куда уже направлялись самые набожные прихожане.
Остальными бойцами занимался Иван Павлович, построив их перед собой, как строит новобранцев ротный старшина перед казармой.
Вышла из школы и стала рядом с мужем Мария Ивановна; вдвоем они вели все четыре класса до тех пор, пока на селе не поставили новую школу и не открыли в ней семилетку, а потому и отвечали здесь за все и перед районо, и перед сельсоветом. На Марии Ивановне лежала обязанность не только учить, но и производить набор первоклассников. Именно к ней припожаловал прошлой осенью и я. «Где родился?» – первым долгом спросила она, склонившись над списком новых учеников. Так как я был наслышан от домашних, где мне суждено было явиться на свет божий, то тут же и ответил: «У бабушки на печке». Оказавшийся рядом Иван Павлович коротко хмыкнул. Я решил, что он мне не поверил, и пустился в подробности, но Мария Ивановна остановила меня, сказав: «Ну, ладно. Первого сентября приходи в школу». Губы ее чуть поморщились в грустновато‑светлой, по обыкновению, улыбке.
Иван Павлович ощупывал каждого своими колючими глазами и произносил какую‑то гневную речь, но не остывшие до конца, не пришедшие в себя ребятишки не улавливали ее смысла, может быть, и вовсе не слышали этой речи, и о том, что она была очень сердитой, могли догадываться по обжигающе острому блеску зеленоватых глаз и подергивающимся кошачьим усам учителя. Мария Ивановна молчала, скрестив руки на груди и глядя на провинившихся удивленно‑печальными, укоряющими очами, – с ними‑то как раз больше всего и боялись встретиться притихшие вдруг, потерянные, оробевшие и в общем‑то несчастные драчуны. На чужом пиру им досталось одно похмелье. Решительно всем. И второму после Ваньки Жукова, а теперь, наверное, первому, моему другу из Непочетовки Кольке Полякову, стоявшему на правом фланге с рассеченною нижней губой и страдающему скорее всего не от полученных в бою ран, а от мысли, что за изодранную, единственную на двух братьев сатиновую рубаху придется держать ответ перед строгой матерью и перед отцом, хоть и добрым, но, кажется, самым бедным на селе мужиком, положившим основание Непочетовке своей убогой лачугой; и Миньке Архипову с той же улицы, единственному сыну у молодых родителей, больше всего опасавшихся, чтобы их слабое, изнеженное дитя не ввязалось бы в какую ни то ребячью свару; и Петьке Денисову‑Утопленнику (прошлым летом, вытащив из пруда, его едва откачали и вернули к жизни) с одноименной Денисовой улицы, потому как на ней проживало с полдюжины семейств, объединенных одной фамилией; и Гриньке Музыкину, безотцовщине, забубенной головушке, грозе чужих огородов, садов, а в зимнюю пору и погребов, неутомимому говоруну («Уж больно ты речист – видно, на руку нечист», – пословица, нацеленная прямехонько в таких добрых молодцев, как Гринька), завидовскому забияке, с которым не мог справиться даже Ванька Жуков, – он и сейчас не отводил в сторону и не опускал долу своих отчаянных, по‑рачьи выпуклых, нагловатых глаз, а бесстрашно и вызывающе скрещивал их с глазами Ивана Павловича, чаще всего оставлявшего Гриньку Музыкина без обеда; и моему тезке Михаилу Тверскову, к которому со следующего дня я перейду за парту и буду сидеть какое‑то время рядом с ним и учиться до пятого класса, вплоть до незабываемого тридцать третьего года, который отнимет у меня и Михаила Тверскова, и множество других бесконечно дорогих мне людей; стоял перед учителями со всегдашней своей загадочной ухмылкой и мой двоюродный племянник, одним лишь годом младше меня, Колька Маслов, чуть ли не единственный, на лице коего только что закончившееся сражение не оставило никаких следов‑отметин, – объяснить это почти невероятное явление можно лишь исключительной хитростью этого темноглазого сорванца.
Хуже всех, надо полагать, чувствовал себя Янька Рубцов, самый робкий из моих друзей в Непочетовке, оказавшийся в свалке отнюдь не по своей воле: его кто‑то из старших неласковым пинком под зад втолкнул в круговерть мальчишескую, где, судя по разбитой «сопатке», Яньке попало, кажется, больше всех. Сейчас он находился прямо против Марии Ивановны и ждал только от нее одной для себя защиты.
– А Рубцов как сюда попал? – ахнула Мария Ивановна, заметив наконец Яньку и сразу же определив, что он без вины виноватый. Милостиво попросила мужа: – Отпустите его, Иван Павлович. И Архипова Мишу – тоже. – Старая учительница была совершенно уверена, что этот‑то недотрога, мамкин сынок, наверняка вовлечен в потасовку другими.
– Марш домой, Рубцов! И ты, Архипов, – ну! – скомандовал Кот. – И наперед смотрите!..
Я дружил с Янькой, прощая многие его слабости (у кого их нет!), одна из которых казалась мне особенно неприятной и менее извинительной, – это Янькина скупость, не ведающая границ. Однажды она проявилась у него, пожалуй, в самой крайней степени.
После половодья, когда наша речка Баланда возвращается в прежние, привычные для нее берега и скликает в свое лоно разбежавшиеся во все стороны, по лесам и лугам, вешние воды, когда вместе с ними по бесчисленным рукавам, овражкам, рытвинам, проделанным ими же в прежние весны, по колеям, углубленным шустрыми ручьями, по старице устремляются в обратный путь нагулявшиеся вволю и отнерестившиеся щуки, красноперки, жерехи, язи и всякая другая рыбья мелочь, вроде ершей и уклеек, жители села Монастырского, мужская его половина, от мала до велика, выходят на промысел. В дело пускаются снасти самые разнообразные, изготовленные загодя, в долгие зимние вечера. Тут и вентери, и вершки, и наметки, и всевозможных форм и размеров сачки, и другие премудрые штучки, рассчитанные на то, чтобы изловить заблудшую рыбешку. Тяжелыми наметками здоровенные мужики и парни орудуют прямо с берега: в мутной воде, окрашенной в глинистый цвет весенними потоками, низвергающимися с оврагов, рыба слепая, она ничего не видит, и ее накрывают, наметывают такой снастью и волохом тащат на берег. С вершами же, вентерями и сачками уходят на луга, в лес – к шумно сбегающим в материнское ложе Баланды ручьям, где и преграждают путь рыбе. При этом торопятся и все и вся. Ручей спешит потому, что боится быть перехваченным каким‑нибудь невидимым сейчас холмиком или перемычкой. Рыба может остаться на свою погибель в любом сезонном лесном болотце, с которым в две недели расправится солнце, выпьет его до самого донышка – долго ли проживешь, оказавшись на мели в прямом и переносном смысле! Ну а человеку и подавно не следует мешкать: весенний разлив недолог, а рыба выходит на свою прогулку или на пастбище на очень малый срок, равный одной неделе, не более того. Тут уж, рыбачок, не зевай. Замешкавшийся, ты можешь вернуться от иссякающего рукава или ручья ни с чем, несолоно, значит, хлебавши.
Не знаю почему – то ли мы опоздали, то ли пришли раньше времени, но за весь день в наши с Янькою верши не попалось ни единой рыбешки. Утащить снаряжение в другое место мы не могли – не хватало силенок. Верши для нас расставили тут наши старшие братья. Мы только дежурили и время от времени подымали за хвост свою снасть, чтобы заглянуть сквозь мокрые, лоснящиеся прутья, не трепещет, не барахтается ли там серебристая рыбина. Рыбины не было. Под вечер, когда терпение могло кончиться не только у ребятишек, но и у взрослых, я заскучал и, позевывая, внутренне усмехнулся.
– Янь! – окликнул своего соседа, впавшего от неудачи в апатию.
– Што‑с? – сонным, ленивым голосом ответствовал тот.
– А што ежли счас в твою вершу попадет сто щук, ты отдашь мне половину?
Янька мгновенно оживился, сонную одурь как рукой смахнуло с его круглого, похожего на полную луну лица. Воззрившись на меня в удивлении, он горячо, с досадою вымолвил:
– Ишь ты какой умный! Нашел дурачка! Эт почему же я отдам их тебе?..
На другой ответ я и не рассчитывал, а потому и расхохотался. Отсмеявшись, выпалил как можно громче:
– Дурак ты, Янька, скупердяй, жмот несчастный! Да ни хренинушки ты не пымашь! Ну, лады. Прячь подальше своих щук, не то Гринька Музыкин стащит. Бывай! – с этими словами я поднялся, засунул в карман порожнюю, приготовленную для улова сумку, скверно свистнул и нырнул под голые еще ветки пакленика, оставив напарника, так, видно, и не понявшего, отчего это я рассмеялся.
Но сейчас мне было не до смеха. Усмиренный дяди Ваниной оплеухой, я был поставлен в строй рядом с другими учениками, в полном безразличии выслушал проповедь Ивана Павловича, зацепившись ухом лишь за ее концовку, где учитель наказывал, чтобы мы сообщили своим родителям: их завтрашним вечером вызывают в школу. Это означало, что впереди нас ждала трепка более внушительная, чем та, которую мы только что учинили друг другу. Разбитые наши носы дружно, согласно шмыгнули. Кто‑то непроизвольно, судорожно, с прерывистым всхлипом вздохнул. Словом, заключительная часть преподавателевой речи пришлась решительно не по вкусу всем. Видя это, Кот передернул усами, пряча под ними нехорошую ухмылку. Мы же – опять все разом – впервые за эти тягостные минуты подняли свои глаза на Марию Ивановну – инстинктивно, точно так же, как Рубцов Янька, ища у нее ежели и не защиты, то хотя бы сочувствия. Что‑то материнское, жалеющее и именно сочувствующее и мерцало в ее добрых и, как всегда, грустноватых глазах, но это было все, что могла нам предложить старая, боящаяся своего жестковатого мужа учительница. Мне показалось, что в реденьких ее ресницах, не прикрывавших красноватых век, запуталась одна слезинка.