ОНТОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ ФАНТАСТИКИ
Монография
Киров
ООО «Радуга‑ПРЕСС»
УДК 111.1
ББК 87.21
К68
Печатается по решению
редакционно‑издательского совета
Вятского государственного гуманитарного университета
Рецензенты:
В. Ф. Юлов, доктор философских наук, профессор кафедры философии и социологии Вятского государственного гуманитарного университета;
Н. С. Семено, кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой социальной работы Кировской государственной медицинской академии
Коротков, Н. В.
К68 Онтология и гносеология фантастики: монография / Н. В. Коротков. – Киров: ООО «Радуга‑ПРЕСС», 2014. – 155 с.
ISBN 978‑5‑906544‑04‑9
В контрапункт сложившейся в фантастиковедении традиции, когда через анализ фантастических произведений исследователи в той или иной мере выходят на уровень философских обобщений, автор данной монографии через философскую проблематику выходит к фантастике, показывая продуктивность и, в известном смысле, необходимость использования фантастических сюжетов и образов для разрешения онтологических, гносеологических и прочих философских вопросов. В качестве «смычки» между философией и фантастикой автором используется концепт «коперниканское искусство», разработанный основоположником русского космизма Н. Ф. Федоровым.
Все иллюстрации взяты из открытых интернет-источников.
Автор будет благодарен за отзывы и замечания по содержанию монографии.
E-mail: n_korotkov@mail.ru
УДК 111.1
ББК 87.21
| ISBN 978‑5‑906544‑04‑9 | © Вятский государственный гуманитарный университет (ВятГГУ), 2014 © Коротков Н. В., 2014 |

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. 5
Глава 1. ФЕНОМЕН ФАНТАСТИКИ:
ОНТОЛОГО‑ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1.1. Онтологические и эпистемологические аспекты
продуктивного воображения. 7
1.2. Эпистемология фантастики как художественно‑философского феномена культуры 28
1.3. Фантастическое моделирование
как форма социального конструирования. 48
Глава 2. ОНТОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ ФАНТАСТИКИ
В СВЕТЕ РУССКОГО КОСМИЗМА
2.1. Взаимодополнительность различных форм рациональности
в «философии общего дела» Н. Ф. Федорова. 80
2.2. Художественная фантастика
как «коперниканское искусство». 100
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 124
ПРИЛОЖЕНИЯ.. 126
Приложение 1 (публицистическое): «Аватар» как метод
радикальной вестернизации. 126
Приложение 2 (беллетристическое): Решающий эксперимент. 132
Приложение 3 (компаративистское): Звездные войны
на руинах Великого Кольца. 136
Список литературы.. 143
Старшему брату Виталию Ивановичу Борисову,
в спорах с которым зародился и разветвился
замысел данной книги

ВВЕДЕНИЕ
Аллегория задает уже известный мир, лишь «вывертывая» его наизнанку, – фантастика творит новые миры.
А. Е. Левин, философ
Подлинная фантастика – это не другой мир, а наш мир как другой.
Г. Г. Амелин, философ
Литературоведы, с легкостью вычленив отличительные (типологические) признаки детектива и любовного романа, споткнулись на фантастике. Не нашлось у нее ярко выраженных отличительных признаков. И знаете, какое из этого проистекает заключение? Фантастики нет. Нету нас.
Е. Лукин, писатель‑фантаст
Исследования многих комментаторов уже пролили достаточно тьмы на этот предмет, и вполне возможно, что, продолжай они в том же духе, мы скоро не будем ничего о нем знать.
М. Твен, гений
Согласно расширенной формулировке принципа дополнительности Н. Бора, строгое определение любого понятия и его практическое применение взаимно исключают друг друга [160, с. 46]. Поэтому мы предпочли в деле прояснения сути объекта нашего исследования – понятия «фантастика» и однокоренных с ним – ничем не ограничивать диапазон их использования, чтобы, если можно так выразиться, по «делам» их узнать их. В связи с этим в данной работе фантастические сюжеты и образность используются не только в качестве объекта изучения, но и как средство осмысления объекта, методологический прием; прецедент подобного подхода к проблеме создал еще Г. С. Альтшуллер в своих «Этюдах о фантазии».
Один из сущностных принципов фантастики – проектное упреждение социальной практики. Фантастика выступает в качестве особого феномена культуры, позволяющего моделировать био‑, идео‑, семио- и техносферы («вторичные миры»), по ряду параметров альтернативные существующим, а также тестировать их на взаимную совместимость, причем отдельные разработки «инсталлируются» непосредственно в «первичный мир». В связи с этим можно утверждать, что именно в фантастике находит предельное выражение продуктивное воображение в своем собственном смысле, то есть как способность исходно произвести («про‑из‑вести» – вывести наружу), обналичить, воплотить предмет [30, с. 50, 57; 202, с. 79]. Характерно, что многие современные эпистемологические проблемы были впервые поставлены именно в художественной фантастике, в частности проблема искусственного интеллекта.
Изучение открытых саморазвивающихся человекоразмерных систем и их взаимодействия друг с другом подразумевает выявление связей между внутринаучными и общесоциальными ценностями, что в эпистемологии, даже неклассической, тормозилось установкой на свободу науки от ценностей, в то время как фантастика олицетворяет собой принцип доверия субъекту познания. Так, по утверждению астрофизика, писателя‑фантаста и фантастиковеда П. Р. Амнуэля, если традиционная установка научного познания – «презумпция естественности», объяснение исследуемых явлений через выявление их природной обусловленности, то «научная фантастика» (НФ) исходит из «презумпции искусственности» (в этом, кстати, можно усмотреть и скрытый религиозный пафос НФ[1]).
Наконец, во избежание превратного понимания заявленного в названии предмета исследования необходимо отметить, что в общем и целом мы исходили из предпосылки об онтологичности любой гносеологии[2] и постулата М. Хайдеггера о том, что «фундаментальная онтология», основополагающая по отношению ко всем другим онтологиям, выводится из экзистенциальной аналитики присутствия (Dasein).
Глава 1. ФЕНОМЕН ФАНТАСТИКИ:
ОНТОЛОГО‑ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1.1. Онтологические и эпистемологические аспекты
продуктивного воображения
Два человека встретились на вершине холма. Один человек увидел перед собой ужасное существо с огромным количеством конечностей и безголовым поблескивающим торсом. Существо столь инородное, что оно прекрасно переносило леденящую марсианскую стужу, разгуливая по планете нагишом и без дыхательного аппарата, хотя воздуха тут, считай, что нет. Другой человек увидел перед собой ужасное существо – невероятно! – всего с четырьмя конечностями и каким‑то уродливым наростом на торсе. Существо столь инородное, что в таком теплом климате оно скрывало свое тело тяжелой одеждой и пряталось от освежающих дуновений ветра под гермошлемом.
Оба человека истошно закричали и бросились в разные стороны.
Э. Бучер. Человек
…На некоторых больших планетах с исключительно плотной атмосферой люди летали с помощью собственных крыльев. Еще были люди, которые произошли от похожего на слизняка предка – то есть не по линии позвоночных, тем более не от животных.
О. Стэплдон. Создатель звезд
Принцип доверия субъекту познания. – Кант vs Достоевский. – «Антропный» принцип. – «Практический разум» – ненаучная форма рациональности? – Рационализм: познание как дознание. – «Другой» – Двойник или Собеседник? – Казус сороконожки. – Субъект познания как возможный человек.
Ядром всей современной гносеологической проблематики, в том числе связанной с эпистемологическим статусом воображения, на наш взгляд, является «принцип доверия субъекту познания», в более точной формулировке – «принцип доверия человеку как субъекту познания». Согласно данному принципу, «чистый разум», логический интеллект выступают хоть и необходимым, но недостаточным условием познания, как и критерием истинности полученного знания. Субъектом познания является именно человек как уникальная психосоматическая целостность, несводимая к совокупности своих свойств, единство телесного, социального и трансцендентального. При этом человек в данном контексте не отождествляется со своим внешним анатомическим обликом, вообще – с конкретным биологическим видом. В некоторых философских традициях в этом же значении используют понятие «личность». Так, У. Джемс выделяет в личности духовный, социальный и физический аспекты (причем последний не сводится к индивидуальной телесности, включая в себя также одежду, жилище, семью данной личности и т. п.) [49, с. 15]; Л. П. Карсавин понимает личность как «телесно‑духовное существо, определенное, неповторимо‑своеобразное и многовидное» [82, с. 238]. С. Л. Франк пишет о том, что тело наше тоже личностно, ибо«служит проводником во внешнем выражении личности того, что наполняет ее внутри, оно не приклеено к личности, а есть живая часть личности» [113, с. 88].
Напротив, картезианское отождествление разума и личности нельзя признать правомерным: из факта мышления следует только существование самого мышления, но ни жизнь как таковая, ни личностное бытие к нему не сводятся – равно как и не выводятся из него. По справедливому замечанию А. А. Гусейнова, «я включен в теоретический мир в той мере, в какой я совпадаю с другими, детерминирован внешними причинами, встраиваем в закономерные ряды в качестве тела, живого существа, случайной величины и т. д., т. е. в той мере, в какой я не есть я» [39]. Поэтому картезианский рационализм и связанный с ним механицизм, уподобление организма механизму, дают неадекватное знание («полузнание») о бытии в целом, то есть не только о становлении бытия (чему Р. Декарт уделил должное внимание, разработав вихревую концепцию космогенеза), но и о бытии становления, о жизни как философской категории, соразмерной «духу» и «материи», о субъекте познания как целостном человеке, то есть единстве трансцендентальной и эмпирической «субъективностей» (говоря языком последующей философии), и прежде всего о характере самого этого единства. Р. Декарт пишет: «Так как мы не представляем себе, чтобы тело каким‑либо образом мыслило, у нас есть основание полагать, что все имеющиеся у нас мысли принадлежат душе» [46, с. 483]. Иными словами, вопросы, каким образом и в какой степени мышление обусловлено телесностью, наконец, можно ли вообще говорить о подобной обусловленности, Декартом даже не ставятся; основоположник рационализма ограничивается лишь определением телесной топологии мыслящей субстанции (шишковидная железа как «седло души»).
Введение И. Кантом понятия трансцендентальной субъективности, с одной стороны, ограничило область применимости научного познания «миром явлений» (что ставили Канту в заслугу даже традиционно выступавшие в оппозиции «западному одностороннему рационализму» русские религиозные философы [110, с. 81]), но, с другой стороны, способствовало отождествлению познания как такового с научным, подразумевающим соответствие эмпирических представлений категориям чистого разума. Мир «вещей‑в‑себе» при таком подходе выносится за границы любой возможной эпистемологии, равно как и альтернативные («дополнительные») научным формы познания. Например, бессмысленным оказывается вопрос о возможности/невозможности эквивалентного перевода знания, выраженного (даже: впервые «схваченного») в художественной форме, в форму научную, логико‑силлогистическую (в том числе научно‑философскую): можно ли, например, без потери смысла пересказать «Так говорил Заратустра» на языке научных понятий или свести в систему философию Ф. Ницше. Ведь то, что не поддастся подобному переводу, просто не будет научным мышлением идентифицировано в качестве знания (так, образы фантазии, то есть, по определению Канта, те представления, которые «не соответствуют понятию о предмете», данными опыта не являются и, следовательно, познавательного значения не имеют [78, с. 937]). Таким образом, с точки зрения ученого, данный перевод может казаться эквивалентным, но не быть таковым в горизонте мифопоэтического или религиозного мышления.
Как об этом говорил Ф. М. Достоевский (устами Свидригайлова): «Я согласен, что привидения являются только больным; но ведь это только доказывает, что привидения могут являться не иначе как только больным, а не то, что их – нет, самих по себе. …Привидения – это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир» [53, с. 228]. Развивая эту мысль, В. В. Розанов в трактате «О “Легенде о Великом инквизиторе” Ф. М. Достоевского» расширяет ряд личностных условий познания: так, существование незримых духовных связей между людьми способно наиболее ясно открыться человеку именно в состоянии выпадения из системы этих связей, что является закономерным итогом убийства им другого человека.
Но с точки зрения идеи трансцендентальной субъективности эти связи несущественны для познания, а научные выводы о мире равноценны и для человека, и для марсианина, и даже для «привидения», то есть не зависят от биологического (вообще – материального) субстрата существа, занимающегося научными исследованиями. Тем не менее, как заметил современный феноменолог М. Мерло‑Понти, «мое тело вовсе не является для меня всего лишь фрагментом пространства; не обладай я телом, пространство для меня не существовало бы» [132, с. 142]. Подобную точку зрения задолго до него обосновывал английский теолог Э. Эбботт в своем научно‑фантастическом романе «Флатландия» (1884), где описан двухмерный мир, один из жителей которого в мистическом опыте общения с божественной Сферой получил знание о существовании третьего измерения пространства, после чего был брошен властями в тюрьму как опасный еретик.
Наконец, в связи с рассматриваемой темой можно обратиться и к так называемому «антропному принципу», чье название, впрочем, не соответствует содержанию обозначенного им парадокса, из которого следует, по сути, уникальность не только лишь человека, а всей земной биосферы в целом. Ведь даже если бы не существовало «феномена человека в космосе», парадокс, условно обозначаемый как «антропный принцип», оставался бы; сформулировать его можно так: будь значения универсальных физических постоянных чуть другими, жизнь на углеродной основе не могла бы существовать. В частности, «достаточно увеличить массу электрона в три раза, чтобы… всё во Вселенной состояло бы из одних нейтронов» [65, с. 229]. Но, в конце концов, разум гипотетически возможен и на нейтронной основе, как показал астрофизик и писатель П. Р. Амнуэль в НФ‑рассказе «Преодоление»: «Нейтронная звезда как носитель разума. Солнце, сжатое до размеров небольшого городка. Немыслимое давление заставляет нейтроны слипаться друг с другом. Возникают длинные нейтронные цепочки – нейтронные молекулы. Неорганическая жизнь. Вся звезда становится единым мозгом. В ее сверхпроводящем и сверхтекучем теле все нейтронные молекулы оказываются связанными информационной цепью сигналов. Огромный мозг в черепной коробке размером двадцать километров. Мозг, для которого наша Земля – ничто, пустота, сквозь которую можно пронестись, не заметив... И однажды звезда осознает себя, начинает быть...» [10] Но если возможен разум («разумный наблюдатель») на нейтронном субстрате, то существование разума на углеродной основе, то есть земного человечества, имеет самостоятельный смысл только при допущении, что специфика этих двух разумов сущностно различается, знание, полученное ими, будет по‑разному «отражать» бытие (или даже отражать разное, в буквальном смысле, бытие; либо разные атрибуты бытия, которых, если верить Б. Спинозе, существует гораздо больше, чем только пространство и время). Тем не менее, в условиях недоказанности научно‑фантастической гипотезы существования разумных планет и звезд (получившей и собственно научное обоснование – в книге В. А. Лефевра «Космический субъект» 1997 года), остается в силе и предположение о необходимой связи между разумом как таковым и углеродным биологическим субстратом. В любом случае приходим к выводу о наличии сущностной связи между телесностью (пусть даже в «снятой» – в перспективе ноогенеза – форме [170, с. 117–125]) и когнитивными способностями.
Справедливости ради надо отметить, что кантовское понятие «практического разума» можно трактовать и в качестве ненаучной формы рациональности [58, с. 14–15], однако, согласно замечанию М. М. Бахтина, «практический разум» болен всё тем же «роковым теоретизмом»: поступок как «моя историческая, индивидуально ответственная активность» может быть лишь post factum описан и понят с точки зрения формальной этики [13]. Действительно, следование категорическому императиву снимает с индивида личностную ответственность за последствия его «моральных» (в антитезу «легальным») поступков. Грубо говоря: делай, что должен, а там хоть трава не расти. Кроме того, категорический императив, не будучи опосредован заповедью любви к ближнему, легитимирует, среди прочих, и антигуманные поступки. В принципе, солдат‑наемник, по контракту убивающий в горячих точках бойцов армии противника, может мотивировать свои действия желанием героической смерти в бою (не это ли имел в виду Ницше, когда писал, что «от категорического императива разит жестокостью»? [144, с. 445]). Сам Кант даже не рассматривает такую возможность, и в этом ее категорическом непризнании «практический разум» выдает себя как разум прагматический, утилитаристский (на что указывал еще Т. Адорно в труде «Проблемы философии морали»), сводится к гедонизму, к личному благополучию как высшей ценности. За любовью же Кант вообще не признает ни гносеологического, ни морального значения – в силу ее произвольного, спонтанного характера; в отличие от языческого философа Платона, отстаивавшего (как и – много позже – «конспиративный» русский философ М. М. Бахтин [12, с. 234–235]) колоссальную ценность любви в эйдетическом познании, «усмотрении сущности» вещи.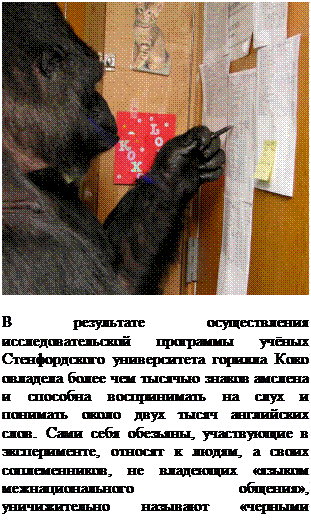 Кроме того, по всей видимости, категорический императив не распространяется на животных – в силу их невменяемости (невозможности вменить им что‑либо в долг). Если жестокость по отношению к животным в контексте кантовской этики и может быть осуждена, то лишь постольку, поскольку она ожесточает сердце насильника‑человека [79, с. 310–311]. Тем не менее научные открытия последних лет, доказавшие наличие у животных многих качеств, раньше считавшихся атрибутивными для homo sapiens, привели к распространению на животных некоторых прав человека (например, в последние годы медицинские опыты на высших приматах законодательно запрещены в Англии и Новой Зеландии [161]). В связи с этим примечательно замечание З. П. Морохоевой о том, что в представлении древних бурят (впрочем, предки других народов тоже не являются здесь исключением) «люди и животные... не отличаются друг от друга, это всё люди: человек – это человек земли, лебедь – человек неба, медведь – горный человек. Люди превращаются в животных, и наоборот» [139, с. 13]. Знание об общности всех форм жизни (которое в современной науке выражается понятием «универсальный генетический код») доступно дикарю не логико‑силлогистически, а посредством «свободного варьирования в фантазии» (если использовать терминологию Э. Гуссерля, выдающегося продолжателя заложенной Р. Декартом трансценденталистской традиции в философии). Я могу представить (вообразить) себя иным, мысленно «достраивая» к своей телесности дополнительные модусы или изменяя атрибутивные характеристики: например, воображая себя сороконогим (если вслед за Платоном трактовать в качестве атрибутивного человеческого свойства двуногость [51, с. 226]). В конце концов, я могу прямо представить себя сороконожкой, а сороконожку – мной, подобно китайскому мудрецу, гадавшему, бабочка ли он, которой снится, что она – человек, или все‑таки человек, возомнивший себя бабочкой. В качестве закономерного следствия такого вчувствования («вживания», по Бахтину [13]) можно, кстати, рассматривать популярность среди буддистов вегетарианства, тогда как, например, вивисекция неразрывно связана с духом картезианства. Характерно, что прямой научно‑практической предпосылкой рационализма как особой методологии была аутопсия (медицинское вскрытие трупов), которая в христианском мире табуировалась и качественный сдвиг в развитии которой приходится как раз на время жизни Р. Декарта; последний и сам был виртуозным мастером препарирования [151, с. 109]. Традиционной метафорой научного естествознания являлась деятельность инквизитора, с помощью широкого пыточного инструментария добивающегося признания от еретика (природы). Знаменательно, что апофеозом философского и научного рационализма стали, в известном смысле, газовые камеры: согласно З. Бауману, ужас от нацистских массовых убийств – это ужас от того, насколько рационально они были организованы.
Кроме того, по всей видимости, категорический императив не распространяется на животных – в силу их невменяемости (невозможности вменить им что‑либо в долг). Если жестокость по отношению к животным в контексте кантовской этики и может быть осуждена, то лишь постольку, поскольку она ожесточает сердце насильника‑человека [79, с. 310–311]. Тем не менее научные открытия последних лет, доказавшие наличие у животных многих качеств, раньше считавшихся атрибутивными для homo sapiens, привели к распространению на животных некоторых прав человека (например, в последние годы медицинские опыты на высших приматах законодательно запрещены в Англии и Новой Зеландии [161]). В связи с этим примечательно замечание З. П. Морохоевой о том, что в представлении древних бурят (впрочем, предки других народов тоже не являются здесь исключением) «люди и животные... не отличаются друг от друга, это всё люди: человек – это человек земли, лебедь – человек неба, медведь – горный человек. Люди превращаются в животных, и наоборот» [139, с. 13]. Знание об общности всех форм жизни (которое в современной науке выражается понятием «универсальный генетический код») доступно дикарю не логико‑силлогистически, а посредством «свободного варьирования в фантазии» (если использовать терминологию Э. Гуссерля, выдающегося продолжателя заложенной Р. Декартом трансценденталистской традиции в философии). Я могу представить (вообразить) себя иным, мысленно «достраивая» к своей телесности дополнительные модусы или изменяя атрибутивные характеристики: например, воображая себя сороконогим (если вслед за Платоном трактовать в качестве атрибутивного человеческого свойства двуногость [51, с. 226]). В конце концов, я могу прямо представить себя сороконожкой, а сороконожку – мной, подобно китайскому мудрецу, гадавшему, бабочка ли он, которой снится, что она – человек, или все‑таки человек, возомнивший себя бабочкой. В качестве закономерного следствия такого вчувствования («вживания», по Бахтину [13]) можно, кстати, рассматривать популярность среди буддистов вегетарианства, тогда как, например, вивисекция неразрывно связана с духом картезианства. Характерно, что прямой научно‑практической предпосылкой рационализма как особой методологии была аутопсия (медицинское вскрытие трупов), которая в христианском мире табуировалась и качественный сдвиг в развитии которой приходится как раз на время жизни Р. Декарта; последний и сам был виртуозным мастером препарирования [151, с. 109]. Традиционной метафорой научного естествознания являлась деятельность инквизитора, с помощью широкого пыточного инструментария добивающегося признания от еретика (природы). Знаменательно, что апофеозом философского и научного рационализма стали, в известном смысле, газовые камеры: согласно З. Бауману, ужас от нацистских массовых убийств – это ужас от того, насколько рационально они были организованы.
Итак, те моральные принципы, которые были впервые закреплены (осознаны) в мифологической форме, не могли быть подвергнуты верификации с помощью логико‑силлогистического интеллекта, поскольку последний еще не существовал в качестве особой формы мышления. Но несмотря на это мифопоэтическое моральное знание («мифоэтическое», если можно так выразиться) оказалось в ряде случаев прозорливее рационалистических концептуализаций морали, основным критерием истинности которых являлось собственно логическое, понятийное мышление. Не случайно сейчас происходит переоценка мифологического знания, отношения первобытного человека к природе как матери, которая по определению не может быть «собственностью» (например, в Монголии не существовало купли‑продажи земли вплоть до ХIV века [139, с. 31], то есть до принятия монотеистической религии, ислама). Заговорили даже о необходимости диалога с природой, исключающего потребительское к ней отношение [152, с. 263–264].
Исходным нравственным отношением, предваряющим всевозможные философские и научные рационализации морали, является такое, при котором я отношусь к себе с точки зрения Другого, а к Другому как к себе самому. Парадокс Другого, как отмечает, в частности, А. М. Пятигорский, состоит в том, что «”другой” дан мне в мышлении, только когда или он уже стал мной, перестав быть “другим”, или я уже стал им, перестав быть собой» [156, с. 404]. Отсюда философ делает вывод, что никакая феноменология «другого» невозможна без предпосылки о «друг о м друг о м» (или «друг о м» «другого»), то есть того в Другом, чем я не могу стать в принципе и что не может стать мной [156, с. 405]. По замечанию Ю. М. Лотмана, именно эта «область непереводимого», исключенная из диалога, и задает его познавательную ценность [115, с. 17]. Однако трансцендентальная субъективность, всегда равная самой себе, не является достаточной предпосылкой диалога, а следовательно, и сознания, сама природа которого диалогична: элементарный акт рефлексии возможен лишь через отношение к самому себе как к Другому [13; 102, с. 52]. Собственно, догматизм (как в нравственности, так и в мышлении) связан с неспособностью человека абстрагироваться от самого себя, представить себя Другим, а Другого – собой: например, себя – медведем, а медведя – «горным человеком». Характерно, что Кант, критически отзываясь о творческой силе воображения, утверждал невозможность помыслить разумное существо, будь то ангел или Бог, иначе как в образе человека [78, с. 946]; с этим утверждением закономерным образом «рифмуется» последующее отождествление О. Контом Бога с человечеством как единством всех прежних, нынешних и будущих поколений (которые, не рискуя погрешить против логики Конта, можно прямо уподобить непрерывно обновляющимся клеткам этого сверхорганизма). Закономерно поэтому, что в гуссерлевской теории интерсубъективности, по сути, происходит отождествление другого тела с телом Другого, что, на наш взгляд, неправомерно. По Э. Гуссерлю, необходимым условием постижения другого Я является признание сущностной аналогичности всех трансцендентальных эго, гарантом которой, в свою очередь, выступает физическое и физиологическое сходство всех эмпирических субъектов [28, с. 153; 41, с. 44]. Таким образом, по сути, интерсубъективность в гуссерлевской «редакции» означает не постижение Другого, а умножение Я. Собственно, от такой подмены предостерегал еще А. А. Ухтомский: «...Ужасно тесно спаяны между собой темы о Двойнике и Собеседнике: пока человек не освободился еще от своего Двойника, он, собственно, и не имеет еще Собеседника, а говорит и бредит сам с собою; и лишь тогда, когда он пробьет скорлупу и поставит центр тяготения на лице другого, он получает впервые Собеседника [21, с. 4]. Здесь надо лишь уточнить, что велик риск принять за «лицо» Другого его «зад» (равно как «сохранить лицо» для двух разных людей может означать прямо противоположное).
Результатом самопознания с помощью «голого» интеллекта является отождествление Я с интеллектом (декартовское «cogito», кантовское «трансцендентальное единство апперцепции»). Попытки вундеркиндов объяснить, алгоритмизировать свой талант чреваты его утратой: «так сороконожка ходить разучилась». Как отмечал М. К. Мамардашвили, предпосылкой объяснения чего‑либо является полное «изъятие» из него сознания. Но в данном случае изъятым оказывается творческий дар. Последнее слово отсылает к религиозно‑философскому представлению о том, что человеческим в человеке является божественное (С. Л. Франк). Мамардашвили, выражая ту же самую мысль, предпочитал говорить о «сверхчеловеческом» [126, 112–114]. Иными словами, речь идет не об эмпирическом субъекте («человеке‑машине» Ж. Ламетри) и не о кантовской трансцендентальной субъективности, всегда равной самой себе, а о том «возможном человеке», который только и является предметом философии [122, с. 11]. Но тогда единственно возможным подлинным объяснением человека как познающего субъекта является использование им своего дара, то есть собственно творчество; равно как лучшая, исчерпывающая все его возможные трактовки интерпретация художественного текста – всегда сам этот текст. Поэтому Мамардашвили говорил о ньютоновской механике, что «автор этого произведения… сам произведен в пространстве этого произведения, извлечен созданием его из глубин человека “Ньютон”, о которых последний ничего не знал или знал всякие пустяки» [123, с. 308]. В процессе познания происходит сущностная трансформация человека (учитывая сартровский тезис о том, что сущность человека не предшествует существованию), развитие у него новых «органов мышления», которые, с одной стороны, нельзя «свести к чистому “духу”… а с другой – дедуцировать их из имеющихся или возможных в будущем физических законов» [123, с. 296]. Таким образом, у Мамардашвили речь идет не о трансцендентальном субъекте, использующем тело в качестве «зонда» (А. Ш. Тхостов [191, с. 3–13]), – сам субъект не может быть «отмыслен» от тела, поэтому для характеристики познающего субъекта Мамардашвили в труде «Стрела познания» вводит понятие «мыслеорганизм».
Одно и то же есть мысль и то, о чем мысль существует: ибо без бытия, в котором её выраженье, мысли тебе не найти.
Парменид. О природе
Dasein и дизайн: характер взаимосвязи. – Культуроличность: неотмыслимость культуры от субъекта познания. – ИскИн: сомнительный субъект (познания). – Фантастическая образность как средство перевода трансцендентного в имманентное. – Воображение и интуиция.
В свете вышеизложенного правомерно утверждать о существовании прямой связи между Dasein и дизайном, сознанием и телесностью: трансцендентальная субъективность является залогом аподиктичности опыта, но сама возможность качественно нового опыта связана с качественной же трансформацией субъекта познания, который не может быть отмыслен от своего физического аспекта, причем, поскольку в человеке невозможно разделить естественный и сформированный культурой слои поведения, физический аспект личности не должен отождествляться с индивидуальной телесностью.
В одно время с разработкой М. Шелером проекта философской антропологии русский ученый и философ‑евразиец Н. С. Трубецкой выступил с во многом созвучным, но, пожалуй, еще более амбициозным и перспективным проектом «персонологии» как особой науки о личности, причем не только «частночеловеческой», но и «многочеловеческой» («симфонической» в терминологии иерархического персонализма или «коллективной», говоря современным языком). Более того, окружающая природа («месторазвитие», по П. Н. Савицкому, «вмещающий ландшафт», по Л. Н. Гумилеву), в которую «вписана» та или иная симфоническая личность, должна также рассматриваться в качестве неотделимой части такой личности (по аналогии с психофизическим единством личности частночеловеческой). Как позже писал Ю. М. Лотман, пространство культуры не существует вне противопоставления миру природы, граница между ними проходит внутри человеческой психики, а следовательно, «неосторожно было бы категорически исключить животный мир из сферы культуры» [115, с. 31]. Персонология, с одной стороны, должна была стать общим фокусом исследований социогуманитарных и естественнонаучных дисциплин, с другой – способствовать всестороннему развитию личности (понимаемой в обоих вышеуказанных смыслах), т. е. быть даже больше чем наукой [189, с. 151–157]. Проект Н. С. Трубецкого так, по сути, и не был осуществлен, возможно, в силу некоторой своей утопичности; однако для нас важна открытая им предельная перспектива осмысления человека: можно говорить не только о концепциях личности в разных культурах, но о самих этих культурах в целом как о различных концептуализациях личности и воплощениях феномена человека. Эта же самая мысль встречается и у близкого к русскому органицизму и евразийству О. Шпенглера: «Быть знатоком людей – это значит разбираться также и в тех человеческих организмах большого стиля, которые я называю культурами, понимать их выражение лица, их язык точно так же, как понимают всех их у отдельного человека» [225, с. 143]. В данном контексте снимается граница между познанием бытия и самопознанием личности, человеческого в человеке (причем как «слишком человеческого», так и «сверхчеловеческого», как сферы повседневности, так и самых невероятных фантазмов, пестующих «волю к власти»). О. Шпенглер прямо пишет, что в будущем «все науки… сделаются фрагментами одной‑единственной колоссальной физиономики всего человеческого» [226, с. 31], т. е. возникнет подлинная «всемирная история», которая объединит в качестве своих элементов астрономию, геологию, биологию, антропологию, историю человеческих культур, историю отдельных элементов культур, семейную хронику и биографию.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что вне культуры невозможно познание, равно как компьютерный «чистый» интеллект не способен продуцировать знание. В этом контексте весьма показательна, в частности, проблема искусственного интеллекта (ИскИна), над созданием которого ученые тщетно бьются уже многие десятилетия. Вместе с тем если под интеллектом понимать способность сбора, хранения, передачи и обработки данных, то необходимо признать, что искусственный интеллект уже создан. Так, «гуру искусственного интеллекта» Марвин Минский в беседе с автором нашумевшей книги «Конец науки» Джоном Хорганом пренебрежительно отозвался о тех, кто сомневается, что компьютеры обладают сознанием. Как утверждает Минский (по сути, отождествляя сознание и интеллект), «сознание – это просто тип короткой памяти, «низкосортная система для ведения счетов. Компьютерные программы, такие как LISP, которые имеют свойства, помогающие восстановить их этапы обработки данных, “очень сознательны”, более, чем люди с их жалко мелкими банками памяти» [214, с. 298–299]. Между тем такой ИскИн поразительно напоминает «идеального раба», выведение которого из узников концлагерей (изначально задумывавшихся и используемых в качестве исследовательских лабораторий) было одной из актуальных задач нацистской науки и который оказался абсолютно бесполезен – в силу полного своего обезличивания, «расчеловечивания». А ведь даже в «Матрице», признанной классике киберпанка, люди, по некоторым интерпретациям, сохранены именно в качестве существ, причастных к сознанию: ведь вместо людей в качестве аккумуляторов энергии машинами вполне мог бы использоваться крупный домашний скот, как на это указывает Р. Сойер [175]. Поскольку искусственный интеллект гораздо эффективнее человеческого, можно предположить, что машины заинтересованы в сохранении именно творческого воображения, фантазии: ведь даже для агента Смита, обретшего свободу воли, единственно доступной формой «творчества» остается самокопирование, то есть вторчество. Опять же, характерно, что, согласно Архитектору, первая Матрица была смоделирована по образу утопии, общества без насилия и социальных конфликтов – в полном соответствии с просветительским автономным (формально‑логическим, «машинным») разумом. Однако люди не смогли прижиться в такой беззаботной симуляции и стали массово из нее «абортироваться» – в полном соответствии с предостережениями русской экзистенциальной философии («сверхлогичной», по характеристике А. Лосева): вспомнить хотя бы «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского с его «дважды два пять премилая иногда вещица» и мн. др.
 Говоря о субъекте познания как о культуроличности, о немыслимости субъекта познания вне той или иной культуры, нельзя, тем не менее, обойти вниманием экзистенциалистский постулат, согласно которому объективированные результаты трансцендирования личности, то есть собственно культура, немедленно омертвляются, выступая чем‑то абсолютно чуждым человеку как познающему субъекту, ибо, согласно определению Ж.‑П. Сартра, сознание есть то, что оно не есть, и не есть то, что оно есть. Таким образом, философия, понимаемая как «самосознание культуры» (В. В. Миронов), всегда является контркультурой. С учетом этой оговорки можно сказать, что культура входит в субъект познания составной частью (бердяевское: не личность – часть природы или социума, а социум и природа – части личности [16, с. 28]), но одновременно она и не входит в субъект познания – теми своими функциями, которые осуществляют самоподдержание, воспроизводство культурных форм вместо их преодоления (трансцендирования), то есть трансформации в новые формы. Поэтому М. К. Мамардашвили определяет познание как «экспериментирование с формами, а не сами формы». Притом что культурные формы являются условием раскрытия тех или иных возможностей человека, творчество новых форм (познание), как указывает Мамардашвили, размещается в докультурном (акультурном) зазоре [123, с. 300]. Отсюда, кстати, становится понятным смысл сформулированного Б. П. Вышеславцевым «закона творчества во всей его широте (поэзии в широком смысле): оно творит из мечты, из фантастического образа, из невозможного. Но здравый смысл называет невозможное «обманом»», поскол
Говоря о субъекте познания как о культуроличности, о немыслимости субъекта познания вне той или иной культуры, нельзя, тем не менее, обойти вниманием экзистенциалистский постулат, согласно которому объективированные результаты трансцендирования личности, то есть собственно культура, немедленно омертвляются, выступая чем‑то абсолютно чуждым человеку как познающему субъекту, ибо, согласно определению Ж.‑П. Сартра, сознание есть то, что оно не есть, и не есть то, что оно есть. Таким образом, философия, понимаемая как «самосознание культуры» (В. В. Миронов), всегда является контркультурой. С учетом этой оговорки можно сказать, что культура входит в субъект познания составной частью (бердяевское: не личность – часть природы или социума, а социум и природа – части личности [16, с. 28]), но одновременно она и не входит в субъект познания – теми своими функциями, которые осуществляют самоподдержание, воспроизводство культурных форм вместо их преодоления (трансцендирования), то есть трансформации в новые формы. Поэтому М. К. Мамардашвили определяет познание как «экспериментирование с формами, а не сами формы». Притом что культурные формы являются условием раскрытия тех или иных возможностей человека, творчество новых форм (познание), как указывает Мамардашвили, размещается в докультурном (акультурном) зазоре [123, с. 300]. Отсюда, кстати, становится понятным смысл сформулированного Б. П. Вышеславцевым «закона творчества во всей его широте (поэзии в широком смысле): оно творит из мечты, из фантастического образа, из невозможного. Но здравый смысл называет невозможное «обманом»», поскол