Курица во власти
Не дай Бог, курица получит власть,
Пусть даже маленькую, кроху, –
Она и яйца перестанет класть,
И всем в курятнике жить станет плохо.
Начнёт квохтать надменно целый день
И отдавать глупейшие приказы:
В мороз сгонять хохлаток на плетень,
В кормушку сыпать не пшено – заразу.
А петуха заставит голосить
Одно лишь то, что слух её ласкает
И что хозяина способно ублажить,
Для коего она здесь надзирает.
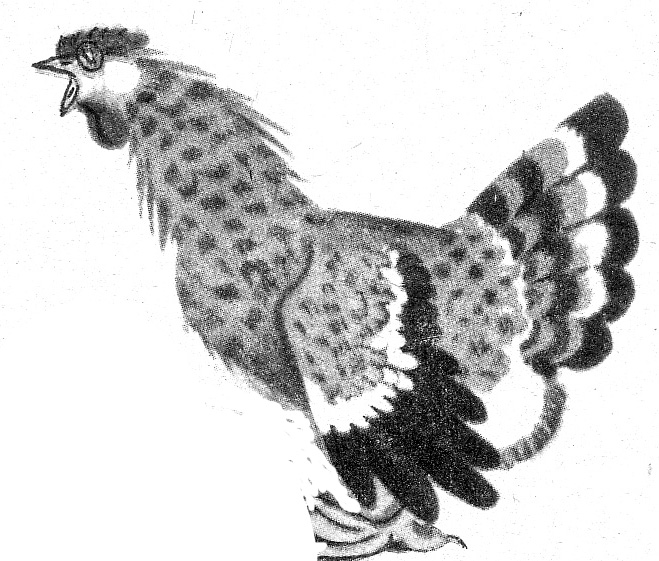 Одна надежда: в пике сих проказ
Одна надежда: в пике сих проказ
Хозяин сменится, и тот, который новый,
Курятник снова петуху отдаст,
А курица, утратив свою власть,
Отправится в кастрюлю безголовой –
Пока она всех глупостям учила,
Класть яйца начисто забыла.
С пустой рукой
Пришёл к врачу – он посмотрел на руку,
Хотя пришёл к нему я зуб лечить.
В детсад пришёл, чтобы устроить внука, –
И здесь на руку стали глаз косить.
Пришёл к чиновнику за ордером квартирным –
Он тоже прежде в руку заглянул.
И даже на вокзале, у сортира,
Свою к моей дежурный протянул.
А зуб по-прежнему мне не даёт покоя,
И внук гоняет кошек по двору,
Моя квартира стала долгостроем,
А на вокзал я в памперсе иду.
И вновь грешу на собственные гены,
Которые Господь в меня вселил:
Свои мыть руки надо непременно,
Другим же «мыть» он строго запретил.
Дорожные истории
* * *
Бесполезно помахав рукой несколько недель на остановках перед маршрутками с надписью «Льготная» (все водители, увидев мою белую, как лунь, голову, проскакивали мимо невыгодного пассажира), я решил покрасить волосы, вернув им изначальный цыганский цвет. Теперь и «льготные» останавливаются возле меня. Вот только когда я подаю водителям своё ветеранское удостоверение, те сначала с обидой смотрят на мою голову, ощущая себя обманутыми, а потом, бурча под нос явно не печатное, с досадой швыряют назад корочки.
* * *
На остановке «Школа милиции» в автобус впорхнула стайка детсадовских малышей с воспитательницами. Свободных сидячих мест в салоне не было, и почти все кресла занимали пожилые пассажиры. Поэтому очень скоро весь малолетний десант вертелся у них на коленях и шумно смаковал предстоящий поход в цирк. Однако когда возле цирка ребятня по команде наставниц сгрудилась возле задней двери, те не досчитались одного малыша.
Пропажей оказался мальчуган, которому так приглянулась чужая, но очень чадолюбивая бабушка, всю дорого красочно описывавшая ему поездки со своим внуком на море, что он тоже захотел отправиться с ней в Сочи и наотрез отказался от знакомства с необычным цирковым жирафом. Долгие уговоры будущего мореплавателя свернуть на первоначальный курс закончились тем, что сердобольная старушка вышла вместе с ним и всей его компанией у цирка и сама повела нового знакомого на встречу с живой каланчой джунглей.
* * *
Иду к автобусной остановке. Впереди – две девчушки. Одна сокрушённо делится с другой своими утренними страданиями: «Знаешь, блин, сначала у меня куда-то исчез учебник по математике. Нашла его – долго, блин, не могла найти туфли. Их нашла – куда-то, блин, запропастился мобильник …»
Что ещё в то утро пряталось от Маши-растеряши, я уже не слышал: девочки свернули к школе, мой же путь шёл прямо. С грустью подумал о девчушке, напомнившей мне известную героиню стихотворения Любови Воронковой: «Такая юная, а уже склеротик. Что же с ней будет в моём возрасте?»
О том, какой она станет через много лет, я узнал очень быстро – уже в автобусе, когда перед кондуктором полез в карман куртки за ветеранским удостоверением. Его там не оказалось, денег – тоже. Они остались дома, в другой куртке.
* * *
В тот день из маршрутки я вышел с больной шеей. Всю дорогу напротив сидела молодая особа в запредельно декольтированном платьице вреде ночной сорочки и явно без бюстгальтера. И хотя она уткнулась в свой планшет и не обращала на пожилого соседа никакого внимания, я, чтобы не травить себя, всё время поворачивал голову к окну.
* * *
Сегодня ночью чуть не до петухов просидел за компьютером и днём, сев в маршрутку, почти сразу уснул…
«Восточная». Кто спрашивал «Восточную»? «Да нет, вроде бы никто не спрашивал»… И маршрутка двинулась с остановки. Я неожиданно проснулся и как ошпаренный соскочил с сиденья: «Ой, извините, это я спрашивал!». И только когда выскочил из салона, понял, что какая-то потусторонняя сила спасла меня от более долгого возвращения домой. Ибо на самом деле я должен был выйти из маршрутки двумя остановками раньше «Восточной» и уже поэтому сам не мог её заказывать. И ещё я сделал вывод, что до чёртиков можно не только напиваться.
Эльвира РЕХИН
(Омск)
КОГДА Я БЫЛА МАЛЕНЬКОЙ
(Воспоминания о Севере)
Нас вытащили на улицу за ноги. Брызгали холодной водой. Я слышала, как говорили «Они не отойдут или останутся дурочками». Мне было 4 года. Я отошла через неделю.
Была поздняя осень. Помощница по хозяйству не знала, как обращаться с печкой, когда закрывают родители вьюшку.
Родители – коммунисты, были направлены на определённый срок для улучшения хозяйственной и культурной жизни местности.
Ночью в летнее время мы ложились спать под специальными сетками. Сетки от комаров. Они так звучно пищали и мне казалось, что комары большие, как стрекозы. Без сеток могли искусать, что и глаза не откроешь.
Научились варить из смолы жёлтую серу. Она была вкусная. Заодно, чистила зубы. Мы постоянно её жевали. Бегали по тропинкам. Собирали крупную землянику. Вокруг нас сновали разные зверушки, красивые бурундучки и другие мохнатые существа. Они останавливались и разглядывали нас. Как-то на столбе прочитали объявление «Больше не ходите. Медведи малину собирают». Мы и не ходили.
Зимой было скучно и утомительно. Мы рано научились играть в пешки. Мама читала нам разные сказки, которые мы запомнили навсегда и знали почти наизусть. Зимой к жилищу подходили волки. Им кидали крупные кости. Они с костями разбирались по- волчьи, дрались. По графику мужчины сидели на крыльце с ружьями для отпугивания волков, иногда постреливали. Я всё это видела в окно. У нас была собака Индус. До утра он лежал в коридоре и повизгивал.
Летом мама учила ребятишек разным русским играм: «А мы просо сеяли, сеяли». А что такое просо? Там для еды использовали совсем другую пищу. Ребята были разных национальностей и говорили на разных языках Заодно в играх мама учила детей русскому языку. Играли по-разному – перепрыгивали кусты, выбивали по рядам кости, как кегли. Кто проигрывал, получал щелчёк по лбу. Были и другие местные забавы.
Ханты – язычники. У них шаманы заговаривали болезни, просили погоду. Это очень интересное зрелище. Там жили люди, ссыльные по разным статьям. Они шили обувь из шкур, выпиливали из кости украшения и продавали в другие города через посредников. Бежать оттуда было невозможно. Волки съедят.
Сделали впервые уборную, объяснили, что где попало садиться неприлично. Дырочку выпилили большую. Ребятишки в неё падали. Тогда дети приспособились присаживаться за туалетом.
Питьевую воду каждый день привозили в бочке. Когда теплело, откуда-то появлялась лошадь с широкими ногами, низкорослая, смирная. Мы её целовали и расчесывали ей гриву с лавки. Забирались на лавку по очереди. Лошадь сама шла к колодцу, там выдавал воду взрослый человек. С тех пор я полюбила лошадей. Ловили рыбу, на наш детский взгляд, огромную. Головы рыб отрубали топорами, а туловище сдавали на склад. Маленькую рыбу – язя, щуку варили сами. Варили рябчиков. У этой птицы очень вкусное мясо. Однажды я с подружкой Любой шести лет отправилась ловить крокодилов. Оттолкнули лодку и, по течению, поплыли. Уснули в лодке. Нас искали. А после мы были наказаны. Нас хорошо выпороли. Ремнём привязали к столбу. Сказали, что это навсегда.
Нам всегда было весело и интересно без меры. Отец уезжал в командировки на гидроплане, который садился на воду.
Документы на возвращение родителей получили поздно, когда пароходы уже не ходили. Пришлось возвращаться на лошадях в санях. Останавливались менять лошадок на постоялых дворах. Спали на полу. На окнах у всех висела рыба, с неё капал жир, который от тепла приобретал отвратительный запах. Его называли ворвань.
В Омске нас поселили в дом, где не было ограды По четвергам приходил мужчина с рыжей бородой и колодкой на плече. Он кричал: «Точу ножи, ножницы!». Сбегалось много хозяек. Мы, открыв рот и вытирая сопли рукавом, воспринимали это, как сказку! Металл и камень давали веером такие молнии, описать которые трудно. Для нас это была сказка. Для нас – местных дикарей.
Мне не хватало общения. Я всё время убегала из дома. В школе поймали мышку. Я принесла её домой в портфеле, чтоб жалеть и кормить. Мне объяснили, что дома мышей не держат. Учительница говорила родителям: «Вот какая у Вас наивная девочка!».
Вот такое детство.
В 1961 году я уговорила мужа поехать в места, где я жила ребёнком. Мы отправились на пароходе. Там были хорошая пристань, школа, баня, магазин и музей.
А сейчас все знают, что такое Ханты-Мансийск.
Омск. 2018 г.
Алевтина ВЕРГУНОВА
(Омск)
ПОБЕГ
Былое и думы
Мы были в том возрасте, когда переживают вторую или последующую любовь, то есть устраивали свои жизни по-новой. По-прежнему не получилось. Так бывает. Нам ещё в юности мама моей подруги говорила: «Первый раз замуж надо выйти хоть за дурака». У Софьи так и получилось. Один раз – и на всю жизнь.
Конечно, мы радовались друг за друга, если вторично выходили замуж удачно. Я очень обрадовалась, когда Лена вышла замуж за фермера. Не знаю, кем он был в предыдущей жизни, но теперь он фермер в районе. У него много земли, индейки, свиньи. И село называется Индейка.
– Лена, ты будешь счастлива как Скарлет. Свои поля, трактор, комбайн, большой дом с усадьбой. Вот как надо выходить замуж!
Мне тоже захотелось в деревню. Я уговорила мужа купить в том же Калачинском районе домик с землей. Посадили картошку и засадили большой огород. У нас был старенький «Москвичок», и мы по выходным выезжали на пару дней на свою землю.
Однажды Лена предложила нам и всей нашей компании заработать. Её муж, фермер, засадил свои поля сахарной свёклой. Планировал он вырастить, собрать свёклу, сдать её на сахарный завод и получить много сахара, а его продавать. Но свёклу надо вырастить. Её надо дважды прополоть. Обязательно. Рабочих для прополки надо найти и пообещать расчёт сахаром, то есть чего ещё нет. Мы согласились. Лето стояло жаркое. Близится осень. У всех дачи, а значит, ягод много. Надо варить варенье, а сахара в продаже нет. Было такое время.
Вся моя компания собралась по-походному и приехала к нам. Взяли с собой палатки. Разместились кто в доме, кто в палатках. На день оставляли кашевара и утром, втиснувшись в две машины, уезжали на поле. Нам даже нравилось. В купальниках до обеда на жаре, потом – обед и опять, до вечера, на свекольном поле. Полоть – работа однотонная и муторная. В первые два дня все обгорели до неприличия. А по вечерам, все в сметане, охая, не находили себе места.
Однажды муж послал Лену зачем-то в город. Мы заказали ей мази от загара и чего-нибудь сладкого, чего не было в деревне. Она побывала дома и решила посетить свою дачу. А то с фермерством совсем её забросила. Сыну тоже не до дачи.
Приехав на участок, она увидела двух подозрительных парней и струхнула. Они были в длинных одинаковых чёрных трусах и поливали её огород. Те поняли, кто приехал, побросали лейки и кинулись объясняться.
Перед Леной были… зеки, сбежавшие из места заключения под Красноярском. На её даче живут уже неделю. Ничего не тронули кроме еды. Питаются тем, что растёт в огороде. Денег нет. Но они поливают и пропалывают грядки, здороваются с соседями, спят в домике.
– Не сдавайте нас, – взмолились парни. – Мы не знаем, что делать. Нам надо попасть на Украину.
Сроки за драки с увечьем они получили там, одного осудили на 4, другого – на 5 лет. Но они узнали, что вышел закон: отбывать наказание в своём регионе, – и хотят добраться до Украины и сдаться местным властям. Лена выслушала неожиданных гостей, отдала им свой обед, что брала с собой, напоила чаем.
– Конечно, – заметила она, – хорошо, что вы хотите справедливости, но как-то это не вяжется с тем увечьем, что вы причинили человеку. И потом, вы залезли в дом милиционера. Мой сын – офицер милиции. Он в выходные приезжает сюда. Я могу промолчать сегодня, но у него тоже есть понятие о справедливости. Как быть?
Выход из этой щекотливой ситуации был один. Утром Лена решила отвезти парней в нашу деревню. Купила билеты на электричку, привезла беглых зеков на вокзал, сунула в руки по журналу и приказала уткнуться в них, надвинув кепки на глаза.
Мы тоже крепко задумались, когда Лена появилась в деревне с необычной компанией. Перво-наперво решили никому ничего не рассказывать. Беглецам сказали, что денег им не дадим:
– Хотите заработать? Работу предоставим. Жить будете в палатке, кормить будем, одежду соберём.
Парни смотрели на нас, как на своих спасителей. Так оно вообще-то и было.
Когда они задумали побег, то тщательно к нему готовились. Хлеб, одежда, ножи, спички, какие-то деньги – всё было в рюкзаке. Вечером через забор колонии перекинули рюкзак. После работы, перед заходом в зону, бежали. Рюкзак в темноте уже не нашли. В зоне подняли тревогу. Их стали искать. До самого близкого села – несколько километров. Они их пробежали, останавливаясь только, чтобы успокоить дыхание. Но это было не самое трудное. Сильнее всего досаждали комары, которые в тайге даже одежду прокусывают и буквально облепливают открытые участки рук, лица, шеи.
Уже в полной темноте они добежали до села, постучали в первую же избу. Сил больше не было. Будь, что будет. Хозяйка оказалась одна и сразу поняла всё.
В Сибири спокон веку особое отношение к каторжникам, к осуждённым и беглым. Я читала, чтобы беглые не наделали в селе бед, чтобы со злобы, что им не дали еды, не сожгли село, с вечера хозяйки выставляли за дверь кринки с молоком, хлеб. Даже старались морковь садить близ тракта и дороги. И дома строились с маленькими окошками в дверях, которые изнутри закрывались на крючки или палки. Если хозяева услышат стук в эти оконца, значит, нужна помощь. В дом путника не пустят, но краюху хлеба в это окошко ему протянут. В Сибири не называли их каторжниками, преступниками, злодеями, а сочувственно- «несчастненькие».
Так вот простая женщина из далёкого сибирского села пустила в дом этих двух «несчастненьких», напоила их, дала умыться и посадила в погреб. На рассвете к ней шумно постучали. Она посочувствовала служивым, когда узнала, кого они ищут. И сама предложила проверить сараи, сеновал и даже открытый погреб:
– Вот к зиме его сушу. Картошка там была, сейчас – одни крысы. Заглянете?.. Где у меня свеча-то запропастилась?
Служивые в погреб не полезли, но двор тщательно осмотрели. Ночью хозяйка собрала беглецов в дорогу. Дала вещмешок, кое-какую одежду от мужа, еду, немного денег и вывела их на тропку к железной дороге. На станцию нельзя – там их наверняка ждут. Долго они прятались в лесочке, пока не тормознул один товарняк. Вот на нём и доехали до Омска. А где-то у Осташково товарняк встал и, видимо, надолго. Оставаться в поезде было опасно. Вот и побежали парни к ближайшему дачному массиву …
Зеки с нами работали, ездили на обед. Вечером мылись, ужинали, помогали поливать наш огород и заходили в свою палатку. В местной аптеке мы купили им какой-то мази от укусов насекомых, ссадин, расчесов.
Но вот прополка свёклы закончилась, и пришло время готовить наших гостей к продолжению их дороги домой, на запад. Надо было их цивильно одеть, чтобы они ни выглядели подозрительными. Мой сын в то время служил в армии, и я привезла беглецам его куртки, рубашки, тренировочный костюм. Лена напекла им пирожков, отварила курицу, и один из наших друзей, Игорь, на машине повёз их в город, на вокзал. Поездов на запад много, выбрал удобный, купил два билета с местами на верхних полках. Мы строго-настрого наказали им не выходить из вагона. Не бегать в тамбур курить, не разговаривать с соседями и стараться только спать. Придумали им легенду: дескать, работали в геологоразведочной экспедиции и теперь возвращаются на Украину. Картошки, хлеба, огурцов и помидор им хватит до самого Киева. Не много, но денег дали тоже. Посадил их в поезд Игорь пред самым отправлением – будто бы «чуть не опоздали».
Расставались они с нами трогательно. Клялись, что по приезду сразу объявятся в милиции, даже к родным не заглянут, которые, наверное, уже знали о их побеге.
– Мы никогда не забудем сибиряков, вашу помощь, – чуть ли не слезами на глазах обещали парни. Мы каждый лето будем приезжать к вам. Нам бы только поскорее отсидеть своё и ещё то, что добавят за побег.
Конечно, мы не очень верили их клятвам. И понимали, что поступили неправильно. И не только по отношению к закону, но и по отношению к себе. Каждый или почти каждый из нас хоть раз в жизни, но пострадал от пакости таких вот «несчастненьких». До этой истории не прошло и два года, как убили мою племянницу. Она жила у меня и училась в нашем мединституте на повышенной стипендии. Её изнасиловали и убили уроды, которых потом нашли, но за другие убийства. Сейчас они сидят, но они живы и молоды. Даже когда они освободятся, будут ещё молодые, заведут семьи, детей. Они живут, а её нет, и дочь племянницы растёт без матери.
Когда мы шли по свекольной полосе, я рассказала об этом одному из беглецов.
И спросила его:
– Я не могу отомстить за племянницу, так, может, сдать вас? И, таким образом, отомстить за человека, которого вы избили.
Парень долго молчал, а потом сказал:
– Мы виновны и за драку, и за побег. Мы каждую минуту ждём, что нам заломают руки. Если вам будет легче – сдайте нас. Но, поверьте, насильники на зоне долго не живут. Там их очень не любят. Если после гибели вашей племянницы прошли два года, её убийц уже, может, и нет в живых, а если они и живут, то, скорей всего, уже калеки. А нам на зоне помогали бежать, прикрывали нас.
Конечно, никто и никогда после из Украины к нам не приезжал. Доброе забывается быстрее, чем зло. Доброе, оно как само разумеющееся. Мы тоже не вспоминали эту прополку свёклы. Тем более, что Лена через год развелась со своим фермером. Нам он не заплатил ничем: ни деньгами, ни сахаром.
А беглых зеков я вспомнила потому, что они из Украины. Им сейчас за сорок. Какой жизнью они живут? Вспоминают ли русских? Нет, не тех, кто рядом с их дедами воевал против немецких захватчиков, а тех, кто помог лично им за просто так избежать наказания и добраться до родимых мест. Может, вспомнят они свою сибирскую историю, и дрогнет у них рука стрелять в русского. Как стреляют их соплеменники – «правосеки» на Донбассе. А, может, и у них ничего святого не было и нет?
Июль 2017 года.
ЭССЕ
В год столетнего юбилея Великой русской революции журналом «Дружба народов» было предложено известным прозаикам, поэтам, публицистам ответить на два вопроса:
1. Вы в 1917 году в центре водоворота противоборствующих сил в любой из дней по вашему выбору, в любой из драматических исторических моментов. С кем вы? В какой вы партии, группе, дружине? Кого защищаете и против кого выступаете? Каким хотите видеть будущее России? И главное – почему? Как вы объясняете свой выбор?
2. Вы в 1917 году в любой из решающих исторических моментов и у вас есть возможность влиять на развитие событий и направлять их, как вам заблагорассудится. Как бы вы изменили историю? Какой избрали бы социальный строй? По какому пути пошла бы Россия?
Геннадий ПРАШКЕВИЧ
(Новосибирск)
«Я ГОВОРЮ ТОЛЬКО О ВСЕОБЩЕМ НЕПОНИМАНИИ…»
Студент (из дневника)
Петроград. 16 декабря 1917 года
«А люди шепчут неустанно о ней бесстыдные слова…»
Я просто повторял это. Никого, тем более Клеопатру, я не имел в виду.
Ветер нёс снежную крупу, бил в лицо, заставлял отворачиваться. Александр Александрович прикрывал глаза рукой. Тяжёлый подбородок, лошадиное лицо. Так же он прикрывал ладонью глаза на Невском, когда неделю назад народные милиционеры уводили переодетых (так шептались в толпе) полицейских. Вот и о Клеопатре он так писал. Жалел её, давно умершую; не тех, кто о ней шептался. Зелёные глаза, кудри над лбом – как венок, в который набились снежинки.
«Уезжайте», – глухо повторил он.
Никакого пространства между мостами, заснеженными берегами, пустыми проспектами – ничего не было в ночи. Александр Александрович входил в это смутное снежное пространство так тяжело, будто выполнял тяжёлую повинность. Уезжать? Я ничего не понимал. Я «проспал» все события. Проспал октябрь, валялся в горячке, в бреду, кто-то свыше уберег меня от перестрелок на улицах, стычек на площадях – больше месяца в жару болезни, а когда очнулся, прежней жизни не было. Никакой этой прежней жизни больше не было. Дым, как гнилой туман, плавал в грязных пивных, и люди на улицах постоянно спешили. Случайный выстрел вдруг сметал толпу, но через несколько минут люди вновь появлялись. Зато в университете было сумеречно и пусто. На экстренном заседании Ученого совета ректор предложил почтить минутой молчания память жертв обстрелов Павловского и Владимирского юнкерских училищ – теперь ждали реакции большевистских властей. Не свались я с инфлюэнцей, минута молчания относилась бы и ко мне. Ведь там, перед училищами, много времени проводили Миров и другие мои приятели, а я всегда держался Мирова. Университет совсем не случайно присоединился к воззванию, составленному на специальной конференции Российской академии наук. Научный мир бойкотировал большевиков. Великая Россия не хотела позора и бедствий.
До глубокой ночи мы с Александром Александровичем проговорили в той промозглой пивной у Финляндского вокзала. И теперь нетвёрдо брели в снегах, под порывами ледяного ветра – пьяные, с окостенелыми лицами. Всё – как продолжение бреда. Инфлюэнца вытянула из меня все силы. Может, поэтому Александр Александрович и повторял: «В Пермь…»
Но почему в Пермь? Почему уезжать?
В потрёпанной студенческой форме я выглядел как человек толпы.
Зачем мне в Пермь? Александра Александровича пошатывало. У него было страшное бездомное лицо, хотя дом находился не так уж далеко. «Люди редко бывают людьми», – произнёс он. «Как это? – не понимал я. – Если не людьми, кем же они бывают?» «Обезьянами, – глухо ответил Александр Александрович, – коротконогими подобиями людей».
«Всё потеряно… Всё выпито…»
Лица секло снегом, гнилым ветром.
Выстрелами выдувало живых – из домов, из города, может, из страны.
Но почему мне уезжать? Все тропинки перемело. Кто умный, тот сидел в пивной или дома у нетопленного камина. Чем лучше в Перми? Разве там не надо ходить за мёрзлой капустой в кооператив и рубить на пороге обледенелые дрова? Пусть на мне лишь потрёпанная шинель, но – студенческая, не офицерская. Я изучаю Гегеля и Гёте, Кант мне не чужд, я мечтаю о мировой гармонии, дружу (или уже дружил) с эсером-студентом Мировым. «Эсеры – самая пишущая партия», не раз говорил Миров. Где тебе ещё быть? И добавлял: «Социализм без свободы – скотство». И цитировал Каляева, цареубийцу: «Лишь за гранью сновиденья воскресает всё на миг: жизни прожитой мученья и мечты далекой лик». От волнения у Мирова тиком передёргивало небритую щеку. «Мы, ограбленные с детства, жизни пасынки слепой: что досталось нам в наследство? Месть и скорбь, да стыд немой».
В промозглой пивной я сразу увидел Александра Александровича, и он из дальнего темного угла тоже кивнул мне. Может, и не узнал, а всё равно кивнул. Правда, лошади тоже кивают, но не потому, что сразу нас узнают.
«Как по условленному знаку, вдруг неба вспыхнет полоса».
Я всегда верил Мирову. «И быстро выступят из мраку поля и дальние леса!»
Во время болезни Миров приходил ко мне с наганом на поясе и в полушубке. Он спас меня – картошкой и кипятком. А потом на Учёном совете университета минутой молчания помянули память жертв обстрела, значит и Мирова. И этого я тоже не понимал. Миров – жертва? Как это может быть? У него широкие плечи. Я видел таких людей на Невском. Они ехали в серых грузовиках – с винтовками, под красными флагами, неровно расшитыми золотом: «Р.С.Д.Р.П.», «ТРУД».
Неясное предчувствие привело меня в грязную промозглую пивную у Финляндского вокзала. Неровный свет, голоса, клубы дыма. Лошадиное лицо в веночке волос. «О если б немцы взяли Россию…»
«Вы этого хотите, Александр Александрович?»
Он не ответил. Он невнятно бормотал. Какая-то немка-гувернантка.
Когда началась Большая война, эта немка уехала. К ней привыкли за десять лет службы. Хозяйка плакала, гувернантка ласково гладила её руку. «Не плакать, не плакать, госпожа, я вернуться. Я вернуться сюда со своими пруссаками!»
Пивная пена. Гул голосов. Ругань. Мелькнул в дверях оборванный мальчишка, закутанный в рваньё, но уже самостоятельный, уже наглый. Его выгнали, но я запомнил серые, блеснувшие глаза.
– России больше не будет…
– Тогда мы построим новую…
– А для чего? – глухо спросил Александр Александрович.
– Чтобы писать книги, – нашёлся я. – Чтобы не забывать о возмездии. Чтобы ветер, ветер…
Он спросил: «Зачем?»
Я ответил: «Чтобы убеждать людей в красоте».
Неубедительно ответил, но Александр Александрович опять начал кивать.
«А потом придут мужики и всем головы открутят», – он ничего не хотел объяснять. Он одно повторял: «Уезжайте». Он хорошо знал меня и чего-то боялся. А Пермь – это так далеко… Это далеко…
– А вы сами за кого?
Он опять не сразу ответил.
– Кого-то же вам жалко? – не отставал я. – Может, буржуев?
Он покачал головой: «Кто они мне?»
Я не отставал: «Может, вам жалко пролетариев?»
Он ответил опять так же глухо и тяжело: «А они мне кто?»
Но я не отставал, не хотел отставать: «Может, вы за старую Россию?»
Он ответил: «Я даже не за Европу». И добавил: «Все равно случится только то, что должно случиться». Наверное, имел в виду татарщину, тьму, дикость. И еще добавил: «На вокзале цыганка дала мне поцеловать свои длинные грязные пальцы, покрытые кольцами. Разве есть сейчас на свете хоть что-то чистое, не захватанное? Везде слышно: труд, труд, – (значит, он тоже видел расшитые флаги) – а трудиться никто не хочет».
– Научатся, – сказал я.
– У кого? Они все сгорят.
– Вырастут новые, молодые.
Он опять, как от стыда, прикрыл глаза ладонью.
Только снег. Ничего больше.
– Какие ещё молодые?
– Такие как я!
– Но вы, кажется, стихи сочиняете.
И добавил, совсем уж глухо: «Уезжайте… Подальше… В Пермь… Вы тоже нами отравлены…»
Член коллегии (лист допроса)
Москва. НКВД. 16 августа 1938 года
Вопрос: …и вы так считали?
Ответ: Скорее, не понимал.
Вопрос: Но приносить пользу, не болтаться за бортом, вложить свой труд, преданность, жизнь в дело партии, этого-то вам хотелось?
Ответ: Врать не хочу. Никаких партий. Вмешайся в события генерал Корнилов активнее, большевики не удержали бы власть. Я так думал. Ни в Петербурге, ни в Москве, ни в прилегающих областях. Даже крестьянские мятежи подавлять было некому. На Москву и Петербург наступали бы тогда не белые армии, а красные – во главе с теми же большевиками и левыми эсерами. И правительство сложилось бы двухпартийное. И выборы – сразу по окончании гражданской войны. А лидеры… Я говорил… Ленин, Троцкий, Зиновьев, Спиридонова, Камков, Коллегаев.
Вопрос: Записано. Что потом?
Ответ: Страна велика, управлять трудно. Необходимо время даже для самой простой доставки на места указов и постановлений. Необходимо время даже для правильного понимания этих указов и постановлений, тем более для их исполнения. Но социализм бы построили. И Чернов, и Троцкий, и Ленин.
Вопрос: Почему вы ехали в Пермь?
Ответ: У меня было письмо поэта Блока к ректору Пермского университета. Там я преподавал. А приютил меня литератор Иванов, тоже преподаватель, нынче в эмиграции – ушёл в Китай. На Большой войне этот Иванов дослужился до штабс-капитана, но по призванию так и остался литератором. «Сверкал семейным портсигаром, дымил сибирским табаком». Его стихи. В декабре восемнадцатого, когда в Пермь вошла белая армия, Иванова как бывшего офицера прикомандировали к газете «Сибирские стрелки».
Вопрос: Кто издавал эту газету?
Ответ: Штаб первого Сибирского армейского корпуса под командованием генерала Пепеляева. Анатолий Николаевич взятием Перми отличился, позже походом на Якутск, ледяным походом. Я в «Сибирских стрелках» занимался рекламой. Так думал, что в котле можно вариться и не ошпариться. Вёл газету поручик Броневский, с энтузиазмом предрекавший скорый торжественный въезд адмирала Колчака в Москву под благовест всех церквей. При нашем постоянном и неуклонном отступлении на неуместный энтузиазм поручика обратили внимание, газету передали Иванову. Вот тогда мы начали наращивать тираж, пока не вмешался генерал Пепеляев. «Какая же это получается военная газета? Вот объявление. "Коза продается". Какая к черту коза в военной газете?» Иванов объяснил: «Коза – это объявление. А объявление – это деньги! Нельзя жить одними красивыми словами».
Вопрос: Каким вы увидели белый террор в Омске?
Ответ: Я увидел не террор, а много снега. Вся железная дорога была заставлена пассажирскими вагонами, их украшали разноцветные иностранные флаги. Союзники. На базаре – овощи, мука, битая птица, скот. Мы ещё не отошли от питерской и пермской голодной экземы, а в Омске жировали крысы.
Вопрос: Почему же вы не удержали Омск?
Ответ: Нежелание работать. Это главное. У белых, как и у красных, на многих знамёнах было выткано слово «труд», но трудиться мы разучились. Война развращает. Когда к Омску подошли большевики, началось повальное бегство. Всё выглядело непрочно, завязано слабо. Поезд Верховного Правителя был задержан на станции Тайга – не красными, а частями генерала Пепеляева. Говорю же, всё выглядело в высшей степени ненадёжно. На перроне перед офицерами Анатолий Николаевич потребовал от Верховного Правителя немедленного созыва Сибирского Земского Собора, такой же немедленной отставки главнокомандующего Сахарова и немедленнейшего строжайшего расследования сдачи Омска. Белое дело пожирало само себя. К счастью для Колчака подошёл поезд ещё одного Пепеляева – Виктора Николаевича, премьера. Он-то и примирил своего брата с адмиралом. Из взаимного уважения в тот же день пожертвовали Сахаровым. «Горит над городом звезда, и ничего звезде не надо».
Вопрос: О чём это вы?
Ответ: Стихи. Я – литератор.
Вопрос: Жалеете о неслучившемся?
Ответ: Случается только то, что должно случиться.
Вопрос: Почему вы не ушли с Колчаком и с Пепеляевым?
Ответ: Потому что не понимал, куда они уходят. Я вообще много чего не понимал, и сейчас не понимаю. И жалел не о том, что не ушёл в Иркутск, а о том, что не остался в Перми, не остался в Петрограде. Наверное, хотел понять, в какой пьесе я играю. Наверное, не верил, что эволюционным путем дьявол может преобразиться в бога.
Вопрос: Что вы делали двадцать пятого января одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года в селе Лыково Енисейской губернии?
Ответ: Хоронил вождя российской революции.
Вопрос: Записано. Это была ваша личная инициатива?
Ответ: Решение о похоронах принимала местная большевистская ячейка. Я вёл протоколы. Не буду скрывать, я не просто отсиживался в том селе, я уже сочувствовал. «Мы вождя хороним, как само Солнце бы хоронили», – сказал председатель ячейки перед жителями села. И выложил наган на стол, для красоты покрытый газетами: «Приказываю страдать». И добавил, обведя глазами собравшихся в холодном помещении. «А ежели кто против таких добровольных и сердечных похорон мирового вождя, тех порубаем на глазах у большинства и положим в землю, чтобы жёны их не терзались неизвестностью». За кровь вождя рабочего класса все требовали самого лютого суда над вредителями и врагами. Даже подкулачник Жадов, насильник, приговорённый к смерти за индивидуальную дикость, раскаялся и под напором горячих чувств был прощён. Я сам выписал справку: «Дано сие гражданину Жадову в том, что он перестал быть животным». И указал над печатью: «Действительно по гроб жизни». Ночью баловались самогоном, но в меру, застрелили только Ефима-почтальона, испугавшегося в морозную ночь идти пешком в город Красноярск с докладом о затеянных нами похоронах. А днём мороз ударил уже за сорок. Простой деревянный гроб уложили в яму, взрытую динамитом в мёрзлой земле на береговом обрыве. Всё вокруг было прокалено морозом до бледности. Всё казалось светлыми символами. Совсем рассвело, но митинг провели революционно – при факелах. Люди плакали, почти никто не замёрз.
Вопрос: Жалели вождя?
Ответ: Мы идею хоронили – не человека.
Вопрос: Записано. Когда вы приехали в Москву?
Ответ: В двадцать седьмом. Это многие подтвердят.
Вопрос: Записано. Кто именно рекомендовал вас в Комитет по печати?
Ответ: Нарком Луначарский. С подачи политкаторжанина Мартынова.
Вопрос: Записано. Почему вы устроились именно в Комитет по печати? Кто подсказывал вам запрещать печатные работы Карла Маркса, Джона Рида, Радека, других известных социалистов, даже поэтов-попутчиков?
Ответ: Это были коллегиальные решения.
Вопрос: Но Карл Маркс – основатель социализма.
Ответ: К указанному вами изданию предисловие написал Троцкий.
Вопрос: Вы подписали запрет на книги наркома – «Толстой и Маркс», «Героизм и индивидуальность», «Партия и революция». Ваша подпись стоит на решениях о запрете многих художественных книг. Каким авторам, кроме тех, которые указаны в официальном списке (протягивает список), вы отказали в издании их работ?
Ответ: Помню стихи Безыменского, Жарова, Иосифа Уткина. Но в особом мнении я часто указывал то, что считаю данные решения спорными. Авторы – комсомольцы, большевики, просто предисловия к некоторым их книгам написаны оппозиционерами, врагами народа. Ну, Андрей Платонов, с ним было проще. На его рукописи была пометка синим карандашом: «сволочь». Вождю мы всегда верили. Ну, Артём Весёлый – этот однобок. Ну, Каверин – литературный гомункулюс. Ещё был Сергей Клычков – бард кулацкой деревни. Ещё помню книжку Грина. Даже оппозиционер Андрей Платонов указывал на то, что капитан Грей его литературного коллеги возит под алыми парусами не чугунные чушки и цемент для пролетариата, а всякий не пролетарский кофе, всякую ваниль и специи. Ну, Кассиль, Самуил Маршак – эти понятно. Но ещё и Пётр Павленко, даже Серафимович. Резолюцию на запрет книги Серафимовича наложил сам начальник Главлита товарищ Ингулов. «Разрешить библиотекам удалить из всех изданий повести "Железный поток" имеющиеся в них комментарии, примечания, послесловия и т.д., относящиеся к биографии и военным операциям Ковтюха». И правда, неловко. Читаешь Кожух, а слышишь – Ковтюх. Были и просто ляпы. Не без этого. Заботясь о военной тайне бдительный сотрудник Главлита Арсов заставил редактора переименовать «Слово о полку Игореве» в «Слово о подразделении Игореве».
Вопрос: Записано.
Ответ: Книгу Демьяна Бедного запретили за вступительную статью врага народа Лелевича. Поэму Алтайского «Ворошилов» – за сцены дружеского общения красного маршала с такими врагами народа, как Межлаук, Уншлихт, Гамарник, Блюхер, уже упомянутый Ковтюх.
Вопрос: А случаи прямого вредительства?
Ответ: Кто разъяснит, вредительство это или не вредительство? Товарищ Ингулов? Но он сам наказан за перегибы, за то, что засорил врагами народа аппарат Главлита. У Леонида Леонова в пьесе «Метель» указывалось: «На каланче один уж сколько лет стоял, старичок, а на