Сергей Алексеевич Воронин
Две жизни
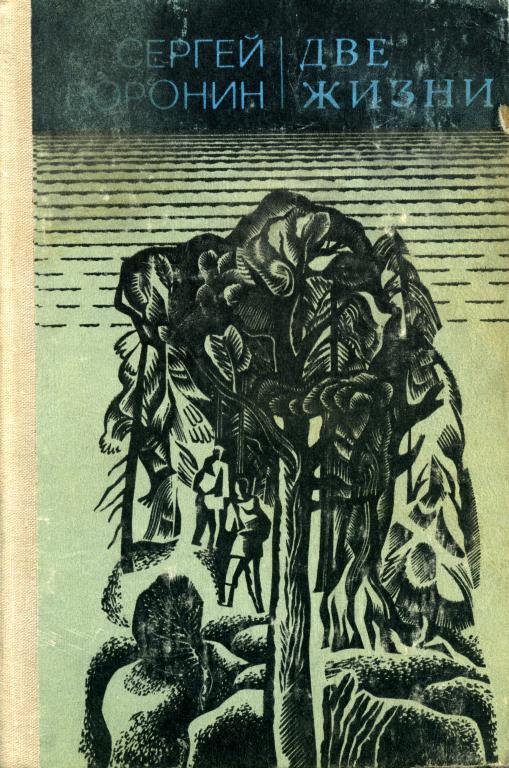
Две жизни
ДВЕ ЖИЗНИ
РОМАН

Как‑то, перебирая старые рукописи, альбомы фотографий, я натолкнулся на толстую кипу связанных веревкой тетрадей. Они были в пыли, потрепанные, с пожелтевшими страницами, с рисунком «Дуэль Пушкина» по картине А. Наумова.
Это были мои дневники. Дневники младшего техника изыскательской партии. С чувством светлой грусти я стал их перелистывать. Многое вспомнилось, и радостное и печальное.
Теперь, когда прошло более двух десятилетий, когда многих из участников таежной экспедиции нет в живых, а моя юность безвозвратно осталась там, мне показалось возможным и нужным открыть эти дневники. Может, они послужат доброму делу и позовут кого‑нибудь в дорогу.
Тетрадь первая
19 апреля 1937 года
Не знаю, чем все кончится, но будь что будет... Из вестибюля тянет прохладой, которая в теплую погоду всегда ютится в каменных зданиях. Темный коридор ведет в большой зал. Свет в этот зал падает сверху, через стеклянную крышу. В его мягком, ровном потоке видны склоненные над столами фигуры людей.
Это изыскатели. Я о них много слышал от своего брата, инженера‑путейца. Бесстрашные люди. Они ничего не боятся. Им не страшны морозы и ливни, голод и холод. Город их томит. Он узковат для характеров этих людей. Их тянет на Северный полюс! В тундру! На Колыму! Там раздолье. Там настоящая жизнь...
Мимо меня прошла высокая, подстриженная под мальчишку девушка.
– Ирина! – позвал ее широкогрудый, похожий на спортсмена, изыскатель.
– Что тебе, Лыков? – весело спросила она.
Такого лица, как у нее, я еще никогда не видел – будто однажды солнечный луч осветил его и навсегда остался в ее карих с золотыми искорками глазах.
– Ничего. Рад на тебя смотреть.
Она улыбнулась и пошла дальше. А я почувствовал, как сердце охватила замирающая боль, и почему‑то стало и радостно и грустно.
– Новый вахтер? – Лыков насмешливо смотрел на меня, сдвинув густые шелковистые брови.
– Н‑нет... почему же...
– Тогда какого черта стоите у дверей?
– Ах вот что... – Я отошел и спросил, где находится начальник экспедиции.
– Зачем?
На меня пытливо смотрели серые дерзкие глаза. Обычно люди с такими глазами в приключенческих повестях выдаются за людей отважных.
– У меня к нему письмо от инженера Коренкова.
– От инженера Коренкова? А кто это?
– Мой брат.
– Ваш брат... То‑то я не знаю такого крупного деятеля. – Он усмехнулся. – Ну что ж, спешите. Лавров уходит.
По узкому коридору шел в сером плаще, с прямой трубкой во рту, могучего сложения человек.
– У меня к вам письмо, – сказал я ему, как только он поравнялся со мной.
Он вскрыл конверт. На его крупных, слегка вывернутых губах появилась улыбка. Тут же на моем заявлении он наложил резолюцию и, не вынимая трубки изо рта, сказал:
– В третью партию. Спросите Мозгалевского Олега Александровича. А брату сердечный привет. – И, обдав меня вкусным запахом дорогого табака, ушел.
Я и не предполагал, что так все просто и быстро решится. Я думал, Лавров будет расспрашивать, где работал, в каких экспедициях бывал, – а я нигде не бывал: брат кое‑что рассказал мне, сунул книжку «Справочник изыскателя», и на этом мое геодезическое образование закончилось. Меня так легко было уличить во лжи: ведь в заявлении я назвал себя младшим техником, – но, слава счастливому случаю, Лавров ничего не спросил.
Мозгалевский оказался маленьким старичком с пушистыми, чуть ли не до самых ушей, усами. У него тоже во рту трубка, но не прямая, как у Лаврова, а изогнутая, коротенькая, дымившая ему прямо в нос.
– Чудненько, – посмотрев на мое заявление с резолюцией начальника экспедиции, сказал Мозгалевский. – Очень кстати подоспели. Вот вам калька, тушь, готовальня. Снимите с планшета эту кривую.
Все совершалось как в сказке. Никто ни о чем не спрашивал. Просто чудо какое‑то!
Калькировать я умел, и мне не стоило большого труда снять кривую. Я уже заканчивал работу, когда ко мне подошел Лыков.
– Ого, вьюнош уже старается! – сказал он.
– Меня зовут Алексеем, – сказал я.
– Это не имеет значения. К тому же запоминать имена не моя профессия... Вьюнош, коротко и ясно...
Справа от меня раздалось фырканье. Смеялась смугленькая девушка, тоже, как и Ирина, подстриженная под мальчишку. Встретившись со мной взглядом, она опустила голову, отчего ее короткие черные волосы, как шторка, закрыли глаза.
Тут подошел Мозгалевский. Он бросил на стол пачку синек и строго спросил:
– В чем дело, Аркадий Васильевич?
– Я к лаборантке Калининой. Не так ли, Тася?
Шторка поднялась и тут же упала.
– Шли бы вы на свою геологическую половину. Не мешайте работать, – сказал ему Мозгалевский и, забрав от меня готовую кривую, дал переписать какую‑то ведомость.
Я переписал ее быстро.
– Чудненько! – обрадовался Мозгалевский. – Очень кстати вы подоспели. Теперь попрошу вот это... – Но зазвенел звонок, рабочий день кончился, и Мозгалевский с сожалением и горечью посмотрел на гору папок, планшетов и калек. – Остались считанные дни до отъезда, начальника партии все нет, а работы по горло.
– Я могу задержаться.
Из‑под седых бровей выглянули ласковые глаза.
– Думаю, мы с вами сработаемся, – улыбнулся Мозгалевский.
Так прошел первый день.
Скорей, скорей бы уехать! Там, в тайге, за тринадцать тысяч километров, будет поздно от меня освобождаться. Там заменять меня будет некому, и волей‑неволей будут меня учить, и я стану техником‑изыскателем. Только бы уехать! Но, как и всегда, чем больше мечтаешь, тем труднее сбывается мечта. Провалиться так просто.
– Надо снять карту бассейнов, – раскладывая передо мной планшет, сказал на другой день Мозгалевский. – Все протоки, речки, ручьи на кальку. Пригодится в поле.
– В поле?
– Да.
– А разве мы будем работать не в тайге?
– А вы что, не знаете, что всякие изыскания называются полем? Полевые изыскания, – ответил Мозгалевский и пристально посмотрел на меня.
Скорей, скорей бы уехать!
Сегодня мне выдали аванс – пятьсот рублей. Дали железнодорожную форму: китель и брюки – и две «гаечки». Вечером я оделся, ввернул в каждую петлицу по «гаечке» и беспрепятственно прошел без перронного билета на вокзал. Походил по перрону и вернулся домой. А там вовсю собирают меня в путь‑дорогу. Хлопочет мама, укладывает белье. Невестка, жена брата, всегда злая и неулыбчивая, помогает матери и ласково смотрит на меня. Как только я уеду, она сразу же переберется в мою комнату.
Я уже купил ружье‑одностволку, порох, дробь. Купил прямую трубку и несколько пачек «капитанского» табаку (такой табак курил Лавров). Я хоть сейчас готов в путь. Но нет команды. И приходится ждать, ждать, ждать. Я плохо сплю: то мечтаю, как буду охотиться в тайге, – там много всякого зверья, то со страхом думаю о том, как меня разоблачат и с позором выгонят из экспедиции...
– Рад вас видеть, – сказал Мозгалевскому высокий, с приплюснутым черепом, пожилой изыскатель в великолепном костюме. Это начальник участка Градов. В экспедиции шесть партий, по три на участок. Мы подчиняемся Градову.
– Как отдохнули? – спросил Мозгалевский, поднимая на лоб очки.
– Как отдохнул? Превосходно отдохнул. – Градов окинул взглядом планшеты, кальки. – Думаю, что вам по сравнению с другими партиями повезло, – сказал он, постукивая мундштуком папиросы о большой плоский ноготь.
– Вы имеете в виду правобережный вариант?
– Да, имею в виду правобережный вариант. Я его изыскал три года назад.
– А левый берег совершенно не в счет?
– Левый берег? Да, совершенно не в счет.
– А пойменный?
– Что пойменный? – Градов округлил ноздри и чуть вздернул голову.
– Возникает еще пойменный вариант. Надо ознакомиться с ним.
– Знакомьтесь. Но знайте, что будет принят только правобережный, – строго сказал Градов.
– А я и не возражаю, – неожиданно мягко улыбнулся Мозгалевский, – больше того: полагаю, что и впрямь нам нечего мудрить. Надо брать ваши рекогносцировочные изыскания и переводить в окончательные.
– Да, это будет самое правильное, и тут я ваш первый помощник.
– Чудненько! – сказал Мозгалевский и опустил на переносье очки.
Я уже почти всех знаю, кто входит в нашу партию. Шесть путейцев, четыре геолога, завхоз и радист. Радист живет в Москве и прямо оттуда поедет на изыскания. Лыков в нашей партии. Ирина, та высокая девушка с веселыми глазами, тоже с нами. Я рад этому. С нами и смугленькая Тася. Среди путейцев два молодых инженера – Зацепчик и Покотилов. У Покотилова в левой черной брови пучок белых волос. Он рослый, флегматичный. Зацепчик, несмотря на молодость, уже лысоват, все лицо у него в угрях. По‑моему, с таким лицом надо быть скромнее, но он держится надменно. Есть еще старший техник‑путеец Коля Стромилов. Мозгалевский его зовет ласково Коля Николаевич. Коля Николаевич немногим старше меня. Ему двадцать три года. Но он уже был в двух экспедициях, может вести пикетаж, нивелировать. В свое время он кончил курсы геодезистов.
– Целый год в тайге – это не зонтик раскрыть. Если у кого неуживчивый характер, пропадет! Тебе говорил Олег Александрович: «Мы с вами сработаемся»? – спрашивает он меня.
– Говорил.
– Он это всем говорит. И имей в виду: если не сработаетесь, то будешь виноват только ты.
– Почему?
– Так это ж ясно, как пирог с брусникой: он старый изыскатель, а ты?
Я тут же с ним соглашаюсь, опасаясь, как бы разговор не пошел по линии уточнения моего изыскательского стажа.
И сегодня не уехали. Но все идет к тому, что скоро тронемся в путь. Вот о чем говорил Мозгалевский с завхозом партии Сосниным.
– Вы составили опись имущества? – спросил Мозгалевский.
– Никак нет! – ответил Соснин. Длинный, он ходит в немыслимых бриджах, в шинели, подметающей пол.
– Составьте, немедленно составьте. Один экземпляр положите в вагон с грузом, другой дадите мне, третий – себе в бумажник. Вдруг крушение, и иск не примут. Описи‑то нет!
– В каком поезде пойдет груз?
– В вашем. Вместе с ним поедете.
Соснин задумался.
– Тогда зачем же три? – в раздумье сказал он. – Если будет крушение, то и мой экземпляр и тот, что пойдет с грузом, одновременно погибнут. Значит, хватит и двух. Вам один и мне один.
– Насчет крушения я на всякий случай сказал. Бог милостив.
– В бога не верю. Значит, крушение возможно? – Соснин опять задумался.
– Да нет, что вы, голубчик, я просто так... – извиняющимся тоном сказал Мозгалевский.
– Значит, пошутили? Проверяете, не трус ли Соснин? Смею вас заверить... – повысил голос завхоз.
– Да нет, что вы, – стал успокаивать его Мозгалевский.
– Трусом никогда не был! – загремел под стеклянными сводами голос Соснина.
– Очень рад, очень рад, – поспешно сказал Мозгалевский. – Успокойтесь и, пожалуйста, составьте три экземпляра описи.
– Все же три?
– Три.
– Есть! – Соснин щелкнул каблуками и ушел.
– Какой темпераментный, – удивленно произнес Мозгалевский и пошевелил усами, – нельзя ничего сказать.
Тася фыркнула и посмотрела на меня из‑под шторки. Я засмеялся.
– Между прочим, мы едем тем же поездом, каким и Соснин, – сказал Коля Николаевич. – Лавров звонил из наркомата и дал распоряжение отправить первую группу: завхозов, буровых мастеров и техников.
– Честное слово? – крикнул я и стал трясти ему руку.
– Вот чудак‑рыбак, я говорю, что ехать будет опасно, а он...
– Да это ты чудак! Ехать! Да это же прекрасно!
24 апреля
Ура! Ура‑а! Все дальше уходит поезд. Свежий ветер врывается к окно. Он пахнет землей, водой, лесами. Откуда он примчался? Ветер бродяга, странник, путешественник, изыскатель... Где только он не бывал! Пожалуй, весь земной шар облетел и теперь, как голубь, бьется у меня на груди...
Поезд идет! Впереди Череповец, Пермь, Свердловск, Новосибирск, Чита, Ерофей Павлович, Волочаевка, Хабаровск. Ни в одном из этих городов я не бывал. Теперь они все мои. Я их увижу... По это еще не все. Это только начало пути. Дальше самое главное, дальше тайга!
Поезд идет. В купейном вагоне (только подумать, в купейном вагоне!) едет Алексей Павлович Коренков. Кто он? Как, разве вы не знаете? Это младший техник таежной экспедиции. Такой молодой – и уже техник? Да, ему всего двадцать один год, но он уже исследователь далеких земель. На него возложена ответственнейшая миссия – он будет изыскивать в условиях суровой тайги железнодорожную магистраль. Молодые женщины в белых передниках и кружевных наколках любезно предлагают ему из своих корзинок вино, шоколад, папиросы. Нет‑нет, папирос ему не надо... Он вынимает из кармана трубку. Кха‑кха‑кха! Черт, еще не привык к ней. Хорошо бы купить плитку шоколада. Но не уронит ли это авторитет изыскателя?! Нет, нет, шоколад не нужен. Вино? Что ж, рюмочку можно. Коньяк? Тем лучше... Да, налейте рюмочку. Надо же отметить начало пути... Кха‑кха‑кха! Не в то горло попало. Тася Калинина смотрит на него осуждающе... Лучше ему выйти из купе.
За окном несутся, мелькают поля, леса, перелески – скромный привет северной земли. Уезжаешь? Что ж, уезжай, но нас все равно никогда не забудешь. Сейчас ты рад, но пройдет время – и затоскуешь, потянет тебя обратно в родные места... «Да‑да‑да‑да», – стучат колеса. «Все‑таки уехал, все‑таки уехал», – стучит сердце. Я стою и смотрю, и все новое мчится ко мне, и нет этому новому конца. И не устаешь смотреть, и не замечаешь времени. И даже черные скучные пни на болотах интересны, и жиденький лесок красив.
Мелькают полустанки. Встречают и провожают деревни. Надвигаются и остаются там, в прошлом, леса, поля, реки, люди. Поезд мчится в будущее. Все, что знакомо, – не жизнь. Только новое, пусть опасное, пусть трудное, пусть мучительное, только оно нужно настоящему человеку. Мчится поезд. Его провожают ребятишки. Босые, склонив головы, они машут ручонками.
Чем ближе Пермь, тем больше появляется холмов. И вот они уже идут один за другим, похожие на океанские волны. И вдруг все оборвалось. Кама. Мы тихо въезжаем на мост. По широкой реке медленно плывет солнце. Вдоль правого, пологого берега пробирается пароход. А на холмах над рекой раскинулся город. Белеет церковь.
Я хожу по перрону вдоль состава. Пассажиры бегут с чайниками за кипятком. Тут же торговки продают шаньги с картошкой, вареные яйца, соленые огурцы.
– Правда, хорошо? – спрашивает Тася. Она идет со мною рядом.
– Что хорошо? – строго спрашиваю я.
– Все, – улыбается Тася и смотрит на высокое голубое небо, на белые облака, надутыми парусами плывущие к солнцу, смотрит на меня. Но мне нет никакого дела до ее улыбок. Изыскатель – это человек суровой души. Он рожден для подвига. Впереди ждут его великие испытания. И поэтому нет для меня этой девушки.
– Я вас не понимаю, – сухо говорю я.
– Что ж тут непонятного? – недоуменно пожимает узенькими плечами Тася. – Все так необычно. Словно во сне. Хотя вам это не впервые. Расскажите, где вы были, на каких изысканиях?
К счастью, раскатисто и тревожно гудит паровоз. Скорей, скорей в вагон. Я подсаживаю Тасю. У нее упругая теплая рука. Но мне нет никакого дела до ее руки.
– Спасибо. Как он сразу взял с места... Ну, рассказывайте.
Мы стоим у окна.
– Я не люблю рассказывать о том, что было.
– Если оно было тяжелым?
– Все равно. Рассказывать о прошлом – удел стариков.
– Какой вы серьезный... А что вы думаете об изысканиях?
– Думаю, что будет не легко. Морозы там доходят до пятидесяти градусов. Помните рассказы Джека Лондона?
– Но ведь мы будем жить в зимовках.
– А работать? Впрочем, вы лаборантка. Вы‑то будете в зимовке. Другое дело трассировщики.
– А трассировать трудно?
– Конечно. – И я иду в купе, раздраженно думая о том, что у каждого человека должно быть чувство внутреннего такта, к тому же каждый должен быть хорошо воспитан, только тогда возможно взаимное уважение.
В купе, кроме меня и Таси, едут еще двое – Соснин и буровой мастер Зырянов. Зырянову лет под пятьдесят, но он подтянут, каждый день бреется и обтирает лицо и шею цветочным одеколоном. Сейчас они сидят за столиком и неторопливо потягивают пиво.
– Руины – это цель, – уверенно говорит Соснин.
– При чем же тут цель? – отвечает Зырянов, и в голосе его слышится усмешка. – Руины – это разрушенное здание, может быть даже целый город.
– Все равно цель, остатки там или не остатки. Цель!
– Тут дело не в цели, – свешиваюсь я с верхней полки, – руины – это всегда что‑то разрушенное, что‑то...
– Вот, если не знаешь, то и не лезь в спор. Что‑то разрушенное, а что?
– Да это неважно. Может быть и дом, может быть и деревня.
– Все равно, и дом и деревня – это цель. Го‑го‑го‑го‑го! – Он не смеется, а гогочет, будто гусак. – И не спорь со мной.
– Это почему же еще?
– Потому что я бог войны!
– При чем здесь бог войны? – в запале крикнул я, видя, как фыркает и закрывается черной шторкой Тася.
– А при том, что я артиллерист. А артиллерия всегда была, есть и будет богом войны. Го‑го‑го‑го‑го!
Ему хорошо. Ему весело. Он впервые едет на изыскания и не скрывает этого. По‑моему, он не очень умен, но, наверно, честен. А это в тайге главное. Там должно быть полное доверие друг к другу. А как же я? Поверят ли мне, когда узнают, что я самозванец? Но только бы добраться до тайги. Там бы я показал, на что способен. Работал бы больше всех и никогда не говорил об усталости. Работал бы? Но я никогда не ходил с мерной лентой, никогда не заполнял пикетажную книжку. Это же все сразу обнаружится, как только партия приступит к изысканиям. Что же делать? Может, открыться? Нет, сейчас рано... Чтобы нечаянно не раскрыть себя, я стараюсь уединяться, а если в компании заходит речь об изысканиях, то тут же отхожу в сторону.
Я могу неотрывно, часами глядеть в окно. Километры летят назад, как прожитые дни. А дни могут быть прожиты по‑разному, и по‑разному они проходят. Одни – быстро, другие тянутся. Я не пойму, как проходят мои нынешние дни, – то мне кажется, что они мелькают, как километровые столбы, то ползут нудно и бесконечно, как казахстанские степи.
– Смотрите, мазанки! – кричит мне Тася и становится рядом. – Я не была на Украине, но они очень похожи, такие же, как на рисунках. Здесь, наверно, живут украинцы. Смотрите, смотрите, казах!
Тетрадь вторая
Неподалеку от насыпи тянется дорога. По ней едет на лохматой лошаденке человек в куполообразной, с висячими ушами, шапке.
– Почему вы сторонитесь всех? Вы гордый, да? – спрашивает Тася.
– При чем здесь гордый? Просто люблю смотреть в окно.
– И молчать? И ни с кем не разговаривать?
– Да. И молчать. И ни с кем не разговаривать.
– И не скучно?
– Нет.
– От Москвы три тысячи восемьсот пятьдесят четыре километра, – отметила вслух очередной километровый столб Тася. – Как далеко!
– Вы думаете, это далеко?
– Почему вы так обрадовались?
– Обрадовался? Что вы... Чего мне радоваться?
– Я даже не могла представить себе такое расстояние. Ну, это я... Вы‑то, конечно, привыкли. Вы много ездили?
– Смотрите, весенний пал, – говорю я.
По земле тянется густой траурный дым, словно натягивают черную ткань, а впереди нее бегут красноватые огни. Трава кланяется огню. Упадет на колени и почернеет.
Ночью приснилось, будто целовал Тасю. Только почему‑то Тася была похожа на Ирину. Целовал крепко, долго. И радовался, смеялся от счастья. Проснулся: поезд идет и идет, постукивает на стыках. В купе светло от луны. Я перегнулся, посмотрел вниз на Тасю. Увидел ее темную голову, срезанную наискось пододеяльником. Не понимая, что такое произошло со мной, я долго лежал с открытыми глазами, думая об Ирине, о Тасе, о любви, и заснул только под утро.
Проснулся от громкого голоса Соснина.
– Какой же это коридор? Это ущелье, – настаивает завхоз.
– Ущелье естественного происхождения, – доносится снизу голос Зырянова, – а коридором у путейцев называется вот то, что вы видите сейчас за окном. Не так ли, Алеша? – Он заметил, что я проснулся, и ждет моего подтверждения.
Я смотрю в окно. Енисей, большой, мутный, разлился, затопив какое‑то селение. На улицах лодки, плоты. На одном берегу Красноярск, на другом – сопки. Они стоят плечом к плечу, как бы загораживая тайгу от людей. Поезд бежит к ним по кривой, и они расступаются перед ним, маленьким, живым. Они высоки, и, как я ни пригибаюсь, все же не могу увидеть их вершин. Они с обеих сторон обжимают путь.
– Да, это коридор, – солидно говорю я.
– Ну вот, видите, – говорит Зырянов.
– Ущелье. В артиллерии именно так обозначается разрыв между скалами.
Мне бы молчать, а я лезу в спор:
– Послушайте, ведь Зырянов – старый изыскатель. Он же лучше вас знает!
– Смотри, он опять со мной спорит, – удивляется Соснин, – и опять зря. Зырянов – старый изыскатель, а я старый артиллерист. Кому больше веры? – И загоготал. Ему весело. Всего неделю в пути, а он уже отпустил бороду и усы. Сейчас его лицо в рыжей щетине, нос лаптем, маленькие глаза сверкают от удовольствия. – И не спорь со мной. С артиллеристами спорить не рекомендую, потому что берем прицел точный. Го‑го‑го‑го‑го!
Ну как ему докажешь? Это бесполезно. Но не проходит и нескольких часов, как я опять влезаю в спор. Это было на станции Клюквенная. На остриженных деревьях сидели сотни воробьев. Даже не верилось, что их так много. В вечерних сумерках на голых ветвях они были как листья.
– Вот ляпнуть бы их из ружья, и сразу воробьиный суп, – как всегда громко, говорит Соснин, – а то, еще лучше, заложить штук сорок в котелок и закрыть. Чтоб томились. Получается полная и неподдельная красота. Одного жиру стакан. А воробьишки становятся румяные, пальцы проглотишь...
– Оближешь, – поправил я.
– Именно проглотишь. Го‑го‑го‑го‑го!
– Суслики! Суслики! – кричит Тася и зовет меня к себе в коридор.
Сусликов много. Они прыгают, смешно выглядывают из нор. Один стоит на задних лапках и, словно путевой обходчик, провожает наш поезд.
– Правда, занятные? – спрашивает Тася и смотрит на меня весело и открыто.
– Да.
– Зачем вы всё с ним спорите? Ну его... И смех у него дикий.
Впервые за эти дни в поезде около нас оказался Коля Николаевич. Он бледен, утомлен. Смотрит в окно и безостановочно курит. Затянется, выпустит дым и опять затягивается.
– Черт, проигрался, – крутит он головой. – Слушай, у тебя есть деньги?
– Сколько?
– Ну давай сотню.
Я дал сто рублей. Он повеселел и сразу же ушел в другой вагон.
– Зачем вы дали ему деньги?
– Он же попросил.
– И эти проиграет. Так выручать не по‑товарищески.
– А если выиграет?
– Я не люблю картежников, вы неправильно поступили.
Я гляжу на нее и улыбаюсь. Еще совсем девчонка, а пытается делать замечания, как взрослая.
– Что вы улыбаетесь?
– Видел вас во сие, – сам не зная почему, вдруг признался я.
– Да? – обрадовалась Тася.
– И целовал.
Тася вспыхнула и опустила черную шторку.
– Но странно, когда поцеловал, то оказалось, что это не вы, а какая‑то другая девушка...
– Вот как? – Тася почему‑то покраснела и ушла в купе.
– Но ведь это было во сне! – крикнул я.
Проехали Иркутск. И вот она, Ангара. Уже вечер. Темно‑зеленая вода кажется светящейся при голубом свете луны. Поезд врывается в тоннель. Тьма. Из тьмы липнет к окну длинный белый поток паровозного дыма, бьется о стекло. Постепенно черная пустота рассеивается, стук колес становится более отчетливым, и далекие бледные звезды бегут ко мне навстречу. Тоннели... тоннели... тоннели... Им нет конца.
Осторожно открываю дверь в купе. Все спят. Горит синий ночник, освещает съеженную фигурку Таси, свешенную руку Зырянова, широко раскрытый рот Соснина. Изо рта вырываются урчащие, рокочущие, свистящие звуки. Я беру со стола чайную ложку, сую ее в рот Соснину и начинаю там ею болтать, как в стакане. Соснин захлопывает рот. Наступает благословенная ночная тишина.
– Спасибо, Алеша, – доносится до меня шепот:
Я гляжу на Тасю. Но глаза у нее закрыты, и ничем она не выдает себя.
Байкал появился на рассвете. Солнце врастяжку лежало на нем. Встревоженный весной лед переливается, искрится, прижатый ветром к берегу. Над водой чайки, гагары, утки. Вода в том месте, где они полощутся, горит ярче льда.
Тоннели... тоннели... тоннели...
Все уже встали, давно попили чаю, а тоннели все еще идут, и поезд, вырываясь из одного, ныряет в другой.
Байкал то прячется за густой кустарник, то выходит на чистое. Лед и небо.
Тоннели... тоннели... тоннели...
Незаметно Байкал отдаляется. И вот уже скрылся.
– Прощай, Байкал! – сказала Тася.
– И здравствуй, Селенга! – сказал Зырянов.
Река, широкая, с зелеными островами, с отмелями, песчаными косами, бежит рядом с поездом.
– Буран! Закройте окна! – кричит проводник.
Быстро, за какую‑нибудь минуту, небо затянулось черной тучей, и вот уже ничего не видно. Густая, непробиваемая пыль серой полосой движется за окном.
– Монголией пахнет, – говорит Зырянов, – каких‑нибудь двадцать километров до границы.
А поезд идет и идет. Проехали Улан‑Удэ, а буран все сильнее. Скучно. В окно глядеть не на что. Читать не хочется. Остается одно: забраться на свою полку и спать.
– Искали хохлы‑переселенцы деревню в этих краях, – слышу я голос Зырянова. – Нашли. Стали гадать: «Чи та? Чи не та?» Оказалось, та. Отсюда и пошло названье – Чита.
– Чи‑та, – раздельно повторяет Соснин и гогочет. Видимо, эта старая история ему в диковину. – У нас тоже деревня есть, называется Ольховка. Ольхи много, потому и прозвали так.
Неожиданно раздается звонкий смех Таси.
– Здо́рово, да? – спрашивает ее Соснин. – Го‑го‑го‑го‑го! Я таких историй сам знаю много.
Тут уж мы начинаем смеяться все. Смеемся до слез. С нами вместе хохочет и Соснин.
– Я веселый, – говорит он, – могу покойника расшевелить. Го‑го‑го‑го‑го!
А поезд идет и идет. Как петляет дорога! Она тянется среди сопок. Метрах в ста от нас извивается еще один путь. Неужели мы поедем по нему? Да, да, вот уже паровоз сворачивает в ту сторону, выгибаются вагоны. Я вижу весь состав. Паровоз вовсю намахивает лоснящимися локтями. Проходит какое‑то время, и невдалеке появляется тот путь, по которому мы недавно ехали.
– Эсовое вписывание, – говорит Зырянов.
– Эсовое, – хохочет Соснин.
– Да, похоже на латинское «эс».
– Латинское. Знаю. Это значит, приехал из учения сын к отцу. Вот отец и спрашивает его: «Чему научился?» А сын отвечает: «Латыни». Ну, отец велит: «Потолкуй». Сын говорит: «Пожалуйста, папаша. Видишь ложку?» Отец говорит: «Вижу». – «Так по латыни она будет называться ложкус». – «Хорошо, – говорит отец, – а как же будет печка?» – «Печкус», – отвечает сын. – Соснин гулко загоготал. – Здорово? – И замолчал.
– Это все? – спросила Тася.
– Ага, – удовлетворенно ответил Соснин.
– Да нет, позвольте, есть же конец, – вмешался Зырянов.
– Ну! – удивился Соснин.
– Конец таков. Отец спрашивает: «А как называются вилы?» Сын отвечает: «Вилкус». – «А навоз?» – «Навозикус». – «Так вот, – говорит отец, – бери вилкус и отправляйся возить навозикус».
– Го‑го‑го‑го‑го! Навозикус! А я всем рассказываю без конца. И ничего, го‑го‑го‑го‑го, смеются!
В окна заглянули пихты, но, испугавшись нашего смеха, отскочили назад.
Поезд, как время, что бы ни случилось в вагоне, идет и идет. Проехали станцию Мих.‑Чесноковскую. Неподалеку от вокзала – Зея. Отлогие, равнинные берега. Вода цвета неба, а небо как глина. Все это быстро мелькает, исчезает, появляется, прячется. За Зеей простирается степь, голая, без кустарника, без деревца. Даже не верится, что были сопки, леса. Но вот тоннель, и, как перевернутая страница, опять сопки, они тянутся зубчатой грядой, поросшие густым, вековым лесом.
С утра уже стали говорить об Амуре.
– Один мост больше двух километров, – говорит Зырянов, – здесь земля большая. Под стать ей и река, и леса, недаром их называют тайгой. Здесь все крупно.
– Скорей бы приехать, – капризничает Тася, – надоело. Даже не знаешь, что и делать.