А. Толстиков И. Тепикин И. Богданов В. Астафьев А. Домнин А. Зырянов А. Спешилов В. Рачков П. Жуков А. Волков С. Мухин
Охотничьи были
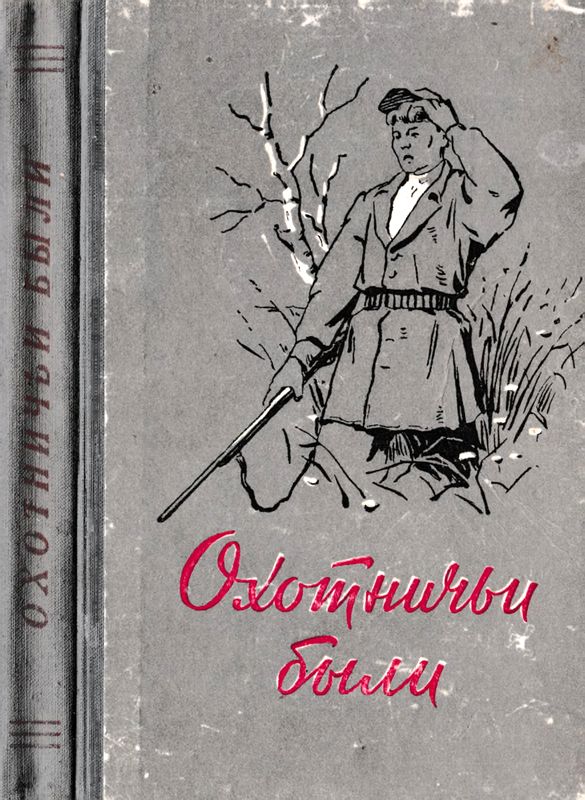
ОХОТНИЧЬИ БЫЛИ
Рассказы об охотниках и рыбаках


А. Толстиков
ОХОТНИЧЬИ РАДОСТИ
Доброе ружье
Последний раз в этом сезоне я ходил на охоту в конце ноября. В лесу снегу уже до колен. Километр пройдешь – пар от тебя клубами валит. Под елкой станешь пролезать – за ворот снегу насыплется – сразу прохладно станет. Так вот и бросает то в жар, то в холод. А в лесу пустынно, невесело. Набрел на заячий след.
Долго распутывал хитрости беляка. Подошел к нему вплотную, но он заметил меня прежде, чем я его. Мне‑то его и видеть совсем не пришлось, я только лёжкой его полюбовался. А он в то время от меня, может, за километр был… Может, и ближе, кто знает…
Нет, кончились веселые деньки. Ружье теперь на гвоздик. Да, на пять месяцев лишаешься этого удовольствия, этой радости – охоты. Пять месяцев вычеркивает уральская зима из жизни охотника. Да летом три месяца межсезонья. Ну, тогда хоть рыбалкой заняться можно. Все же не так обидно.
Неужели без выстрела уходить с последней охоты? Но в кого стрелять? Э, было бы желание, а стрелять найдешь во что. Прикрепляю к стволу спичечную коробку, старательно отсчитываю сорок шагов – это с гарантией сорок метров. Прицеливаюсь… Бах! Резкий толчок отдачи. Когда по птице или по зверю стреляешь, отдача незаметна, а тут встряхивает основательно. Подхожу к коробке совсем не равнодушно.
– Гм‑м!.. Доброе у меня ружье. За сорок метров в спичечную коробку три дробины третьего номера из левого ствола…
Довольный возвращаюсь домой и старательно чищу ружье. И всю зиму оно блестит у меня, как зеркало. Радостно в руки взять.
Гончак
Билет на рубку сухостоя был взят еще летом, а дрова заготовлять пришлось уже в конце октября. Брату долго нездоровилось, а одному такая работа несподручна. Вот и затянулось это дело.
В лес, а он рядом, вышли раненько. Взяли пилу, топор и ружья, кликнули своего костромича Лорда. Мать ворчала, дескать, пробегаете с ружьями по лесу, на работу пошли, так зачем ружья брать. Но как же можно пойти в лес без ружья? Мы решили, что свалим, раскряжуем и сложим восемь кубометров, поторопимся, а вечерком, время останется – зайчишек погоняем.
Лорда вели на поводке, а придя на место, привязали к дереву. Его отпусти – он зайца найдет, гонять будет и нас сманит. Ведь не утерпишь, слыша гон. «Работать надо», – строго говорили мы с братом друг другу.
Одно за другим с треском падали умершие на корню деревья. Работаем, а сами на Лорда поглядываем. Он недоволен, скулит, взвизгивает:
– Тоже мне! В лес привели, да привязали. Нечего сказать, хороши. Пустите! Ну пустите же!
Обиженными глазами на нас смотрит. Мы ему сочувствуем, но пытаемся объяснить положение:
– Пойми ты, глупый пес, зима приближается, зима. Дров нужно заготовить. А то замерзнем. Знаешь русскую пословицу: делу – время, а потехе – час. Потерпи, песик, потерпи, милый. Вот закончим – тогда…
Лорд ничего не хотел понимать. Его недовольство перерастало в возмущение, он начал рваться. Мы пригрозили ему. Он притих.
Пятнадцать деревьев свалили. Пожалуй, хватит. Вдруг слышим: «Бам! Бам! Бам!» – громкий собачий лай в лесу. Глянули – а Лорда нет. Порвал поводок? Нет, перекусил! Улизнул незаметно и вот уже гоняет. Ах, негодяй! Ругаем его, а сами слушаем гон как музыку, наслаждаемся. И самим вместе с Лордом за зайцем бегать хочется.
Однако делу – время, а потехе – час. Я обрубаю сучья, брат стаскивает их в кучу. Топор птицей летает у меня в руках. Еще бы! Я слышу такие призывы. Поторапливаемся. Хлысты разделали на двухметровые кряжи. Сейчас их надо в штабель сложить, а из лесу несется: «Бам! Бам! Бам!» Вот уж часа три гоняет. Молодец, Лорд, молодец! Прошло еще часа три, пока мы управились. Лорд зайца не бросил, не потерял. По голосу слышно. – устал он. Заяц, наверное, еле дышит. Да и or нас пар валит. Но мы усталости не ощущаем. Схватили, наконец, ружья – и туда, где наш Лорд.
Через полчаса я увидел косого, перебегавшего поляну. На этой поляне он и успокоился. Тут Лорд выскочил, язык у него почти до земли высунут.
– Милый, ты мой, милый! На вот тебе пазанки. Умаялся, бедняжка.
Подошел брат.
– Ну, теперь домой. Время уже позднее. Дело сделано и потешились.
Куда там! Как только сказали: «Домой», – Лорд отпрыгнул и, оглядываясь, трусцой отправился в лес. И снова скоро заголосил.
Этого зайца перехватили уже в сумерках. Лорда поймали и взяли на поводок, иначе он всю ночь по лесу рыскать будет. Уж такая собака этот Лорд, радость наша!
Рождение дня
Первым проснулся журавль на болоте. Нацелился острым клювом на мерцающие в темном небе звезды и звонко крикнул, как в серебряную трубу сыграл: «Подъем!».
Над спящим еще лесом, невидимые, потянули вальдшнепы. «Хорр… Хорр… Цвик!». Пролетели близ высоченной сосны, что стоит на опушке леса. Старый глухарь, бородатый, от дремоты очнулся, потоптался на толстом суку, хвост распахнул веером и щелкнул, будто сухой сучок переломил.
– Чу‑фышш, – раздалось на поляне в березняке. Это косач‑драчун на поединок соперников вызывает.
Жаворонок над полем поднимается все выше, звенит оттуда бубенчиком:
– Вижу, вижу солнце. Там оно – за лесом, за горой, к нам спешит. К нам, к нам! Радуйтесь, вставайте, вставайте, пойте…
А над дальним лесом только еще светлая полоска появилась. Она всползает на небосвод, от ее тепла тают звезды, тьма отодвигается.
Вот и огненный лоб солнца из‑за горизонта высунулся. Возликовали все малые птахи, как будто это чудо, как будто они впервые видят солнце.
Это и в самом деле чудесное явление. Его стоит видеть.
Охотники уже тем богаче других людей, что они часто видят, как солнце встает, как день рождается.
Открытие
«А схожу‑ка в этот выходной на Черную. Весной там чирки держались, сейчас выводки должны быть», – сказал я себе после раздумий, куда пойти на охоту.
И я отправился на Черную. Это захламленная речушка, которая петляет по лесу и впадает в Вильву километрах в двенадцати от города. Шириной она метра четыре, в иных местах чуть больше. Есть на ней омутки или, как их здесь называют, – ямки. Летом Черную можно во многих местах перебрести даже в сапогах с короткими голенищами, а весной она полна до краев, бушует, подмывает берега. Много деревьев, сваленных ветром или подрытых водой, перехватило Черную с берега на берег. Сучья их упираются в дно, образуя, непролазную крепь. На лодке по Черной можно проплыть только с топором, прорубаясь сквозь такие изгороди.
Километров десять вверх от устья прошел я по Черной и не поднял ни одного чирка. Даже досадно стало: «Эх, – думаю, – пойти бы лучше на Белоусовские луга. Там, может, кого и увидел бы».
А чирки, оказывается, были и на Черной. Открыл я их случайно. Стал переходить на другой берег по сваленному дереву, на середине замешкался – мешали мне густые сучья. Стал отгибать один сучок – он сломался, треснул, звонко этак получилось. И начали прямо из‑под меня один за другим чирята выпархивать – один, второй, третий. Пять штук вылетело. Я их только считаю. Стрелять нельзя – стою на дереве в трех метрах над водой, положение неустойчивое. Какая тут стрельба…
Выбрался на берег и к воде спустился, где сучья в дно упираются. Укромные там местечки.
– Так вот вы где, голубчики, прячетесь. Теперь знаю, – сказал я и пошел обратно. Там, где дерева через реку перехлестнуло, остановлюсь, к стрельбе изготовлюсь и крикну:
– Гей‑гей! Спасайся!
Три выводка этак поднял, три дуплета сделал. Остался доволен.
А ведь я раньше мимо них проходил… Отсиживались. Видно, не первый раз.
Красивый выстрел
Ранним утром я шел по лесной дороге. Солнце пробивалось сквозь оголенный березняк, капельки ночного дождя, висевшие на ветках, сверкали, как искры. Задумчивая тишина придавила лес, потрепанный лихими осенними ветрами. Грусть по ушедшему лету разлита кругом, а в душе у меня бодрость – от этих искорок, от прохладного чистого воздуха. Ружье держу наготове в руках.
Дорога впереди круто поворачивает вправо. Там, за поворотом, раздается хлопанье крыльев тетеревов. Видно, заметили они меня или услышали. Поднялись. Два, слышу, понеслись к сухому болоту направо, а один – на меня, над дорогой. Вот он – выше леса, на фоне бледно‑голубого неба – черный, с белыми подкрыльями, с лировидным хвостом, ладный, крепкий, стремительный. Сухо треснул выстрел. Косач прижал крылья, покорно и вместе с тем как‑то горделиво закинул голову и грудью вперед, как прыгун в «ласточке», ринулся на землю. Гулко стукнулся у моих ног. Я сделал шаг, поднял его и долго любовался им.
Он и сейчас у меня перед глазами, ринувшийся с высоты.
На утином пути
Против Копалино Чусовая разделяется на два рукава. Между ними – остров Долгий. Длина его километров пять. Заостровки сливаются против деревни Вереино, что стоит на высоком левом берегу. Соединившись, река круто поворачивает влево и делает большую петлю. От мельницы, что стоит на берегу Чусовой в устье небольшой речушки Шушпанки, до слияния заостровок по прямой километра два, а по берегу – в десять не уложишься. По лугам в излучине много мелких озер. На них‑то я и охотился, а ночевал у мельника.
Было начало октября. С севера дули холодные ветры. Раза три уже прорывался снег. Шла свиязь и чернеть. Тысячные табуны уток, клубясь, как черные тучи, неслись на юг, к теплу. Небольшие стайки иногда тянули низом. Некоторые летели над самой рекой, останавливались отдохнуть, кормились на озерах. Тут я их и встречал. Славная была у меня в тот год охота. Почти весь отпуск провел на этих лугах.
На реке не стрелял. Лодки нет: убьешь – не достанешь. Что за интерес? А на озерах каждая битая – твоя. Ветерком ее к берегу пригонит, а если в лопухах застрянет, карманного сеттера – шнурок в ход пустишь.
Потом я и озера обходить перестал. Заметил, что те стайки, которые идут низко над рекой, спрямляют изгиб – от слияния заостровок летят к Шушпанской мельнице над лугами. Им зря махать крыльями тоже не хочется, путь выбирают кратчайший. Правильно делают. Этим я и воспользовался.
В ста метрах от Чусовой, параллельно ей, прямо против мыса острова Долгого, протянулось узкое и мелкое озерко. Берег его со стороны реки чистый, низменный, а противоположный – повыше, заросший ивняком, черемушником. За этими кустами, на пути пролета уток я и вставал. Сквозь оголенные ветки мне было видно, как приближалась стайка. Я готовился и, когда она проносилась над головой или в стороне на расстоянии выстрела, делал дуплет. Сбитые падали на землю. Не уходил ни один подранок, и даже шнурок оказывался не нужен. Утром три‑четыре дуплета сделаешь, вечером – пару, днем для разнообразия озера обойдешь. Одно удовольствие.
Стою как‑то вечером на своем посту, покуриваю, зажав папиросу в кулак. Ветер поднялся, тучи густые набежали, стемнело быстро, уже не заметишь приближения стаи. А заранее не приготовишься – выстрелить не успеешь: утка несется быстрее ветра, просвистит крыльями над головой – поминай как звали. Уходить собрался. Вдруг стая стремительно плюхнулась на озеро. Сквозь ветер слышно, как утки плещутся на мели, урчат, хрюкают, чавкают. Проголодались, видать, сильно. Стал я продираться через кусты, вышел к воде, а уток не вижу – темень. Слышу только, они в конце озера собрались, кормятся. Выстрелил на их голоса. Со страшным шумом поднялась стая. Я стою и думаю: зацепил хоть одну или нет? И слышу кашель с озера раздался: как есть человек кашляет, этак приглушенно. Что такое? Бросился в конец озера. Еще одна утка поднялась. Подранок был, она и кашляла. Утке, должно быть, легкое пробило.
Два белых пятна на отмели заметил: это свиязи вверх брюшком плавали. Зацепил их палкой. А утром еще трех уток нашел на отмели. Плотно, значит, они сидели.
Весна
В субботу часов около семи я сел на пригородный поезд и через двадцать минут был у лысьвенского моста. Здесь нет ни станции, ни разъезда. Поезд останавливается у будки путевого обходчика, из него высаживаются колхозники, ездившие в город. Через минуту, нетерпеливо гукнув, пыхтящий паровоз потащил состав дальше, колхозники пошли направо, а я пошел через мост и двинулся влево, по берегу петляющей Лысьвы, до краев наполненной стремительной, бурной водой.
Воздух, теплый над полянами и прохладный под кронами прикрывающих тропку деревьев, был так свеж, как бывает только весной, когда земля сверху уже нагрета, но еще не дает испарений. Все солнечное тепло поглощается землей, и она оттаивает с каждым днем глубже и глубже.
Солнце еще высоко и неустанно делает свое дело – отогревает землю от зимней спячки, добирается до последних клочков снега, которые хоронятся по глухим местам, пробуждает соки в деревьях, греет корни трав, будоражит кровь птиц и зверей, которые каждый по‑своему славят его.
На краю одной из полян тропку перебежал рябец. Хвост он растопырил веером, концы крыльев волочит по земле, голову склонил набок и, наплевав на все опасности, гонится за рябушкой. А она то остановится и глянет на него искоса, то засеменит ножками. Будет здесь по осени выводок, если эта парочка уцелеет. Только вряд ли. Очень уж они неосторожны. От весны совсем ошалели. Вот и заяц, белый, как ком снега, вылез на поляну, подставляет свои бока солнышку. Тоже одурь его одолела. Сидеть бы косому где‑нибудь под елкой. Скворец на верхушке березы свистит и щелкает, дрожит весь от восторга. Где‑то на другой поляне, в глубине леса, басовито бормочет тетерев. Над кустами ивняка суетливо носится чирок и беспокойно трюкает: чируху свою потерял. О врагах своих, о жизни своей забыли: голос будущей жизни звучит в каждом, оглушает.
Иду по берегу. Слева – река бурлит, справа – лес тихо дышит. За плечами ружье. Снимать его, поднимать грохот – не хочется. Прошел я километров пять. Видел селезня крякового. Далеконько, правда… Стрелять не стал. Косяк гусей, перекликаясь, пролетел надо мной. Высоко. Солнце садится. Надо подумать о ночлеге. Утро вечера мудренее. А весной не только мудренее, но и чудеснее.
Вот и место для ночлега. Здесь уже останавливался охотник. Может, неделю назад, может больше. На поляне под низко опущенными лапами старой ели, как под крышей, толстый мягкий тюфяк из сена, взятого где‑то с остожья. Рядом с ним – два кряжа срубленного сухостойного дерева с обгоревшими концами. По другую сторону – плотный заспинник. Только передвинуть немного кряжи, зажечь нодью – и спи с комфортом. Спасибо тому охотнику, воспользуюсь его трудами.
Вскипятил чай, не торопясь пью его, посматриваю на языки пламени, которые лижут верхнее толстое бревно нодьи. Разгорелась она. От двух огромных тлеющих головешек жаром пышет. От этого тепла, от выпитого чая жарко стало. Снял телогрейку, подушку из нее сделал. Прилег. Хорошо! Лучше, чем дома. Эх, дай‑ка разуюсь.
Когда уснул – не заметил. Босой, в одной гимнастерке. Сны снились радостные, а к утру увидел такой – иду с ружьем по тропке, по той самой, что вечером шел. На поляне, где заяц сидел, – пара медвежат бродит, ковыряются, на земле что‑то ищут. А то встанут на дыбки, борются… «Ну, – думаю, – они тут не одни. Медведица где‑то рядом. Она шуток не любит. А пуль с собой не взял. Не рассчитывал на такую встречу. Придется драпать тебе, охотник». Тоскливо мне стало. Тут и проснулся. Только открыл глаза, а солнце в них как брызнет! Оно уже над лесом стоит. Глянул на часы. Мать честная! Восемь! Хорошо, что медведица разбудила, а то проспал бы до обеда. Эх, охотничек!..
Грела нодья, грело солнышко. Я не скоро еще ушел с места ночлега. Поляна, вечером казавшаяся темной, сейчас зеленела. Острые зеленые иголочки пробивались сквозь прошлогоднюю пожухлую траву и упрямо тянулись вверх, навстречу теплу. Я жмурился, вдыхал едва уловимые запахи ранней весны, слушал ее звонкие ликующие голоса. Ружье лежало рядом.


А. Толстиков
ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
Совет старого охотника
Свой первый охотничий сезон по уткам мне посчастливилось открывать с опытным охотником – дядей Егором. Книжек об охоте он не читал, а знал много. Сорок лет бродил он с ружьем по лесу, по лугам, смотрел, запоминал, вот и накопилось у него знаний о звере, о птице.
Задолго до восхода солнца вышли мы к Шундерским озерам, цепочкой растянувшимся по лугам. На берегах их – дубовые рощи. Вислоухая лохматая Дамка – дворняжка, которую дядя Егор не променял бы на гончака, если бы даже к нему в придачу давали двух сеттеров, – бежит впереди нас, прочерчивая на седой от росы отаве яркую зеленую полосу. Дамка утку с воды подает, зайца может гонять целый день, белку ищет, дом стережет. Что от нее еще нужно? «На все руки мастер» эта Дамка, хоть на вид и неказиста – бледно‑рыжая, низкорослая.
У первого же озера Дамка громко залаяла, прыгая по берегу.
– Выводок, – спокойно сказал дядя Егор. – Посмотрим, какие? – И без всяких предосторожностей пошел прямо к собаке. Я за ним, удивляясь, что он не крадется. Как будто к домашним уткам идет. Штук десять небольших уточек, сбившись в плотную кучку, замерли на воде. Они видели нас, но не улетели.
– Чирята, – недовольно протянул он и обратился ко мне: – Ну, благословясь, пали.
– А ты, дядя Егор?
– А я не буду.
Грохнуло мое ружье. Как поднялись чирки и куда они скрылись – я не видел. Думал, что всю кучу так и прихлопнул.
– Ничего, трех штук подшиб, – заметил старый охотник. – Дамка, подай.
– А почему они не улетели, когда на них собака лаяла и когда они нас увидели? – спросил я.
– Дамку утка за лису, должно быть, принимает. А лисы, когда они на воде, утки не опасаются. Молодые‑то, непуганые и человека не боятся. Что они о человеке знают?
Следующий выводок был из кряковых. Облаивания он не испугался, но как только увидел нас – поднялся с шумом и унесся, свистя крыльями.
– Вот тебе и молодые, непуганые, – сказал я.
– Если уж они тебе так понравились – садись вот тут в куст и жди. Только по одной не стреляй, сгрудятся – тогда.
– Неужели прилетят?
– Полчаса не пройдет – тут будут. А мы с Дамкой дальше пойдем. У Прорвы подождем тебя.
Я подумал, что мешаю дяде Егору и он хочет от меня избавиться. Напрасно обидел старика таким подозрением. Минут через двадцать выводок вернулся. Он сел на середину озера и осторожно стал подплывать к кусту, из‑под которого был поднят. Не хватило у меня выдержки, не подпустил я уток близко, не дал сгрудиться. И все‑таки взял пару с одного выстрела.
Потом я много раз проверял этот совет дяди Егора. Утиный выводок, если его подняли без выстрела, – всегда возвращается на то же место, откуда был вспугнут.
Замаскируйся, охотник, и жди. Ждать придется недолго.
Не корми ворон
Заяц пробегал поляну левым боком ко мне. Хотя расстояние было велико для обычного ружья, я выстрелил, зная, что ружье у меня лучше многих. Заяц, не сбавляя и не прибавляя хода, не меняя направления, пересек поляну и скрылся в мелколесье.
Заячья стежка – оказалась широко перечеркнута дробью, а на следу – ни кровинки. По всем признакам – чистейший промах.
«Как видно, обнесло, – сказал я себе. – На таком расстоянии это и не удивительно».
На том бы и дело кончилось, да решил я, сам не знаю почему, пройти по следу подальше. И был вознагражден – метров за двести от места, куда я стрелял, заяц лежал врастяжку на боку. Уже дома я установил – единственная попавшая в него дробинка пробила стенку сердца.
А он с пробитым сердцем сделал еще сотню прыжков, не подавая вида, что смертельно ранен.
Случалось также, что, провожая глазами утку после выстрела, который вначале казался промахом, я видел, как она замертво падала, отлетев сотню, другую метров, и находил ее.
Отсюда вывод: не упускай из вида дичь после выстрела, пройди по следу стреляного зверя, пока не убедишься, что выстрел был для него совершенно безвреден.
Не корми ворон.
Птичий разговор
Птицы говорят между собой. И отлично понимают друг друга…
Как‑то в середине июля я ходил за грибами. Лето стояло дождливое, красноголовиков в мелком осиннике появилось множество. Быстро наполнил корзинку крепкими, пахнущими свежестью грибами. Возвращаюсь домой. На одной маленькой полянке, густо заросшей сочной лесной травой, у меня из‑под ног молча вылетел дрозд, ткнулся в куст, притаился.
«Не иначе, как тут гнездо», – подумал я и начал искать его. Лишь только нагнулся и раздвинул траву, молчавшая дроздиха – это она слетела с гнезда – пронеслась над самой моей головой, суматошливо треща. Она уселась на осинку в трех шагах от меня, беспокойно прыгала с ветки на ветку, без умолку кричала.
Конечно, рядом гнездо. Дроздиха старается отвлечь на себя мое внимание, увести от птенцов, хочет, чтоб я попытался поймать ее. А вот и гнездо. Его до краев заполнили четыре полуоперившихся дрозденка. Четыре пары темных бусинок глаз глядят на меня. Дроздиха совсем с ума сходит, мечется у меня над головой, кричит в отчаяньи:
– Чок‑чок‑чок! Чок‑чок‑чок! Беда! Беда! Он их увидел! Бедные мои крошки! Беда!
Вдруг из куста невидимый мне дрозд‑отец спокойно сказал:
– Чок!.. Чок!.. Дети, тихо!.. Не шевелитесь!..
Дроздята, как по команде, закрыли глаза, замерли, слились с гнездом. Кочка, на кочке пучок прошлогодней травы, – больше ничего нет. Ловко прячутся. Рядом пройдешь, смотреть на них будешь – не увидишь.
Взял одного в руки. Что будет? Дроздиха заголосила истошно:
– Чок! Чок‑чок! Чок! Чок‑чок! Чок! Чок‑чок! Спасите! Спасите! Спасите!
Вылетел из куста и папаша‑дрозд, уселся на вершинку дерева, крикнул:
– Т‑р‑р! Чок‑чок! Тр‑тр‑р! На помощь! На помощь!
И налетела стая дроздов. Поднялся такой треск, гвалт и писк, что в ушах у меня зазвенело. Орут.
– Безобразие! Разбой! Когда это прекратится?
Я положил дрозденка обратно в гнездо. Шум немного утих. Слышу, отец‑дрозд советует:
– Сынок, тебя обнаружили. Попытайся сбежать, иначе пропадешь.
Мой дрозденок вскочил и кинулся в траву. Я его поймал и водворил на место. А остальные прикорнули, будто и нет их.
Дрозд опять советует:
– Не так, сынок, ты вначале притворись, что тебя нет, а потом прыг – и в траву. Только быстро.
Дроздиха совсем голову потеряла, на дрозда кричит:
– Ах, ничего ты не понимаешь! Он должен сидеть! Нет, бежать! Нет, сидеть! Ах! Ах! Ах!
Дрозденок притих, глаза закрыл.
Стая успокоилась.
Вдруг дрозденок – прыг из гнезда. Едва успел поймать его.
Снова гвалт поднялся. Кричат, ругают меня. Положил беглеца в гнездо. Все утихло. Опять голос дрозда раздался:
– Дети, вы двое сразу да в разные стороны. Тогда он не поймает.
Выскочили два дрозденка, один налево бросился, другой – направо. А дроздиха крылом меня чуть не по носу чиркнула. Поймал обоих. Они запищали. Ох и шум тут начался. Ну, думаю, хватит их мучить, посажу в гнездо и отойду подальше, а потом посмотрю, что будет.
Только я пять шагов сделал, как дроздиха к гнезду кинулась, заголосила:
– За мной! Милые! Быстрее! Быстрее! Он еще тут! Близко! Быстрее!
Через минуту все стихло. Я вернулся. Гнездо было пусто. Поискал кругом в кустах – никого не нашел, конечно. Да разве их найдешь, когда они запрячутся…
Плач березы
Казалось, косач бормочет и чуфыкает совсем рядом. Но я прошел уже с километр, а он все еще где‑то впереди. В безветренное раннее утро звуки разносятся далеко.
Иду не торопясь, не даю воли ногам. Если им позволить – они так потащат, что оглянуться не успеешь, как мимо косача проскочишь. Вот он, за той грядкой березняка. Там, где большая береза стоит. Там поляна. Я ее знаю. На той поляне и пляшет тетерев. Я его не вижу, но сейчас знаю – он там.
Я не успел еще выбраться на поляну, как косач заметил меня. Он замолк – и замер, как обгорелый пенек. Долго мы стояли не шевелясь. Меня утомила неподвижность. Я перенес тяжесть тела на одну ногу. Хрустнула веточка под каблуком. Косач с громом поднялся и начал набирать высоту. Я увидел его мелькающим в просветах между вершин голых березок. Вот он поравнялся со старой березой, уныло опустившей пряди своих ветвей. После выстрела я прыжком выскочил на поляну. Вижу – черная птица, мелькая белым подхвостьем, бьется под березой.
Рассматриваю свою добычу – краснобрового красавца, с перьями, отливающими на груди вороненой сталью. Он и мертвый еще не остыл от своей любовной песни – перья на шее стоят торчком, и она кажется могучей.
Вдруг крупная капля звонко ударила в кисть руки. Рядом со мной на землю посыпались капли одна за другой. Дождь? Откуда? Небо чисто, голубизна его прозрачна. А сверху каплет и каплет.
Заметил, что эта капель только под березой, где я стою. Внимательно посмотрел на нее, понял: дробь зацепила и дерево.
И вот плачет береза, оплакивает птицу, которую кормила плотью своей, которая не раз пела на ней песню весны, жизни.


А. Толстиков
НА ПОДКОВЕ
Проснулся я от холода задолго до рассвета. Вечер накануне был теплый, и я прилег у основания стога, прижавшись к нему спиной, чуть прикрыв себя, как тонким одеялом, слоем душистого свежего сена. Тяжелый туман, поднявшийся ночью с озера, пропитал сено, мою легкую одежду, студил тело. Холодновато бывает перед рассветом в конце августа. Передергивая плечами, вылез из своей норы, потопал плохо гнущимися ногами, помахал руками, стараясь шлепнуть правой ладонью по левой лопатке, а левой ладонью по правой лопатке. Немного согрелся, сбегал до ближайшего куста, набрал там сухих веток и развел маленький костерчик. Костерчик мой в пригоршни взять бы можно, и все‑таки тепло от него ощутимое и веселее с ним. Подкармливаю огонек хрустящими ветками ивняка, жду рассвета. Над головой в непроглядном тумане изредка просвистят утиные крылья, с озера донесется спокойное «кря‑кря…» Сердце от этих звуков начинает биться как‑то по особому – вкрадчиво.
Озеро согнулось огромной подковой. Его так и называют. Между концами ее – километр. Я в центре этой подковы, в кустах. Она – рядом, но ее не видно.
Становится светло, хочется взять ружье и пойти на берег, где щетинятся густые заросли хвоща. Сдерживаю себя, знаю – бесполезно начинать охоту, когда луга будто молоком залиты вровень с верхушками деревьев. До стога вот пять шагов, а он выглядит серой размытой тенью. Уток не увидишь, только распугаешь.
Ветерок бы поднялся, что ли, разодрал бы туман в клочья и унес подальше. Но ветра нет. Остается ждать солнца. Оно поднимется и растопит эту белую пелену.
Вот и солнце наконец‑то выкатилось из‑за невидимого горизонта, расплывчатым ярким пятном просвечивает сквозь белую муть. Выше, выше стало взбираться на небо. Редеет туман. Пора!..
Затоптал костер. Иду бесшумными шагами возле озера, руки не ощущают тяжести двустволки. Что же тут удивительного? Человек не ощущает ведь тяжести своих рук. Вдоль берега метров на двадцать в ширину – щетка остроконечного хвоща и осоки. За ней – зеркало озера. Утки – на кромке зарослей или снуют в них, бесшумно раздвигая гибкие стебли. Видимость еще плохая, колебания задетых ими растений заметить невозможно. Время от времени, насколько мне позволяют сапоги, захожу в заросль, надеясь поднять на крыло крякушку или чирка. Вот счастье улыбнулось мне – с небольшого оконца тяжело поднялась, громко хлопая крыльями, ржаво‑серая утка. После выстрела она кувыркнулась в осоку. Пришлось разуваться и снимать штаны. Минут пять, а может, и десять, не чувствовал холодного ила, в котором ноги вязли до колен, холода воды, в которой бродил почти до пояса. Приминал осоку, присматривался, прислушивался. Здесь вот утка упала, вот выбитые дробью перья. А где она сама? Попробуй найди ее, если она коснулась воды хотя бы чуть живая. Окоченевший вылез на берег и долго растирал замерзшие ноги. Н‑да! Бывает… Собачку бы тут, хоть немудрененькую. Собачки нет – иди дальше.
За последние два часа я еще пять раз снимал штаны и принимал холодные грязи, старательно мял осоку и хвощ, но ничего, кроме нескольких пушинок, не нашел. Шесть уток, шесть крякушей загубил, «полревматизма» себе добыл – и вот хоть уходи от озера не солоно хлебавши.
«Да, надо уйти с этого озера. Есть же другие, более удобные. Там уток меньше, но каждую подбитую достать можно. Довольно птиц калечить. Пошли», – сказал я себе. Только шагнул – опять утка вылетела. И близко. Ружье само выстрелило. И эта сунулась в камыш. Отпустить бы ее до чистой воды, не торопиться бы. Может, найду… Снова штаны снял. Долго бродил, много хвоща примял. Закоченел совсем, руки уж ружье не держат. Вдруг слышу над головой посвистывание. Глянул вверх – пара свиязей летит. Высоко… Ударил дуплетом. Это уже со злости. И сбил обоих. Одна упала метрах в пяти‑десяти на чистую воду, а другая – в доброй сотне. Лежат, не шелохнутся. Выскочил я на берег, попрыгал, погрелся. А свиязи на озере белыми брюшками посвечивают, манят.
– Эх, сплаваем. Где наша не пропадала!
Снял патронташ, сбросил кепку, рубаху и майку, полез в озеро. Широкие листья кувшинок, как чьи‑то холодные ладони, гладят по груди, по животу, ноги и руки оплетает мягкая щучья трава. Чем дальше, тем водоросли гуще. Барахтаюсь в них, как муха в остывших щах. До ближней утки – рукой подать, но ведь надо еще обратно выбраться. Главное теперь не утка, а выбраться обратно, на берег. Не повернуть ли сейчас же? Каждый лишний взмах руки может оказаться нужным, самым нужным в жизни… Ну, нет! Сил хватит. Это было бы смешно – убить утку, подплыть к ней и оставить. Нет! Вот она. Хватай зубами. Пошли обратно. Ох, ты чертова трава! Как неприятны ее прикосновения. Работай! Держись! Ага, вот и дно. На берег!
На берег я вылез на четвереньках. Вконец обессиленный, швырнул утку к ружью. Все тело онемело от холода. И все‑таки заставил себя сделать пробежку, растерся портянкой, как полотенцем, затем оделся, сплясал вприсядку – это хорошо греет – и ушел на другое озеро.
А насморка не было.


И. Тепикин
ПРИЗВАНИЕ
«Охота пуще неволи», – гласит народная пословица. «Вот она, охота, до чего доводит человека», – приходится слышать от людей, когда они видят усталого запыленного человека, который, с трудом передвигая ноги, плетется домой.
До охотника долетают эти слова, он слышит их, но они его не тревожат и, больше того, ни капельки не смущают. Охотник невозмутим. Бывает так, что дома ворчливая жена начинает попрекать: вот, дескать, ты не как другие добрые, порядочные люди – те сидят в выходной день дома, отдыхают… А он (извольте радоваться!) почти сутки пропадал в лесу и ничего не принес (либо «почти ничего»).
Но и тут охотник не теряет присутствия духа. Он молча стягивает с себя всю амуницию, рюкзак, терпеливо ждет, когда ему принесут обед, а между тем, находясь под впечатлением пережитого, вспоминает чуть горьковатый запах хвои, трепетное пламя охотничьего костра, которое, кажется, вот‑вот оторвется от поленьев и взлетит в небо, звонкие птичьи голоса.

Охота настолько въедается в плоть и кровь человека, что он нередко во сне переживает охотничьи приключения: неизвестно почему начинает звать собаку, кричать «пиль», «ату его, ату». Жена, конечно, пугается…
Это все похоже на шутку, в которой есть известная доля правды.
Что же такое охотник? Думается, что назвать себя им может только тот, кто любит природу, тонко подмечает происходящие в ней перемены, понимает повадки зверей. И охотится он не потому, что ему нужно непременно убить птицу или зверя, а прежде всего из спортивного интереса.
Лес, он, как магнит, тянет к себе. Когда войдешь на опушку, вздохнешь полной грудью свежий аромат трав – так и кажется: помолодел лет на десять. Во все тело влилась новая чудодейственная сила, в ногах появилось ощущение неожиданной бодрости. Не приходится удивляться, что охотник, как говорят в народе, «глотает километры», расстояния ему нипочем.
…А как хорошо бывает в лесу, когда настанет ранняя уральская осень, когда желтые листья шуршат под ногами и ковром покрывают землю, когда наступают первые утренние заморозки… Красив Урал в эту пору! Посмотришь, бывало, на темные хребты гор, из‑за которых выплывает солнце, на необъятные лесные массивы и не можешь не сказать себе: «Какая красота, какой простор!»
Это восторженное отношение к природе никогда не погасить у настоящих охотников. Не зря, находясь в лесу, они часто сетуют, что нет фотоаппарата, что известный живописец Шишкин не может уже все это видеть.
Красоту уральской природы можно заметить и прочувствовать везде. Она глубоко своеобразна. Возьмем хотя бы Бассегские горы. Когда подходишь к ним, невольно начинает, сказываться на настроении их угрюмый вид, нависшие камни.
Карабкаясь наверх, то и дело думаешь: вот‑вот сорвешься, упадешь. Здесь не в диковинку глубокая щель. Породы, образующие горы, за миллионы лет перетерпели немало изменений, тепло и холод, вода и ветер сделали свое дело. Камни так сильно выветрились, что поверхность их стала белой, зернистой. Вот почему кажется: вершины Бассега покрыты снегом.
Восхождение на гору вознаграждается сторицей, когда достигнешь вершины. Ничего, что там нет растительности, неважно, что устал: стоит посмотреть вниз – и это состояние проходит. Точно гигантский зеленый ковер, расстилается уральская тайга, пересеченная балками. И тогда появляется мысль, что ты, охотник, – хозяин этих зеленых пространств, где бродит безобидный и быстроногий лось, где высматривает себе добычу косолапый медведь, где забился, спрятавшись под выступивший на поверхность огромный узловатый корень, косоглазый заяц.
Охотник, идя сюда, на Бассегские горы, видит многое. Зорким, внимательным взглядом заметит он белку с ее лакомством – еловыми шишками, птичку кедровку, деловито летающую от дерева к дереву. Он поймет каждый птичий голос и не спутает тоненький голосок рябчика с писком других пернатых лесных жителей.
Любитель природы не оставит без внимания то обстоятельство, что по мере подъема на гору вид деревьев постепенно меняется: они становятся все ниже и ниже, стволы изгибаются, делаются все причудливее. Порой так и кажется, что кто‑то взял и исковеркал деревья.
Словом, не опишешь всего, что можно наблюдать по пути к Бассегу. И наконец все это вместе открывается внизу, у подножья гор.
Есть люди, которым не нравится Урал. Они его, не скупясь на эпитеты, называют «горбатым», «суровым», «скупым», «седым». Эти слова ничуть не характеризуют уральской природы, которая и не скупа и не неприглядна. Нужно только уметь смотреть и понимать то, что видишь.
Возьмем незаметную речку Усьву. Разве не красивы ее воды, с неуловимой быстротой срывающиеся с порогов и перекатов? Ее замечательные зеленые поймы, острова, заостровки, возле которых любит отсиживаться щука?
А разве скалы, обросшие мхом и ягодниками, нависшие над водой, – не красивы? Разве они хуже, чем в Швейцарии, о природе которой так любят говорить?
Не о бедности, а о богатстве, о великом изобилии свидетельствует это. Возле реки водится множество зверей, птиц. В нее впадают не один десяток мелки