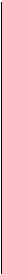 Два мира одного города
Два мира одного города
"История одного города", наряду со сказками и «Господами Головлевыми», входит и триаду самых известных произведений Салтыкова-Щедрина. И уже это предопределяет стандартность подходов к ним, повторение вновь и вновь некогда высказанного.
О происхождении Глумова.
Может быть, читатели замечали, что нередко книгу Салтыкова-Щедрина именуют как «История города Глупова». Замена характерная, но, думается, для автора не вполне желательная. Старая истина; чтобы правильно воспринимать книгу, нужно прежде всего попытаться понять смысл ее заглавия. Начиная с Крутогорска ("Губернские очерки»), Салтыков открыл на русской литературной карте немало замечательных городов. Глупов — из них самый знаменитый и подробно описанный.
Еще в очерке «Литераторы-обыватели», вошедшем в цикл «Сатиры в прозе», возникает этот город, возникает, казалось бы, мимолетно, но речевой характер передачи этой мимолетности имеет глубокий смысл.
Рассказывая о реальных Рязани, Калуге, о каком-то полумифическом Краснорецке, погруженном о «скверну зуботычин», повествователь походя замечает — из свежего «нумера» «Московских ведомостей» он узнает: «...у нас, в городе Глуповс, городничий совсем от рук отбился; на главной площади лежит кучами навоз; по улицам ходят стаями собаки» и т.п. То есть Глупов, несмотря на явственную фантастичность этого топонима, предлагается воспринимать как самую наиреальнейшую реальность, наряду с древними Рязанью, Калугой, Тамбовом, который, может быть, не удостоившись занесения на генеральную карту, уже занял свое место на упомянутой карте литературной.
«Не могу до сих пор забыть то ужасное, потрясающее действие, которое произвело в нашем родном городе Глупове получение нелепой обличительной статьи, направленной против нашего градоначальника» (3,432).
Сюжет о том, что произошло в Глуповс после публикации заметки, где градоначальник Федор Ильич обвинялся в том, что он не выехал на пожар усадьбы мешанки Залупаевой в городе (играя в пульку, «не мог оторваться от интересной игры»), в то время как при пожаре в городе А" начальник губернии «действовал самоотверженно» и «у него обгорели фалды», —. этот сюжет вполне может занять место в повествовании об истории одного города.
Но неизмеримо важнее не количественный, а качественный эффект — создавая Глупов, Салтыков явно хотел уйти от каких-то конкретных, фельетонных, газетных обличений. По сути, вводя газетную статью как сюжетную завязку, приемлемость публицистической критики реальных фактов для художественной словесности он отрицал.
По Салтыкову-Щедрину, за конкретностью, моментальностью, видимостью чего бы то ни было следует искать универсальные основы, не зависящие от времени и пространства.
Допустим, что вы живете далеко от Глупова, допустим, что вы лишены даже удовольствия дышать благораствореииым воздухом Дурацкого Городища. Что ж из этого? — пишет далее автор «Сатир в прозе». — Ват родной Глупов всегда находится при вас, и никуда не уйти вам от Дурацкого Городища!
Как только мы отвлекаемся от конкретно-исторического антуража в «Истории одного города» и начинаем рассматривать происходящее в Глупове с точки зрения трансцендентной, религиозной, начинает возникать ощущение высшей логики, которая отражена в создании Щедрина.
«Историческая сатира»?
Салтыков говорил, что, работая над глуповской эпопеей, он имел в виду_не «историческую», а совершенно обыкновенную сатиру». Спору нет, книга Щедрина выросла на реальной российской почве и отыскивать в ней отражения фактов отечественной истории можно бесконечно. Но так ли это интересно? В конце концов писать свою книгу ради пародирования русских историографов Щедрин не стал бы. Куда интереснее пророчества сатирика, его предугадывание будущего.
Сохранилось суждение Лескова об «идеях Рахметова»: «Чернышевский должен был знать, что, восторжествуй его дело, наше общество! тотчас же на другой день выберет себе квартального» (в другом месте еще жестче — «самого свирепого квартального». И это не только сбывшееся горькое пророчество, но и знаменательный факт веры в то, что писательское, художественное слово способно привести к реальным общественным изменениям и потрясениям. Если продолжать настаивать на том, что Салтыков писал сатиру на русское самодержавное правление, то придется признать и его провидения, связанные уже с фактами, известными нам из истории КПСС и СССР.Так, сочинение Василиска Бородавкина «Мысли о градоначальническом единомыслии, а также о граданачальническом единовластии и прочем» вполне сопоставимо с резолюцией ЦК РКП/б "О единстве партии", принятой в 1921 г. На X съезде большевиков. Салтыков говорил, что нет ничего фантастичнее действительности и вполне можно предположить, что Ленин с его казуистическим умом, Ленин, известный знаток и почитатель Щедрина, вполне мог некоторые идеи, передоверенные писателем градоначальникам ради их, идей, отвержения, перенести в свои труды, которые многие десятилетия должны были почитаться не только последним, но и окончательным достижением мировой, социально-политической и вообще мысли.
Вот Щедрин пишет о возведении «мысли о сочетании идеи прямолинейности с идеей всеобшего осчастливливания" в "довольно сложную и неизъятую идеологических ухищрений административную теорию". Однако Угрюм-бурчеевская "прямая линия" напоминает пресловутую генеральную линию" "родной Коммунистической партии", а его же тезис об «упразднении естества» сходен с многочисленными «мероприятиями», которыми много десятилетий терзают наше отечество не глуповские, а реальные коммунисты и посткоммунисты.
«Темная занавесь, то есть конец свету», придуманная Угрюм-Бурчеевым для отгорожения Глупова, материализовалась в нашем столетии в недоброй памяти «железный занавес». как и слова «барак», «масса», излюбленные в новом, «полуобезьяньем» языке того же бурчеева.
А два праздника в году— весенний "Праздник неуклонности", служащий «приготовлением к предстоящим бедствиям», и осенний «Праздник придержащих властей», посвященный «воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных», напоминают о двух недавних «красных днях» календаря, майском и октябрьско-ноябрьском.
Продолжать можно еще и еще, но сила щедринского шедевра не столько в его сохраняющейся до сих пор злободневности, сколько в том, что он сумел увидеть подоплеку этой злободневности. История, по Салтыкову-Щедрину, связана с современностью глубинной однородностью, повторяемостью человеческих побуждений и следующих из них поступков. Как видно, меняются лишь внешние атрибуты власти, ее вещественные черты, психологическая суть остается неизменной. Власть, персонифицированная_в той или иной личности, должна заботиться о сохранении и воспроизведении самой себя, но никак не этой личности. Личность становится служанкой Власти (недаром в "Оправдательных документах» печатается сочинение князя Микаладзе «О благовидной всех градоначальников наружности»).
Но отказываясь отождествлять «Историю одного города» с подлинной историей России», Салтыков при создании своего детища все-таки использовал именно русские реалии. Попробуем понять, почему.
«Превратное течение времени"
Особое, нелинейное ощущение времени передано еще в ранней прозе Салтыкова. «Издатель» «Истории одного города», то есть, как явствует из титула, сам М.Е.Салтыков-Щедрин, сообщает, что при подготовке «Глуповского Летописца» он обнаружил в числе прочих «оригинальных упражнений на различные темы административно-теоретического содержания" "рассуждение» под названием «Превратное течение времени».
Несмотря на внешнюю пародийность большинства заглавий этих рассуждений» (часть, вошла в приложенные к книге «Оправдательные документы"), идея "превратного течения» весьма серьезна и ее воплощения рассмотрены на страницах книги.
Кроме подробно изображенных времен правления градоначальников даны, несмотря на их краткость, важные характеристики других периодов глуповской истории начиная от головотяпского.
Период "начальственной цивилизации", времена градоначальников хотя и колоритны и уделено им основное место в повествовании все же лишь небольшая часть долгой истории "одною города".
Надо помнить и о "мраке времен", из которого выступили "головотяпы", они же пращуры глуповцев. В глуповской истории существовали периоды; головотяпский, доисторический, фольклорный; следом Княжеский; далее — древнеглуповский, "воровской", "бунташный" и только затем — "исторический", когда Глупов проходит свой путь до Непреклонска. Существовал и «золотой век» Глупова, начавшийся прошением Бородавкина: "Страхи рассеялись, урожаи пошли за урожаями, комет не появлялось, а денег развелось такое множество, что даже куры не клевали их... Потому что это были ассигнации". Эта ретроспекция, конечно, неслучайна. Щедрин делает заявку на историю самим заглавием; историю он и пишет. Салтыков обозначает некую дубинную колебательность, взвихренность, хаотичность внешне мерного и по видимости однонаправленного исторического потока.
Вместе с тем свободное допущение в текст "анахронизмов" обеспечивает непредвзятость восприятия всех других фактов, излагаемых в "Истории...", добавляет к их конкретно-историческим связям связи социально-психологические, философские. Текст Салтыкова — текст прежде всего художественный, то есть многомерный, недидактичный, рассчитанный на сотворчество читатели, И. как видно, он действительно переполнен подлинными предвидениями и прозрениями, что лишь подтверждает ключевое значение именно временных категорий для книги.
Так, наряду со словом "история" в тексте есть еще одно лейтмотивное понятие — "цивилизация".
Читатель узнает, что в окрестностях Глупова существовала "довольно сильная и своеобразная цивилизация", которую, "приняв в нетрезвом виде за бунт", уничтожил градоначальник Урус-Кугуш-Кильдибаев. При Микаладзе "глуповская цивилизация" "чуть-чуть было не пошла" по мирному пути, а при Грустилове представители глуповской интеллигенции пресыщались "пряностями цивилизации". "Настоящую цивилизацию" мечтал "пустить в ход" организатор "войн за просвещение" Бородавкин. Он-то и дал ей определение как "науке о том, колико каждому Российской Империи доблестному сыну отечества быть твердым в бедствиях надлежит".
«Истории одною города» развитие "цивилизации" приводит лишь к тому, что история прекращает "течение свое", а следом является аполитический Перехват-Залихватский. Вместо "гармонии" возникает повое качество несвободы, предельный конфликт природы и цивилизации (о цивилизации как "ограничении человеческой природы" много и убедительно пишут современные ученые)
Таким образом, и знаменитейшую хрестоматийную «Историю одного города" было бы слишком расточительно воспринимать не только как антисамодержавную сатиру, но даже как величайшую антиутопию на темы российской истории.
Внимательное прошение книги Салтыкова показывает особое попечение автора именно о том, чтобы его труд выглядел не конкретной сатирой на конкретное историческое время, конкретные исторические личности, конкретную историографию.
Салтыков рассматривает историю России как. частный случай некоей мегаистории, надыстории и тем закладывает основы для восприятия книги как философского романа о парадоксах человеческого существования.
Градоначальники в "Истории...» и «градоначальники» в истории
Не так давно было высказано мнение, что "лучшая глава «Истории одного города" — описание градоначальников. В ней, как и капсуле, заключен фантастический роман, который, будь он написан на таком же уровне, как этот перечень, мог бы на целый век опередить «Сто лет одиночества» Гарсиа Маркеса".
Но, стремясь установить логику исторического развития сообщества людей, Щедрин естественно и необходимо переходит от юмористического бытописания на уровень социально-философского анализов затем на уровень анализа индивидуально-психологического. Так в произведении возникает тема "убеждений", вообще лейтмотивная для писателя. В то время, когда бесспорной истиной должна признаваться "необходимость нравственного убеждения как внутреннего смысла всей жизни".
В этих категориях и рассмотрена проблема "убеждений" у градоначальников. Щедрин пишет: "...капитан Негодяев хотя и не обладал так называемым "сущим "злонравием, но считал себя человеком убеждения (летописец вместо слова "убеждения " ставит слово "норов"), и в этом качестве постоянно испытывал, достаточно ли глуповцы тверды в бедствиях". Далее факт бытования "убеждений" особого рода подтверждается ("люди, подобные Негодяеву, — всегда отчаянные теоретики и предполагают в смерде одну способность: быть твердым в бедствиях "), а затем развивается в главе «Подтверждение покаяния. Заключение», где изображена деятельность персонифицированного в Угрюм-Ьурчееве особого психологического типа.
На его портрете '"перед глазами зрителя встает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение ". Трудно отделаться от ощущения, что здесь говорит сам писатель, а не условные "издатель" или "автор-повествователь". По мысли Щедрина: "Идиоты вообще очень опасны <…> потому что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним".
"Убеждения" Угрюм-Бурчеева приводят к возникновению в его голове "целого систематического бреда" — устройства "города, который он вознамерился возвести на степень образцового". А это уже другой поворот авторских обобщений.
Планы Угрюм-Бурчеева (вплоть до такого пункта программы: дети, рождающиеся в его образцовом городе, если они "при рождении оказываются необещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются") явно соотносятся с разного рода социально-утопическими теориями то там, то сям возникавшими и течение исторического развития человечества: от Платона до Фурье (и Маркс стоял на пороге).
"Бородавкин был утопист, — пишет Щедрин о другом градоначальнике и добавляет, без всякого сочувствия к этому утопизму, а с очевидной иронией, — если бы пожил подольше, то наверное кончил бы тем, что или был бы сослан за вольномыслие в Сибирь или выстроил бы в Глупове фаланстер".
"Фаланстер", который в мечтательных писаниях французского социал-утописта Шарля Фурье (1772-1837) представал идеальной моделью человеческого общежития, и Глупове начал строиться, хотя и не Бородавкиным, — опять-таки Угрюм-Бурчеевым, изображенным на упомянутом портрете, вспомним, с сочиненным Бородавкиным «Уставом о неуклонном сечении» (причем, добавлено, он "по-видимому, не читает его. а как бы удивляется, что могут существовать на свете люди, которые даже эту неуклонность считают нужным обеспечивать какими-то уставами").
Салтыков, словно предчувствуя своих грядущих интерпретаторов, обуживающих его свободную мысль, сводящих дело, скажем, — по фонетическому сигналу — к аракчеевщине, неоднократно разрывает художественное повествование прямыми публицистическо-философскими рассуждениями.
Поведав о подробностях отправления Угрюм -Бурчеева на градоначалие в Глупов, он добавляет: В то время еще ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивелляторах вообще.
И далее строки особо знаменательные: "..такова была простота нравов того времени, что мы, свидетели эпохи позднейшей, с трудом можем перенестись даже воображением в те времена, когда каждый эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял себе, однако ж, в честь и обязанность быть оным от верхнего конца до нижнего. Угрюм-Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивелляторов этой школы".
Конечно, эти пророчества Салтыкова-Щедрина не могли возникнуть как простой результат эмпирического анализа фактов истории. Он писал книгу во времена, когда литература обрела свободу от жанровых канонов, и эта свобода была не своеволием, а следствием исчерпанности художественного дидактизма, его перехода в интеллектуализм, понимаемый как слияние искусства с философией, интуицио с рацио.
Живя и работая во взвихренной атмосфере 1860-х годов, что формировалась на дрожжах социальных иллюзий, Салтыков отнюдь не принадлежал при этом к так называемому лагерю революционной демократии с Чернышевским во главе. Более того, это были писатели-антагонисты. Ибо Чернышевский пропагандировал социальную мечту в надежде на осуществимость "снов Веры Павловны", а Салтыков считал: если история становится "сновидением", в ней возникают "словно провалы, перед которыми мысль человеческая останавливается не без недоумения. Поток жизни как бы прекращает свое естественное течение и образует водоворот, который кружится на одном месте, брызжет и покрывается мутною накипью" (см. начало главы «Поклонение Мамоне и покаяние"). "Мечта отуманивает ", — пишет он в цикле «Убежище Монрепо». А ранее в «Письмах из провинции» говорит, что даже если мечты представляют "один пустой звук", люди, "за недостатком здоровой и реальной почвы, за отсутствием общественных и политических интересов", гоняются "за звуками, приятно раздражающими слух, и думают наполнить ими пустоту своего существования ".
Последовательно преодолевая утопическое в отношении к мировой истории, Салтыков не раз напоминает, что кроме "гармонии", которая будто бы достижима в результате градоначальнических усилий, существует еще исходная гармония бытия. Вспомним историю с рекой, которую хотел укротить Угрюм-Бурчеев, а затем превратить в свое собственное море". Река не может и не должна быть морем, она — только река и этим прекрасна.
Да и своего наивысшего благосостояния Глупов достиг при майоре Иване Пантелеиче Прыще, в фаршированной голове которого родилась гениальная мысль: вся сущность администрации состоит в невмешательстве в обывательские дела (эту идею Салтыков развил в "утопии" «Единственный», входящей в цикл «Помпадуры и помпадурши»: самая лучшая администрация состоит в отсутствии таковой"). А еще раньше он писал, что жизнь должна быть свободна от "опекательств"; она должна развиваться в соответствии с собственной таинственной логикой, а "исследовать и испытывать природу вещей" надо с осторожностью: лишь, для того, чтобы "упрочить свое благополучие", а не для того, "чтоб оное подорвать".
Народ "на поприще истории»
Но градоначальники могут существовать лишь тогда, когда есть ими управляемые. То есть народ. «действующий на поприще истории» и «народ как воплотитель идеи демократизма.
В соответствии с этим разделением («народу историческому», «выносящему на своих плечах. Бородавкиных, Бурчеевых и т.п. я действительно сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовал, и все мои сочинения полны этим сочувствием") и определяет Салтыков свой подход к народной теме, применяет выработанный им творческий принцип оценивать «жизненные явления единственно по их внутренней стоимости, без всякого участия великодушия и сострадания».
История для Щедрина не сводится к видоизменению народа под воздействием власти. Исследуя происходящее с миром, пусть этот мир даже называется Глуповым, писатель подробно рассказывает о. судьбах мирных горожан. И здесь особенно интересна история Козырей, отца и сына.
Семен Козырь «был простой мусорщик, который, воспользовавшись смутными временами, нажил себе значительное состояние». Но превратности градоправления ввергли его в нищету. Именно тогда Козырь-отец «стал проповедовать что собственность есть мечтание, что толъко, нищие да постники взойдут в Царствие Небесное» и т.п.
В отличие от отца, которого именно удары судьбы обратили лицом к социальной аскезе, его сын Иона, "довольно развитая, но совершенно мечтательная натура», с молодости увлекся идеалами «сожительства добродетельных с добродетельными», ничего не зная о способах их осуществления».
Однако «расплывчатое» учение Козыря стало в Глупове популярным. И здесь интересно то внушение, которое делает Козырю Бородавкин: «Ежели есть на свете клеветники, тати, злодеи и душегубцы..., то с чего же тебе, Ионке, на ум пришло, чтоб им не быть? и кто тебе такую власть дал, чтоб всех сих людей от природных их знаний отставить и зауряд с добродетельными людьми в некоторое смеха достойное место, тобою «раем» продерзностно именуемое, включить?»
Особый колорит в том, что Бородавкин задает вопрос не праздный. Утопия ("смеха достойное место») Ионы Козыря противоестественна не менее, чем прожект Угрюм-Бурчеева. Противоестественны они потому, что в основе их лежит селекция человека.
Правда, справедливости ради нельзя не отметить то, насколько в принципе мудрее проектов «земного рая", возникающих на страницах разного рода утопических сочинений, народные представления об идеальном человеческом сообществе, живущем в гармонии с мирозданием. раньше «поэтов, пророков и философов существовал простой народ со своими заблуждениями и развлечениями, воспоминаниями и надеждами — пишет, в частности, А. Мортон. — У народной Утопии множество имен, она появляется в разных обличьях. Это и английская страна Кокейн, и французская Кокан. Это и Помона, и Горная Бразилия. Гора Венеры и Страна юности. Это Люберланд и Шларафенланд. Рай бедняка и Леденцовая гора.. вполне земной рай, остров сказочного изобилия, вечной юности, вечного лета, веселья, дружбы и мира»4.
В отличие от жестко авторитарных, вплоть до тоталитарности, систем, положенных обычно в основу авторских утопических моделей, народнопоэтические, фольклорные сны о счастливом обществе являют собой нечто безмятежно самоуправляющееся (вспомним, например, Обломовку именно из «Сна Обломова»). «Утопия и цивилизация в идеале — синонимы, — отмечает Ж.Бочамп. — Цивилизация начинается и развивается как ограничение человеческой природы. Утопия создает систему последовательных и необратимых ограничений, предельную цивилизацию. Поэтому человек в глубине души всегда враг цивилизации. Это понимал Фрейд, говоря: «Примитивный человек не ограничивал своих инстинктов. У него было меньше возможностей для наслаждения, но больше свободы использовать эти возможности".
Предлагая веселую, даже несерьезную фантазию о некоем безмятежном крае молочных рек с кисельными берегами, булок и колбас, растущих намерениях, мир добродушных объедал и опивал, народный гений, между прочим, тем выражает вновь свою глубинную религиозность, мудрое осознание непреодолимой противоположности Небесного и земного.
Объяснимо ли «оно»?
История в понимании Салтыкова не сводится к истории власти". Власть однородна, она повторима во времени, не способна к развитию, так как замкнута на самое себя. Может быть, это убеждение писатели окажется ключом к тайне финала его книги. Истолкованию знаменитого оно посвящены многие десятки работ, но все суждения могут быть сведены к двум основным: для одних исследователей это выражение народного гнева, революционный взрыв, сметающий "антинародную глуповскую власть"; для других оно – "наступление жесточайшей реакции".
поэтому интереснее от этих социологических выкладок вернуться к "Истории одного города» как к художественному целому. И отметить: если рассматривать предложенное толкование «оно» всерьез, последняя фраза повествования «История прекратила течение свое» за которой следует слово «Конец», выглядит нелогичной.
После пришествия оно и моментального исчезновения Угрюм-Бурчеева, любой читатель, возвратившись к началу книги, обнаружит: в «Описи градоначальникам» за Угрюм-Бурчеевым стоит майор Архистратиг Стратилатович Перехват-Залихватский, тот самый, который "въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки".
Таким образом, оно приобретает философский — экзистенциональный, бытийственный смысл, указывая не просто на смену одного самодура другим, еще более отвратительным, не просто обрушивая свои карающие вихри на безмолвствующий народ, но соединяясь с неким общим законом Вселенной, законом нравственным, который не позволяет низвести Град Небесный до града земного и напоминает пытающимся сделать это о грядущем Страшном Суде.
«История есть неустанное стремление, вечная тревога, путь, не имеющий копца, — пишет С.Н.Булгаков. — История не может внутренне закончиться в истории, «дурная бесконечность» есть ее природа»". Если же (продолжаю выверить щедринский текст построениями С.Н.Булгакова) «недостижимое», осуществляющееся лишь при условии, когда «времени уже не будет» (Откровение св. Иоанна Богослова.10:6), т.е. после Страшного Суда, — «объявляется достижимым и уже достигаемым во времени, тогда духовный взор ослепляется миражом земного града, манящим и дразнящим, но обманывающим». То, о чем вспоминает С.Н.Булгаков далее, не оставляет сомнений в правомерности наших сопоставлений: «На протяжении всей всемирной истории <...> один за другим создаются эти земные идеалы, мысленно построяется земной град, разрабатывается его план и чертеж»12. Читателям «Истории одного города», знающим о «систематическом бреде" Угрюм-Бурчеева, преобразовавшего Глупов в Непреклонск и при этом упразднившего «летосчисление» (8, 404), трудно будет удержаться от искушения прибавить к реальным примерам С.Н.Булгакова и этот литературный. А также и оценить вывод мыслителя: православие «остается не связанным с определенным идеалом земного града и потому <..> православие <..> остается царством не от мира сего»".
Тем самым мы, видя направление отрицающего пафоса в «Истории одного города», устанавливаем по меньшей мере духовное единство Салтыкова с ключевыми началами православия, осознаем глубину его проникновении в хитросплетения причинно-следственных связей, его принципиальный отказ от расширения социологизации повествования. Историческая фактология, которой он пользуется, нужна ему лишь как частные, пусть яркие примеры воплощения трансцендентных универсалий, руководящих мирозданием.
Фразу «История прекратила течение свое» нельзя, на мой взгляд, толковать либо только как апокалиптическое предчувствие писателя, либо как результат его полемики с социально-утопическими теориями (о том и другом, особенно после смягчения цензуры, пишут многие исследователи).
В соответствии со своими мировоззренческими принципами, о которых мы сказали уже немало, писатель, начиная с первых страниц книги, в итоге вовсе вывел Глупов за пределы истории, времени. Но, в отличие от угрюм-бурчеевского расчета, не ради нивелляции «живых существ», а для чистоты изображения некоего заповедника власти, совершенной формы ее, власти осуществления.
Власть как таковая вечна в мирском времени и пространстве, и в щедринском заповеднике ничего не происходит, кроме испытаний власти — не общественным мнением, не требованиями народной стихии, даже не другими властолюбцами, а именно этой власти безграничностью.
Таким образом, мы можем видеть более сложное соотношение символики образа, названного Салтыковым-Щедриным оно, со всем происходящим и книге, в том числе и с властными феноменами. Писатель отказывается от социально-политической конъюнктурности в пользу опять-таки опосредованного фундаментальными бытийственными началами гротеска.
Коней света, торжество хаоса — закономерный результат человеческой жизни, полной бессмысленной суеты. Но после того как «история прекратила течение свое», в городе Глупове появляется очередной губернатор. Конец света наступает лишь для очередного поколения. В целом же сама жизнь бесконечна и не управляется.
В итоге «История одного города» предстает книгой одновременно о прошлом (история России), о настоящем (неправильно устроенном и нелепо живущем обществе) и о вечном, что выражается в неиссякаемой потребности взыскания града иного, какие бы уродливые и извращенные формы порой эта потребность ни принимала.