 МАГИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ
МАГИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ
Экспонат первый. Роскошный цветной фотоальбом — несомненно, самое поразительное издание такого рода из выпущенных где-либо в последнее время, включающее 126 снимков, сделанных Лени Рифеншталь. В недоступном нагорье южного Судана обитают около восьми тысяч богоподобных нубийцев — воплощение физического совершенства. У них крупные, красиво вылепленные, частью выбритые головы, выразительные лица и мускулистые тела, изборожденные живописными шрамами и припорошенные священной сероватой золой. На фотографиях они прыгают, сидят на корточках, шагают по засушливым склонам или борются. А на суперобложке «Последних из нубийцев» — зрелище не менее восхитительное: 12 расположенных в хронологическом порядке черно-белых изображений Лени Рифеншталь, иллюстрирующих ее жизненный путь (суровая сдержанность в юности; обезоруживающая техасская улыбка дамы преклонного возраста на сафари), зафиксировавших неумолимый ток времени. Первая фотография сделана в 1927 году, когда в свои 25 лет она уже стала кинозвездой, а самые последние датированы 1969-м (с прижатым по-матерински к груди голеньким африканским младенцем) и 1972-м (с фотоаппаратом в руках), но каждая отмечена печатью идеальной, неувядаемой красоты в духе Элизабет Шварцкопф, с годами становящейся все более рельефной, чеканной и здоровой. Фотоснимки сопровождают напечатанный на суперобложке биографический очерк и безымянное введение, озаглавленное «Как Лени Рифеншталь пришла к изучению нубийцев-месакинов Кордофана», полные беззастенчивой лжи.
Во Введении, где приводится подробный отчет о странствии Рифеншталь по Судану (вдохновленном, как нам сообщают, прочтением «одной бессонной ночью в середине 50-х «Зеленых холмов Африки» Хемингуэя), автора фотоальбома лаконично пред-
|
|
МАГИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ
ставляют как «полумифическую фигуру, режиссера довоенной поры, почти забытого нацией, которая предпочла стереть из памяти целую эпоху своей истории». Кто, кроме самой Рифеншталь (надеемся, что так и есть), смог бы выдумать басню насчет туманно обозначенной •нации», которая по какой-то неназванной причине «предпочла» совершить прискорбный акт трусливого забвения «эпохи» — тактично оставляемой неуточненной — •своей истории»? Остается уповать на то, что хотя бы некоторых читателей покоробит эта стыдливая аллюзия на Германию и эпоху Третьего рвйха.
В отличие от Введения, биографический очерк на суперобложке гораздо щедрее на изложение фактов карьеры Рифеншталь, повторяя ту самую ложь, которую она сама распространяла о себе в последние двадцать лет.
•Лени Рифеншталь приобрела мировую известность в качестве кинорежиссера в 30-е годы, в непростое и решающее для Германии время. Она родилась в 1902 году и с детства чувствовала призвание к танцевальному творчеству. Благодаря этому она стала участвовать в немых лентах, а вскоре и сама приступила к съемкам звуковых фильмов, — таких, как «Гора» (1929), в которых выступала и как актриса.
Эти насыщенные романтикой фильмы получили широкое признание, не в последнюю очередь Адольфа Гитлера, пришедшего к власти в 1933 году, который поручил Рифеншталь сделать документальную картину о партийном съезде в Нюрнберге в 1934 году».
|
|
Надо обладать довольно оригинальным складом ума, чтобы обозначить эру нацизма как «непростую и решающую эпоху», суммировать события 1933 года приходом Гитлера к власти и утверждать, что Рифеншталь, чья деятельность в это десятилетие справедливо считается пропагандой нацизма, «приобрела мировую известность в качестве кинорежиссера», что, очевидно, должно вписать ее в один ряд с такими современниками, как Ренуар, Лю-бич и Флаэрти. (Неужели издатели позволили ЛР самой написать это предисловие? Это представляется крайне сомнительным, хотя фраза «с детства чувствовала призвание к танцевальному творчеству* вряд ли могла родиться под пером человека, для которого английский язык родной.)
Сами факты безусловно либо неточны, либо вымышлены. Мало того, что Рифеншталь не ставила звуковой фильм под названием •Гора» и не снималась в нем. Такого фильма просто никогда не
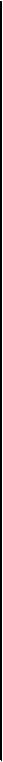 СЬЮЗЕН ЗОНТАГ
СЬЮЗЕН ЗОНТАГ
существовало. Карьера Рифеншталь вообще выглядела не так, как здесь описано — сперва участие в немых лентах, а потом, с приходом звука, режиссура и съемки в собственных фильмах. Во всех девяти картинах, в которых она когда-либо снималась, Рифеншталь играла главные роли, и семь из них поставлены вовсе не ею. Вот эта семерка: •Священная гора» (Der heilige Berg, 1926), •Большой прыжок» (Der grosse Sprung, 1927), «Судьба дома Габсбургов» (Das Schicksal derer von Habsburg, 1929), «Белый ад Пиц Палю» (Die weisse Holle von Piz Palue, 1929) — это все немые, а за ними последовали «Бури над Монбланом» (Sturme uber dem Monblanc, 1930), «Белое безумие» (Die weisse Rausch, 1931) и «COC! Айсберг!» (S.O.S. Eisberg, 1932-1933). Все они, кроме одного, были поставлены Арнольдом Фанком, прославившимся еще с 1919 года постановкой альпийских эпических боевиков и после того, как в 1932 году Рифеншталь оставила его, чтобы самой стать режиссером, снявшим только две картины и обе провальных. (Он не является автором только поставленной в Австрии ♦Судьбы дома Габсбургов», мелодрамы в роялистском духе, где Рифеншталь сыграла Марию Вечера, подругу кронпринца Рудольфа в замке Майерлинг. По-видимому, не сохранилось ни одной копии этого фильма.)
|
|
Вульгарно-вагнерианские декорации, в которые Фанк помещал Рифеншталь, не были просто данью «возвышенному романтизму». Несомненно, задумывавшиеся в момент творения как совершенно аполитичные, из сегодняшнего дня эти фильмы, по замечанию Зигфрида Кракауэра, однозначно прочитываются как антология протонацистской чувственности. Скалолазание в фильмах Фанка выступало навязчивой визуальной метафорой безграничного стремления к возвышенной мистической цели — прекрасной и пугающей одновременно, — которой позднее суждено было облечься в конкретную форму культа фюрера.
Рифеншталь из фильма в фильм повторяла один и тот же образ — дитя природы, отваживающееся одолеть вершину, которую другие, «свиньи из долины*, обходят стороной. Первой в этом ряду стала юная танцовщица по имени Диотима, которую приобщает к экстатическим радостям здорового альпинизма возлюбленный, страстный скалолаз (немая лента «Священная гора», 1926). Этот образ эволюционировал и обогащался. В своем первом звуковом фильме «Бури над Монбланом» Рифеншталь уже изображает девушку, полностью находящуюся во власти гор, которая преодолевает смертельную опасность, спасая любимого, метеоролога, на чью станцию обрушивается ураган.
Первый же из шести поставленных самой Рифеншталь филь-
МАГИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ
мов— ^Голубой свет» (1932), принадлежал жанру «горных*. Главную героиню, похожую на девушек из фильмов Фанка, за роли которых она «получила широкое признание, не в последнюю очередь Адольфа Гитлера», сыграла сама режиссер. Поверхностно разработанные Фанком темы целеустремленности, чистоты и смерти сразу же приобрели у Рифеншталь аллегорический смысл. Гора как обычно изображалась как нечто в высшей степени прекрасное и опасное, обладающее волшебной силой пробуждать стремление к самоутверждению и вместе с тем бегству от самого себя в*братство мужественных людей и в смерть. Рифеншталь предназначила себе роль простого существа, связанного с силами разрушения. Только она, Юнта, отверженная жителями деревни оборванка, способна добраться до источника голубого света на вершине горы Кристалло, в то время как привлеченная этим светом молодежь из близлежащих селений лезет на гору и, срываясь, разбивается насмерть. Девушку же убивает не манящая недостижимая цель, символом которой стала гора, а прозаический дух зависти, исходящий от окружающих, и слепой рационализм возлюбленного, благодушного горожанина, — именно это толкает девушку в пропасть.
После «Голубого света» Рифеншталь поставила вовсе не «документальную картину о партийном съезде в Нюрнберге в 1934 году» _ на ее счету четыре неигровые ленты, а не две, как она стала утверждать в целях самообеления с начала 50-х годов и позднее — и первой в их ряду стала «Победа веры» (Sieg des Glaubens, 1933), посвященная первому съезду национал-социалистической партии, состоявшемуся после захвата власти Гитлером. Затем последовали два фильма, действительно принесшие ей мировую известность — о новом съезде нацистской партии «Триумф воли» (Triumph des Willens, 1935), о чем, кстати, не упоминается на обложке фотоальбома «Последние из нубийцев», и 18-минутная короткометражка, сделанная для армии, «День свободы: наша армия» (Tag der Freiheit; Unsere Wehrmacht, 1935), воспевшая красоту солдатского служения фюреру. (Неудивительно, что и эта картина, копия которой была обнаружена в 1971 году, тоже не упоминается в альбоме; на протяжении 1950—60-х годов, когда Рифеншталь и все другие считали «День свободы» утраченным, она исключила его из своей фильмографии и отказывалась обсуждать с интервьюерами.)
Далее на суперобложке говорится следующее: «Отказ Рифеншталь выполнить требование Геббельса и подчинить визуальный строй картины жестким пропагандистским целям привел к конфронтации, достигшей обострения в тот мо-
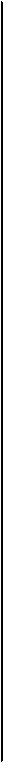 СЬЮЗЕН ЗОНТАГ
СЬЮЗЕН ЗОНТАГ
мент, когда Рифеншталь сделала фильм об Олимпийских играх 1936 года под названием «Олимпия». Геббельс предпринял попытку запретить его, и он был спасен только благодаря личному вмешательству Гитлера.
Наряду с двумя наиболее заметными документальными лентами, снискавшими ей славу в ЗО-е годы, Рифеншталь вплоть до 1941 года ставила по собственному усмотрению фильмы, никак не связанные с подъемом нацистского движения, пока этому не помешала война.
Знакомство Рифеншталь с нацистской верхушкой повлекло в конце второй мировой войны ее арест: дважды она представала перед судом и дважды была оправдана. Но это нанесло урон ее репутации, и вскоре она была почти забыта, хотя ранее имя Рифеншталь было на слуху у целого поколения немцев».
Кроме замечания о том, что ее имя некогда было на слуху в нацистской Германии, во всем остальном здесь нет ни слова правды. Попытка отвести Рифеншталь роль независимого художника-одиночки, пренебрегавшего как обывательскими вкусами, так и рестрикциями государственной цензуры («требование Геббельса подчинить картину жестким пропагандистским целям»), должна показаться абсурдной каждому, кто видел «Триумф воли» — фильм, самый замысел которого опровергает независимость его создателя от пропагандистских целей. Как бы ни отрицала их впоследствии Рифеншталь, факты свидетельствуют, что при работе над «Триумфом воли» она пользовалась безграничными возможностями и поддержкой официальных учреждений (никакой конфронтации между режиссером и министром пропаганды Германии не было и в помине). В действительности, как отмечала в своей книжечке, посвященной работе над «Триумфом воли», сама Рифеншталь, съемки фильма с самого начала включались в план мероприятий съезда1. «Олимпия» — фильм продолжитель-
 1 Leni Riefcnstahl. Hinter den Kulissen des Reichpartei tag-Films (Munich, 1935). Фотография на 31-ой странице этой книги запечатлела Гитлера и Рифеншталь, склонившихся над какими-то документами. Подпись под снимком гласит: «Подготовка партийного съезда шла параллельно с приготовлениями к съемкам», Съезд проходил 4—10 сентября; Рифеншталь упоминает, что начала работу над фильмом в мае, планируя этапы съемок поэпизодно и наблюдая за оснащением площадок съемочным оборудованием и прокладыванием рельсов для кранов. В конце августа в Нюрнберг прибыл Гитлер вместе с Виктором Лютце, начальником штаба СА, «для инспекции и заключительного инструктажа*. По распоряжению Лютце все 32 оператора
1 Leni Riefcnstahl. Hinter den Kulissen des Reichpartei tag-Films (Munich, 1935). Фотография на 31-ой странице этой книги запечатлела Гитлера и Рифеншталь, склонившихся над какими-то документами. Подпись под снимком гласит: «Подготовка партийного съезда шла параллельно с приготовлениями к съемкам», Съезд проходил 4—10 сентября; Рифеншталь упоминает, что начала работу над фильмом в мае, планируя этапы съемок поэпизодно и наблюдая за оснащением площадок съемочным оборудованием и прокладыванием рельсов для кранов. В конце августа в Нюрнберг прибыл Гитлер вместе с Виктором Лютце, начальником штаба СА, «для инспекции и заключительного инструктажа*. По распоряжению Лютце все 32 оператора
МАГИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ
ностью в три с половиной часа в двух частях — «Народный праздник* (Fest der Volker) и «Праздник красоты (Fest der Schon-heit) — не в меньшей степени, чем «Триумф воли», стала продуктом официальной пропаганды. Начиная с 50-х годов, Рифеншталь утверждала во всех интервью, что «Олимпия» была поставлена по инициативе Международного Олимпийского комитета и выпущена ее собственной частной студией вопреки протестам Геббельса. Однако в действительности «Олимпия» была инициирована и полностью финансировалась нацистским правительством (в титрах указывалось название несуществующей компании, поскольку упоминание правительства в качестве продюсера было сочтено нецелесообразным), а ведомство Геббельса оказывало поддержку в работе над ней на всех этапах1. Даже правдоподобно звучащая легенда о запрете, наложенном Геббельсом на эпизод победы негритянского бегуна из США Джесси Оуэнса над немецким соперником, — выдумка. 18 месяцев Рифеншталь провела в монтажной, стараясь приурочить премьеру к 29 апреля 1938 года, к берлинским торжествам по случаю 49-летия Гитлера. Годом позже «Олимпия» стала главным пунктом немецкой программы на Венецианском кинофестивале, удостоившем ее Золотой медали.
Лживым является и утверждение о том, что «Рифеншталь вплоть до 1941 года ставила по собственному усмотрению фильмы, никак не связанные с подъемом нацистского движения». В 1939 году, возвратившись из Голливуда, куда она ездила по приглашению Уолта Диснея, Рифеншталь, одетая в форму военного корреспондента, вместе со своей съемочной группой сопровождала части вермахта, вторгшиеся в Польшу. Правда, никаких материалов этого марша после войны не обнаружено. С точностью можно утверждать, что вслед за «Олимпией» Рифеншталь поставила еще один фильм — «Равнина» (Tiefland), работа над которым началась в 1941 году, после перерыва продолжилась в 1944-ом на киностудии «Баррандов» в оккупированной немцами Праге и завершилась в 1954-м. Так же, как «Голубой свет», «Равнина» противопоставляет развращенность жителей долины горной чистоте, и снова главная героиня (сыгранная постановщицей) — чужая в
 съемочной группы были одеты в форму СА, •чтобы цивильная одежда не нарушала образной гармонии». СС предоставила им бригаду охранников СС.
съемочной группы были одеты в форму СА, •чтобы цивильная одежда не нарушала образной гармонии». СС предоставила им бригаду охранников СС.
1 См. Hans Barkbausen.. Footnote to the History of Riefenstahi's "Olyrn-pia"» — Film Quarterly, Fall 1974 — одиночный голос, не влившийся в хвалебный хор в честь Рифеншталь, звучащий со страниц американских и западно-европейских журналов в последние годы.
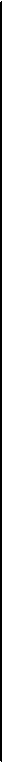 СЬЮЗЕН ЗОНТЛГ
СЬЮЗЕН ЗОНТЛГ
своем селении. Рифеншталь усиленно творит легенду, будто всю жизнь снимала и на ее счету только две документальные ленты, но на самом деле четыре из шести снятых ею картин — документальные, и сделаны они по заказу и на средства нацистского прави-тельстаа.
Вряд ли будет точным назвать профессиональные связи и личную близость Рифеншталь к Гитлеру и Геббельсу всего лишь •знакомством с нацистской верхушкой*. Рифеншталь была близким другом и соратником Гитлера еще до 1932 года; она была также приятельницей Геббельса. Не находится никаких доказательств, подтверждавших бы послевоенные заявления Рифеншталь о том, что Геббельс ее ненавидел или вообще обладал достаточными полномочиями, чтобы вмешиваться в ее деятельность. Возможность беспрепятственного вхождения к фюреру позволяла ей оставаться единственным немецким режиссером, не подотчетным киноотделу (Reichsfilmkammer) геббельсовско-го министерства пропаганды. Недостоверна и информация о том, что она якобы дважды подвергалась аресту и оба раза была оправдана. Союзники арестовали ее на краткий срок всего лишь раз, в 1945 году, и тогда же были конфискованы два принадлежавших ей дома (в Берлине и Мюнхене). Правда, допросы и вызовы в суд возобновились в 1948 году и с перерывами продолжались вплоть до 1952 года, когда она была окончательно «денацифицирована* с вердиктом «не вела никакой политической деятельности а поддержку режима, подпадающей под юрисдикцию закона*. Но что особенно важно: вопрос о возможном тюремном наказании никоим образом не связывался с кругом ее ♦знакомств» в нацистской верхушке, речь шла исключительно о деятельности в качестве ведущего пропагандиста Третьего рейха.
Сведения на суперобложке «Последних из нубийцев» в полной мере соответствуют той концепции самооправдания, которую Рифеншталь выстроила в 50-е годы и наиболее четко артикулировала в своем интервью журналу «Кайе дю синема* в сентябре 1965 года. Там она отрицала, что хоть какая-то часть ее творчества носила пропагандистский характер; она называла его «cinema verite». «Ни один из эпизодов фильма не был инсценирован, — заявляла она по поводу «Триумфа воли*. — Там все правда. И никакого тенденциозного комментария в фильме тоже нет — по той простой причине, что там вообще нет комментария. Это сама история — чистая история*. Автор процитированных строк далеко ушла от свойственного ей пылкого неприятия *хрони-кального кино», недостойного «героического стиля* самого события, «обыкновенного репортажа» или «заснятых на пленку
МАГИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ
фактов», — о чем она говорила на страницах книжки о создании этого фильма1.
Хотя голоса повествователя в «Триумфе воли» действительно нет, фильм открывается титрами, возвещающими о нюрнбергском съезде как кульминационно-искупительном пункте немецкой истории. Это наименее изобретательный из всех способов сделать фильм действительно тенденциозным, которые в нем употреблены. Комментарий отсутствует здесь за ненадобностью, поскольку «Триумф воли* предстает как уже осуществившаяся радикальная трансформация реальности: история стала театром. Партийный съезд был заранее продуман и инсценирован как сценарий будущего фильма, который, в свою очередь, должен
 1 Если для доказательства требуется другой источник — поскольку теперь Рифеншталь утверждает (в интервью немецкому журналу •Фильмкритик», август 1972), что она не написала ни единого слова в книге «Закулисная сторона съемок кино о партийном съезде* и даже не читала ее в момент выхода в свет, — можно обратиться к ее интервью *Фёлкишер беобахтер» (26 августа 1933) по поводу съемок съезда 1933 года в Нюрнберге, где она делает заявления, подобные тем, что содержатся в книге.
1 Если для доказательства требуется другой источник — поскольку теперь Рифеншталь утверждает (в интервью немецкому журналу •Фильмкритик», август 1972), что она не написала ни единого слова в книге «Закулисная сторона съемок кино о партийном съезде* и даже не читала ее в момент выхода в свет, — можно обратиться к ее интервью *Фёлкишер беобахтер» (26 августа 1933) по поводу съемок съезда 1933 года в Нюрнберге, где она делает заявления, подобные тем, что содержатся в книге.
Рифеншталь и ее апологеты постоянно говорят о «Триумфе воли» как о независимом «документальном» фильме, часто упоминая технические трудности, с которым сталкивалась режиссер во время съемок, как результат происков врагов из партийной верхушки (ненависть Геббельса), словно подобного рода проблемы не являются нормой в процессе работы над любой картиной. Наиболее характерный пример возрождения мифа о Рифеншталь как об обычном и совершенно политически нейтральном документалисте — «Киногид к "Триумфу воли"* (Filmguide to «Triumph of the Will»), опубликованный в Серии Киногидов издательства Индианского университета, автор которого, Ричард Мерам Барсам, заключает свое предисловие выражением благодарности.самой Лени Рифеншталь, уделившей время для многочасовых бесед со мною, открывшей для моего исследования свой архив и проявившей живой интерес к этой книге».
Немудрено, что она проявила интерес к книге, открывавшейся главой «Лени Рифеншталь и бремя независимости», посвященной •убежденности Рифеншталь в том, что художник всеми силами дол-жен оставаться независимым от материального мира» и утверждаю-щей, что «она сумела достигнуть свободы творчества, но очень дорогой ценой». Etc.
И наконец, сошлюсь в качестве противовеса еще на один безупречно надежный источник (который в любом случае не сможет отрицать, что действительно написал эти слова) — на Адольфа Гитлера. В своем кратком предисловии к «Закулисной стороне съемок фильма о партийном съезде» Гитлер описывает «Триумф воли» как «совершенно уникальное и ни с чем несравнимое прославление мощи и красоты нашего Движения». Так оно и есть.
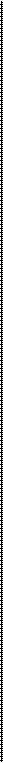 СЬЮЗЕН ЗОНТАГ
СЬЮЗЕН ЗОНТАГ
был подтверждать документальную подлинность исторического события. Кстати, когда отснятый материал с выступлениями партийных вождей оказался испорченным, Гитлер отдал распоряжение переснять эти эпизоды, и Штрейхер, Розенберг, Гесс и Франк, как заправские лицедеи, спустя несколько недель после съезда вновь присягнули на верность фюреру — но уже в его отсутствие, как и в отсутствие публики, в студийном павильоне, выстроенном Шпеером. (Очень справедливо, что Шпеер, создавший гигантские декорации для съезда на окраине Нюрнберга, попал в список тех, кому выражалась благодарность за участие в создании фильма.) Каждый, кто отстаивает документальность фильмов Рифеншталь, если только мы будем отличать докумен-тализм от пропаганды, делает это вполне искренне. В «Триумфе воли» документ (образ) — не только фиксация реальности, но и повод для ее предварительного инсценирования, а затем для замещения первоначальной реальности инсценировкой. Реабилитация фигур, попавших в черные списки, в либеральных обществах не происходит с той ошеломляющей стремительностью, с какой обновляется Советская энциклопедия, каждое очередное издание которой вводит доселе запретные имена и выводит за порог равное или превышающее по количеству число персонажей, обосновавшихся на ее страницах прежде. У нас этот процесс проходит мягче и незаметней. Дело не в том, что нацистское прошлое Рифеншталь стало вдруг для нас приемлемым. Просто с поворотом колеса истории этот факт утратил свою значимость. Вместо насильственного очищения истории от нежелательных эпизодов либеральное общество справляется с такого рода проблемами, выжидая, покуда их острота сгладится сама собой,
Очищение репутации Лени Рифеншталь от нацистского шлака шло постепенно и достигло своего рода пика в нынешнем году, когда ее пригласили в качестве почетного гостя на синефиль-ский кинофестиваль, имевший место летом в Колорадо, когда в прессе появилась череда уважительных статей и интервью с ней и когда, наконец, вышел в свет альбом *Последние из нубийцев». Возведение Рифеншталь на пьедестал культурной жизни в определенной степени вызвано тем фактом, что она женщина. Плакат нью-йоркского кинофестиваля 1973 года, принадлежащий кисти хорошо известной художницы-феминистки, изображал блондинку с кукольным личиком, вокруг правой груди которой начертаны три имени: Аньес, Лени, Ширли. (То есть Барда, Рифеншталь, Кларк.) Феминистки нипочем не согласились пожертвовать ни одним женским именем, за которым значатся перво-
МАГИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ
классные достижения в области кино. Но все же главная причина перемены отношения к Рифеншталь заключается в обновлении и расширении понимания прекрасного.
Аргумент, принятый на вооружение апологетами Рифеншталь, в число которых входят теперь и наиболее влиятельные фигуры киноавангардного истеблишмента, состоит в том, что она всегда была одержима красотой. О чем и сама Рифеншталь твердила на протяжении ряда лет. Интервьюер из »Кайе дю синема», заметив, что »Триумф воли» и «Олимпию» «роднит то, что обе картины придают форму определенной реальности, основанной в свою очередь на некой идее формы», задал ей вопрос: «Видите ли вы нечто специфически немецкое в одержимости формой?» Рифеншталь ответила так
•Скажу просто: меня неудержимо влечет к себе все прекрасное. Да: красота, гармония. И, возможно, это стремление к стройности, эта страсть к оформленности — очень немецкие свойства. Это идет не от моей эрудиции, а откуда-то из подсознания... Что можно к этому добавить? Чистый реализм, бытовщина, посредственность, повседневность меня не интересуют... Меня прельщает красивое, сильное, здоровое — живое. Я жажду гармонии. Когда удается ее достичь, я счастлива. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос*.
Вот почему «Последние из нубийцев» оказались последней и необходимой ступенью в реабилитации Рифеншталь. Этой книгой прошлое как бы окончательно переписано заново к удовлетворению ее поклонников, получивших подтверждение тому, что она всегда была скорее искательницей красоты, чем пропагандисткой с дурной славой1. Внутри прекрасно изданного альбома — фотографии совершенного благородного племени. А на суперобложке — фотографии «моей совершенной немецкой женщины* (как назвал Рифеншталь Гитлер), с улыбкой вышедшей из борьбы с историей за свое незапятнанное имя. Безусловно, не будь альбом подписан Рифеншталь, никому и в голову не пришло бы, что его автор — интереснейший, талант-
 1 Вот в каких выражениях приветствовал публикацию «Последних из нубийцев» Йонас Мекас (•Вилледж войс», 31 октября 1974): •Рифеншталь продолжает прославлять — или точнее было бы сказать «искать»? — классическую красоту человеческого тела, делая то, что начала в своих фильмах. Ее влечет к себе идеальное, монументальное». В той же газете от 7 ноября 1974 Мекас говорит: «Вот мое последнее слово о фильмах Рифеншталь: если вы идеалист, то увидите в ее фильмах идеализм; если вы классицист, увидите в них оду классицизму; если вы нацист, увидите в ее фильмах нацизм».
1 Вот в каких выражениях приветствовал публикацию «Последних из нубийцев» Йонас Мекас (•Вилледж войс», 31 октября 1974): •Рифеншталь продолжает прославлять — или точнее было бы сказать «искать»? — классическую красоту человеческого тела, делая то, что начала в своих фильмах. Ее влечет к себе идеальное, монументальное». В той же газете от 7 ноября 1974 Мекас говорит: «Вот мое последнее слово о фильмах Рифеншталь: если вы идеалист, то увидите в ее фильмах идеализм; если вы классицист, увидите в них оду классицизму; если вы нацист, увидите в ее фильмах нацизм».
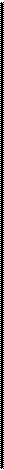 рсдной плач по исчезающим примитивным народам, наилучшим из образцов которого остаются «Печальные тропики» Леви-Стросса об индейцах племени бороро в Бразилии. Однако если вглядеться в эти фотографии пристальней и сопоставить их с пространным комментарием, исходящим от самой Рифеншталь, станет ясно, что этот фотоальбом является продолжением ее деятельности в нацистский период. Ее индивидуальное пристрастие выявилось уже в самом факте выбора именно этого, а не иного племени, народа, который она описывает как необычайно артистичный (у каждого есть музыкальный инструмент) и красивый (нубийские мужчины, отмечает Рифеншталь, «обладают атлетическим сложением, какого не встретишь нигде в Африке*); наделенный «гораздо большей чуткостью к духовному и религиозному, чем к материальному и мирскому», из всех видов деятельности предпочитающий церемониально-ритуальную. «Последние из нубийцев» — книга об идеальном примитивном обществе; портрет народа, пребывающего в чистой гармонии со средой, не затронутой «цивилизацией».
рсдной плач по исчезающим примитивным народам, наилучшим из образцов которого остаются «Печальные тропики» Леви-Стросса об индейцах племени бороро в Бразилии. Однако если вглядеться в эти фотографии пристальней и сопоставить их с пространным комментарием, исходящим от самой Рифеншталь, станет ясно, что этот фотоальбом является продолжением ее деятельности в нацистский период. Ее индивидуальное пристрастие выявилось уже в самом факте выбора именно этого, а не иного племени, народа, который она описывает как необычайно артистичный (у каждого есть музыкальный инструмент) и красивый (нубийские мужчины, отмечает Рифеншталь, «обладают атлетическим сложением, какого не встретишь нигде в Африке*); наделенный «гораздо большей чуткостью к духовному и религиозному, чем к материальному и мирскому», из всех видов деятельности предпочитающий церемониально-ритуальную. «Последние из нубийцев» — книга об идеальном примитивном обществе; портрет народа, пребывающего в чистой гармонии со средой, не затронутой «цивилизацией».
Все четыре фильма Рифеншталь, выпущенные при нацистах, — будь то о партийных съездах, вермахте или спортсменах — славят возрождение тела и общности, достигаемой через поклонение несгибаемому вождю. В этом смысле они восходят к фильмам Фанка, в которых она блистала, и к ее собственной ленте •Голубой свет». Альпийские истории — это повествование о стремлении к возвышенному, о зове простого и первобытного, о головокружении перед лицом власти, символизируемой величавой красотой гор. Нацистские фильмы — это эпос о достижении общности, когда повседневность преодолевается экстатической жертвенностью и аскетизмом; словом, это фильмы о триумфе силы. И «Последние из нубийцев» — элегическая песнь уходящей в небытие красоте и мистическим силам примитивного общества, которое Рифеншталь называет своим «приемным» народом, завершающая часть созданного ею триптиха, визуализировавшего фашизм.
В первой части этого триптиха, в «горных» фильмах, люди в тяжелых одеждах устремляются ввысь, чтобы самоутвердиться в холодной чистоте; жизненная сила отождествляется с испытанием физических сил. Среднюю часть занимают фильмы, сделанные по заказу нацистского правительства; в «Триумфе воли» чередуются общие планы огромных человеческих масс с крупными планами, выражающими чью-то личную страстную и абсо-
как будто ищут некий совершенный хореографический рисунок для выражения своей преданности. В «Олимпии», наиболее изощренном с точки зрения изображения фильме Рифеншталь (в нем вертикаль «горных» фильмов прорезывается горизонтальный движением, характерным для «Триумфа воли*), подбадриваемые с трибун соотечественниками полуобнаженные спортсмены один за другим взыскуют восторга победы под неподвижным взглядом Сверхзрителя — Гитлера, чье присутствие на стадионе освящает их усилия. («Олимпия», которая вполне могла бы иметь название «Триумф воли», доказывает, что легких побед не бывает.) В третьей части триптиха, в «Последних из нубийцев», почти голые аборигены, ожидающие последнего величайшего испытания, угрожающего их гордому героическому племени, — неминуемого уничтожения, — предаются радостным играм, застывая в скульптурных позах под лучами испепеляющего солнца. Это эпоха Gotterdammerung. Главные события в жизни нубийского общества — поединки борцов и похороны; противоборство прекрасных мужских тел и смерть. В истолковании Рифеншталь нубийцы — племя эстетов. Подобно раскрашенным в ох-ряно-красные цвета масайям или «глиняным людям» Новой Гвинеи, нубийцы по значительным случаям покрывают себя сероватым пеплом, что безошибочно прочитывается как знак смерти. Рифеншталь отмечает, что успела вовремя попасть в эти края, потому что через несколько лет после того, как были сделаны эти фотографии, славных нубийцев развратили деньгами, работой и одеждой. (А также, наверно, войной, о которой Рифеншталь не упоминает, поскольку ее интересует миф, а не история, Гражданская война, раздирающая эту часть Судана более десяти лет, должно быть стимулировала развитие техники и загрязнила среду.) Хотя нубийцы принадлежат черной неарийской расе, Рифеншталь изображает их в русле традиций нацистской идеологии, используя контраст чистого и нечистого, целомудренного и развращенного, физического и духовного, довольного и критично настроенного. В нацистской Германии основным обвинением против евреев было то, что они урбанистичны, за интеллектуал и-зированны, несут в себе разрушительный «критический дух». Книжные костры в мае 1933 года занялись под крики Геббельса: •Пришел конец еврейскому умствованию, победа революции в Германии освободила немецкий дух». И когда в ноябре 1936 года Геббельс официально запретил художественную критику, он объяснил это «типично еврейским характером» последней: пред-
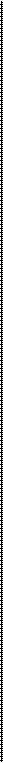 СЬЮЗЕН ЗОНТАГ
СЬЮЗЕН ЗОНТАГ
почтением индивидуального — коллективному, интеллекта — чувству. В модифицированной риторике новейшего фашизма роль развратителя отводится уже не еврейству, а самой •цивилизации*'.
Фашистская версия добавляет старому идеализированию Благородного Дикаря презрение к рефлексии, критичности и плюрализму. В каталоге первобытных добродетелей у Рифеншталь едва ли — как у Леви-Стросса — превозносятся замысловатость и тонкость примитивной мифологии, социальное устройство или образ мышления. Рифеншталь реанимирует фашистскую риторику, восхваляя радостное единство нубийцев, рождающееся на борцовских поединках, где, напрягая мускулы, бросают друг друга наземь, борются не за материальные награды, но «за возрождение священной жизненности племени». Борьба и сопровождающие ее ритуалы — вот что, по мнению Рифеншталь, связывает нубийцев в единое сообщество. Борьба — «это отличительный признак нубийского образа жизни... Борьба порождает в болельщиках, то есть, во всей «неиграющей* части обитателей деревни, самое страстное почитание общественных установлений и ощущение эмоциональной причастности... Значимость этого как выражения мировоззрения племен месакинов и коронго трудно переоценить: это есть выражение в видимой социально значимой форме незримого мира разума и духа».
Прославляя общество, где демонстрация физического совершенства, отваги и превосходства сильных над слабыми видится ей объединяющим символом культуры общества, в котором борьба является «главной целью жизни мужчин», Рифеншталь остается в русле идей своих нацистских фильмов. Но, портретируя нубийцев, она идет дальше, возрождая новый для ее творчества аспект фашистского идеала общества, где женщины — всего лишь производительницы и помощницы, отлученные от всех ритуальных функций, являющие собой угрозу единству и силе мужчин. С «духовной» точки зрения нубийцев (под которыми Рифеишталь разумеет, естественно, только мужчин), связь с женщиной есть акт низменный; в идеальном обществе, каковым оно и представляется, женщины должны знать свое место.
•Невесты и жены борцов, так же как сами мужчины, не помышляют об интимной близости... гордость, которую они испытывают, пребывая в своем статусе, сильнее похоти».
И, наконец, Рифеншталь точно попадает в цель, выбирая предмет изображения — людей, которые «смотрят на смерть как на деяние необоримой судьбы», общество, где самым вдохновенным и масштабным ритуалом являются похороны. Viva la muerte.
МАГИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ
Попытки связать «Последних из нубийцев» с прошлым Рифеншталь могут показаться злопамятными и неплодотворными, однако свойственное ей постоянство, также как и бросающийся в глаза факт ее недавней реабилитации, не могут не заслуживать внимания. Деятельность других художников, ставших фашистами, таких как Селин и Бенн или Маринетти и Паунд (не говоря о таких, как Пабст, Пиранделло и Гамсун, которые пали в объятья фашизма на склоне своих творческих возможностей), в этом плане гораздо менее показательны. Потому что Рифеншталь — единственный крупный художник, полностью ассоциирующийся с нацистской эпохой, и вся ее работа, не только в период Третьего рейха, но и спустя тридцать лет после его падения, неизменно иллюстрирует догматы фашистской эстетики. Фашистская эстетика включает восхищение первозданными ценностями, которые обнаруживаются в «Последних из нубий-цев», но далеко не ограничивается им. В более широком плане она исходит (и находит этому объяснения) из комплекса ситуаций, связанных с контролированием поведения, подчинением, сверх-усилием и способностью терпеть боль; она связывает два человеческих состояния, кажущиеся несовместимыми — эгоцентризм и самозабвенное служение. Отношения господина и раба принимают своеобразную карнавализованную форму: группы людей скапливаются в массы; люди овеществляются; овеществленные люди множатся и репродуцируются; массы людей/вещей группируются вокруг всемогущей, обладающей гипнотической властью фигуры вождя или определенной силы. Фашистская драматургия сфокусирована на оргиастических контактах между могущественной властью и единообразно одетыми марионетками, постоянно увеличивающимися в числе. Ее хореография чередует непрекращающееся движение и застывание в статичных, «мужественных» позах. Фашистское искусство воспевает подчинение, возвеличивает отказ от разума, зачаровывает смертью. Такого рода искусство далеко не всегда выступает под маркой фашизма или производятся на свет фашистскими режимами. (Если говорить только о кино, то такие фильмы, как «Фантазия* Уолта Диснея, «Вся банда здесь» Басби Беркли и «2001: Космическая Одиссея» Стенли Кубрика своей композицией и тематикой тоже являют поразительные примеры фашистского искусства.) И, конечно, черты фашистского искусства дают о себе знать в официальном искусстве коммунистических стран, которое всегда выступает под знаменем «реализма», в то время как фашистское искусство презирает реализм, предпочитая говорить об ♦идеализме». Тяга к монументализму и массовый культ героев
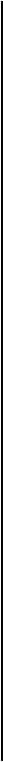 СЬЮЗЕН ЗОНТЛГ
СЬЮЗЕН ЗОНТЛГ
свойственны и фашистскому, и коммунистическому искусству и отражают общее для всех тоталитарных режимов воззрение на назначение искусства, заключающееся якобы в «увековечении» вождей и их учений. Еще одно общее свойство — передача движения в величественных и строгих формах, ибо именно такая хореография задает образец государственного единения. Массы предназначены к оформлению, упорядочиванию. Поэтому такой любовью пользуются в тоталитарных государствах массовые парады физкультурников, срежиссированное движение множества тел, образующих различные фигуры; столь популярная ныне в Восточной Европе гимнастика воспроизводит повторяющиеся черты фашистской эстетики: сдерживаемая, введенная в определенные рамки сила; военная точность.