(60-е – 70-е г.г. 19 века)
Несмотря на то, что реформа 1861 года была проведена, крепостное право отменено, но результатами ее большинство россиян удовлетворено не было. Демократическая пресса очень активно выступала против власти. И власть наносит адекватные удары: ужесточает цензуру (Временные правила о печати 1865 и 1882 г.г.), преследует инакомыслящих.
Одним из самых важных результатов реформы стала дальнейшая и очень быстрая капитализация страны. Все это, естественно, находило свое отражение в журналистике. Интеллигенция пыталась найти выходы из тупика и общую, объединяющую нацию идею. Такой идеей, по мнению Ф.М.Достоевского, могла стать теория «почвенничества», заключавшаяся в единении интеллигенции и народа (почвы) для взаимного духовного обогащения. Трибуной для этой теории становятся журналы братьев Достоевских «Время» и «Эпоха» (1861-1865г.г.).
В конце 60-х – 70-е г.г. 19 века самым демократическим становится журнал Некрасова и Салтыкова-Щедрина «Отечественные записки». Именно здесь была напечатана лучшая гражданская лирика и сатирическая публицистика авторов издания, которое продолжало лучшие критические традиции Белинского, Добролюбова и Чернышевского. Но после смерти Некрасова и отстранения Салтыкова-Щедрина к управлению в журнале приходят народники (Н.Михайловский и др.), чья идеология будет ведущей в этот период. Журнал был связан с революционным подпольем. В 1884 году «Отечественные записки» были закрыты.
Практическое занятие 14
Ф.М.Достоевский
[ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ» НА 1861 ГОД]
С января 1861 года будет издаваться
«ВРЕМ Я»
журнал литературный и политический ежемесячно,
| П |
книгами от 25 до 30 листов большого формата
режде чем мы приступим к объяснению, почему именно мы считаем нужным основать новый публичный орган в нашей литературе, скажем несколько слов о том, как мы понимаем наше время и именно настоящий момент нашей общественной жизни. Это послужит и к уяснению духа и направления нашего журнала.
Мы живем в эпоху в высшей степени замечательную и критическую. Не станем исключительно указывать, для доказательства нашего мнения, на те новые идеи и потребности русского общества, так единодушно заявленные всею мыслящею его частью в последние годы. Не станем указывать и на великий крестьянский вопрос, начавшийся в наше время... Все это только явления и признаки того огромного переворота, которому предстоит совершиться мирно и согласно во всем нашем отечестве, хотя он и равносилен, по значению своему, всем важнейшим событиям нашей истории и даже самой реформе Петра. Этот переворот есть слитие образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни — народа, отшатнувшегося от Петровской реформы еще 170 лет назад и с тех пор разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной, особенной и самостоятельной жизнью.
Мы упомянули о явлениях и признаках. Бесспорно, важнейший из них есть вопрос об улучшении крестьян- / ского быта. Теперь уже не тысячи, а многие миллионы русских войдут в русскую жизнь, внесут в нее свои свежие непочатые силы и скажут свое новое слово. Не вражда сословий, победителей и побеждённых, как везде в Европе, должна лечь в основание развития будущих начал нашей жизни. Мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных.
Реформа Петра Великого и без того нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом. G самого начала народ от нее отказался. Формы жизни, оставленные ему преобразованием, не согласовались ни с его духом, ни с его стремлением, были ему не по мерке, не впору. Он называл их немецкими, последователей великого царя—иностранцами. Уже одно нравственное распадение народа с его высшим сословием, с его вожатаями и предводителями показывает, какою дорогою ценою досталась нам тогдашняя новая жизнь. Но, разойдясь с реформой, народ не пал духом. Он неоднократно заявлял свою самостоятельность, заявлял ее с чрезвычайными, судорожными усилиями, потому что был один и ему было трудно. Он шел в темноте, но энергически держался своей особой дороги. Он вдумывался в себя и в свое положение, пробовал создать себе воззрение, свою философию, распадался на таинственные уродливые секты, искал для своей жизни новых исходов, новых форм. Невозможно было более отшатнуться от старого берега, невозможно было смелее жечь свои корабли, как это сделал наш народ при выходе на эти новые дороги, которые он сам себе с таким мучением отыскивал. А между тем его называли хранителем старых допетровских форм, тупого старообрядства.
Конечно, идеи народа, оставшегося без вожатаев на одни свои силы, были иногда чудовищны, попытки новых форм жизни безобразны. Но в них было общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непочатая. После реформы был между ним и нами, сословием образованным, один только случай соединения — двенадцатый год, и мы видели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое. Беда в том, что нас-то он не знает и не понимает.
Но теперь разъединение оканчивается. Петровская реформа, продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла наконец до последних своих пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена. Все последовавшие за Петром узнали Европу, примкнули к европейской жизни и не сделались европейцами. Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем; теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжитых и выработанных Европою из собственных своих национальных начал, нам чуждых и противоположных,— точно так, как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое не по нашей мерке. Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, пашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Но на родную почву мы возвратились не побежденными. Мы не отказываемся от нашего прошедшего: мы сознаем и разумность его. Мы сознаем, что реформа раздвинула наш кругозор, что через нее мы осмыслили будущее значение наше в великой семье всех народов.
Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий,' что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность яв-. лений, совершенно нам чуждых. Недаром заявили мы та- кую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев. Они упрекали нас за это, называли нас безличными, людьми без отечества, не замечая, что способность отрешиться на время от почвы, чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть па себя, есть уже сама по себе признак величайшей особенности; способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень немногим национальностям. Иностранцы еще и не починали наших бесконечных сил...Но теперь, кажется, и мы вступаем в новую жизнь.
И вот перед этим-то вступлением в новую жизнь примирение последователей реформы Петра с народным началом стало необходимостью. Мы говорим здесь не о славянофилах и не о западниках. К их домашним раздорам наше время совершенно равнодушно. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом. Мы чувствуем, что обе стороны должны наконец понять друг друга, должны разъяснить все недоумения, которых накопилось между ними такое невероятное множество, и потом согласно и стройно общими силами двинуться в новый широкий и славный путь. Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и возможно скорейшее,— вот наша передовая мысль, вот девиз наш.
Но где же точка соприкосновения с народом? Как сделан, первый шаг к сближению с ним — вот вопрос, вот забота, которая должна быть разделяема всеми, кому дорого русское имя, всеми, кто любит народ и дорожит его счастием. А счастие его — счастие наше. Разумеется, что первый шаг к достижению всякого согласия есть грамотность и образование. Народ никогда не поймет нас, если не будет к тому предварительно приготовлен. Другого нет пути, и мы знаем, что, высказывая это, мы не говорим ничего нового. Но пока за образованным сословием остается еще первый шаг, оно должно воспользоваться своим положением И воспользоваться усиленно. Распространение образования усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало — вот главная задача нашего времени, первый шаг [ко всякой деятельности.
Мы высказали только главную передовую мысль нашего журнала, намекнули па характер, на дух его будущей деятельности. Но мы имеем и другую причину,— побудившую нас основать новый независимый литературный орган. Мы давно уже заметили, что в нашей журналистике, и последние годы, развилась какая-то особенная добровольная зависимость, подначальность литературным авторитетам, Разумеется, мы не обвиняем нашу журналистику в корысти, в продажности. У нас нет, как почти везде в европейских литературах, журналов и газет, торгующих за деньги своими убеждениями, меняющих свою подлую службу и своих господ на других единственно из-за того, что другие дают больше денег. Но заметим, однако же, что можно продавать свои убеждения и не за деньги. Можно продать себя, например, от излишнего врожденного подобострастия или из-за страха прослыть глупцом за несогласие с литературными авторитетами. Золотая посредственность иногда даже бескорыстно трепещет перед мнениями, установленными столпами литературы, особенно если эти мнения смело, дерзко, нахально высказаны. Иногда только эта нахальность и дерзость доставляет знание столпа и авторитета писателю неглупому, умеющему воспользоваться обстоятельствами, а вместе с тем доставляет столпу чрезвычайное, хотя и временное влияние па массу. Посредственность, с своей стороны, почти всегда бывает крайне пуглива, несмотря на видимую заносчивость, и охотно подчиняется. Пугливость же порождает литературное рабство, а в литературе не должно быть рабства. Из жажды литературной власти, литературного превосходства, литературного чина иной, даже старый и почтенный литератор, способен иногда решиться на такую неожиданную, на такую странную деятельность, что она поневоле составляет соблазн и изумление современников и непременно перейдет в потомство в числе скандалезных анекдотов о русской литературе в половине девятнадцатого столетия. И такие происшествия случаются все чаще и чаще, и такие люди имеют влияние продолжительное, а журналистика молчит и не смеет до них дотрагиваться. Есть в литературе нашей до сих пор несколько установившихся идей и мнений, не имеющих ни малейшей самостоятельности, но существующих в виде несомненных истин, единственно потому, что когда-то так определили литературные предводители. Критика пошлеет и мельчает. В иных изданиях совершенно обходят иных писателей, боясь проговориться о них. Спорят для верха в споре, а не для истины. Грошовый скептицизм, вредный своим влиянием на большинство, с успехом прикрывает бездарность и употребляется в дело для привлечения подписчиков. Строгое слово искреннего глубокого убеждения слышится все реже и реже. Наконец, спекулятивный дух, распространяющийся в литературе, обращает иные периодические издания в дело преимущественно коммерческое, литература же и польза ее отодвигаются на задний план, а иногда о ней и не мыслится.
Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов,— несмотря па наше уважение к ним — с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени. Обличение это мы предпринимаем из глубочайшего уважения к русской литературе. Наш журнал не будет иметь никаких нелитературных антипатий и пристрастий. Мы даже готовы будем признаваться в собственных своих ошибках и промахах, и признаваться печатно, и не считаем себя смешными за то, что хвалимся этим (хотя бы и заранее). Мы не уклонимся и от полемики. Мы не побоимся иногда немного и «пораздразнить» литературных гусей1; гусиный крик иногда полезен: он предвещает погоду, хотя и не всегда спасает Капитолий2. Особенное внимание мы обратим на отдел критики. Не только всякая замечательная книга, но и всякая замечательная литературная статья, появившаяся в других журналах, будет непременно разобрана в нашем журнале. Критика не должна же уничтожиться из-за того только, что книги стали печататься не отдельно, как прежде, а в журналах. Оставляя в стороне всякие личности", обходя молчанием неё посредственное, если оно не вредно, «Время» будет следить за всеми сколько-нибудь важными явлениями литературы, останавливать внимание на резко кидающихся фактах, как положительных, так и отрицательных, и без всякой уклончивости обличать бездарность, злонамеренность, ложные увлечения, неуместную гордость и литературный аристократизм — где бы они ни являлись. Явления жизни, ходячие мнения, установившиеся принципы, сделавшиеся от общего и слишком частого употребления кстати и некстати какими-то опошлившими-ся, странными и досадными афоризмами, точно так же подлежит критике, как и вновь вышедшая книга или журнальная статья. Журнал наш поставляет себе неизменным правилом говорить прямо свое мнение о всяком литературном и честном труде. Громкое имя, подписанное под ним, обязывает суд быть только строже к нему, и журнал наш никогда низойдет до общепринятой теперь уловки - наговорить известному писателю десять напыщенных комплиментов, чтобы иметь право сделать ему одно не совсем лестное для него замечание. Похвала всегда целомудренна; одна лесть пахнет лакейской, Не имея места в простом объявлении входить во все подробности нашего издания, скажем только, что программа наша, утвержденная правительством, чрезвычайно разнообразна. Вот она:
Программа
I. Отдел литературный. Повести, романы, рассказы, мемуары, стихи и т. д.
П. Критика и библиографические заметки как о русских книгах, так и об иностранныx. Сюда же относятся разборы новых пьес, поставленных на наши сцены.
III. Статьи ученого содержания. Вопросы экономические, финансовые, философские, имеющие современный интерес. Изложение самое популярное, доступное и для читателей, но занимающихся специально этими предметами.
IV. Внутренние новости. Распоряжения правительства, события в отечестве, письма из губерний и проч.
.V. Политическое обозрение. Полное ежемесячное обозрение политической жизни государств. Известия последней почты, политические слухи, письма иностранных корреспондентов.
VI. Смесь, а) Небольшие рассказы, письма из-за границы и из наших губерний и проч. Ь) Фельетон, с) Статьи юмористического содержания.
Из этого перечня видно, что всё, что может интересовать современного читателя, входит в нашу программу. Из статей юмористического содержания мы сделаем особый отдел в конце каждой книжки.
Мы не выставляем имен писателей, принимающих участие в нашем издании. Этот способ привлечения внимания публики оказался в последнее время совершенно несостоятельным. Мы видели не одно издание, дававшее громкие имена только в своем объявлении. Хотя и мы в нашем могли бы выставить не одно известное в нашей литературе имя, но нарочно удерживаемся от этого, потому что, при всем уважении к нашим литературным знаменитостям, сознаем, что не они составляют силу журнала.
«Время» будет выходить каждый месяц, в первых числах, книгами от 25 до 30 листов большого формата, в объеме наших больших ежемесячных журналов.
[ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ» НА 1863 ГОД]
| С |
«Время» журнал литературный и политический, издаваемый М. Достоевским
будущим годом начнется третий год издания нашего журнала. Направление наше остается то же самое. Мы знаем, что некоторые из недоброжелателей наших стараются затемнить нашу мысль в глазах публики, стараются не понять ее. Недоброжелателей у нас много, да и не могло быть иначе. Мы нажили их сразу, вдруг. Мы выступили на дорогу слишком удачно, чтоб не возбудить иных враждебных толков. Это очень попятно. Мы, конечно, на это не жалуемся: иной журнал, иная книга иногда по нескольку лет не только не возбуждают никаких толков, но даже не обращают на себя никакого внимания на литературе, ни в публике. С нами случилось иначе, и мы этим даже довольны. Но крайней мере, мы возбудили толки, споры, Это ведь более лестно, чем встретить всеобщее невнимание,
Конечно, мы оставляем в стороне пустые и ничтожные толки рутинных крикунов, не понимающих дела и неспособных понять его. Они с чужого голоса бросаются на добычу; их натравливают те, у которых они в услужении и которые за них думают. Это — рутина. В рутине никогда не было ни одной своей мысли. С ними и толковать не стоит. Но в нашей литературе есть теоретики и есть доктринеры, и они постоянно нападали на нас. Эти действуют сознательно. И они понимают нас, и мы их понимаем. С ними мы спорили и будем спорить. Но объяснимся, почему они на нас нападали.
С первого появления нашего журнала теоретики почувствовали, что мы с ними во многом разнимся. Что хотя мы и согласны с ними в том, в чем всякий в настоящее время должен быть убежден окончательно (мы разумеем прогресс), но в развитии, в идеалах и в точках отправления и опоры общей мысли мы с ними не могли согласиться. Они, администраторы и кабинетные изуча-тели западных воззрений, тотчас же поняли про себя то, что мы говорили о почве, и с яростью напали на нас, обвиняя нас в фразерстве, говоря, что почва — пустое слово, которого мы сами не понимаем и которое мы изобрели для эффекта. А между тем они нас совершенно понимали, и об этом свидетельствовала самая ярость их нападений. На пустое слово, на рутинную гонку за эффектом не нападают с таким ожесточением. Повторяем: было много изданий и с претензией на новую мысль и с погоней за эффектом, которые по нескольку лет издавались, но не удостоивались даже малейшего внимания теоретиков. А на нас они обрушились со всею яростью.
Они очень хорошо знали, что призывы к почве, к соединению с народным началом не пустые звуки, не пустые слова, изобретенные спекуляцией для эффекта. Эти слова были для них напомипаньем и упреком, что сами они строят не на земле, а на воздухе. Мы с жаром восставали на теоретиков, не признающих не только того, что в народности почти всё заключается, но даже и самой народности. Они хотят единственно начал общечеловеческих и верят, что народности в дальнейшем развитии стираются, как старые монеты, что всё сливается в одну форму, в один общий тип, который, впрочем, они сами никогда не в силах определить. Это — западничество в самом крайнем своем развитии и без малейших уступок. В своей ярости они преследовали не только грязные и уродливые стороны национальностей, стороны, и без того необходимо долженствующие со временем уступить правильному развитию, по даже выставляли в уродливом виде и такие особенности народа нашего, которые именно составляют залоги его будущего самостоятельного развития; которые составляют его надежду и самостоятельную, вековечную силу. В своем отвращении от грязи и уродства они, за грязью и уродством, многое проглядели и многое не заметили. Конечно, желая искренно добра, они были слишком строги. Они с любовью самоосуждения и обличения искали одного только «темного царства» и не видали светлых и свежих сторон. Нехотя они иногда почти совпадали с клеветниками народа нашего, с белоручками, смотревшими на него свысока; они, сами того не зная, осуждали наш народ на бессилие и не верили в его самостоятельность. Мы, разумеется, отличали их от тех гадливых белоручек, о которых сейчас упомянули. Мы понимали и умели ценить и любовь, и великодушные чувства этих искренних друзей народа, мы уважали и будем уважать их искреннюю и честную деятельность, несмотря па то, что мы не во всем согласны с ними. Но эти чувства не заставят нас скрывать и наших убеждений. Молчание было бы пристрастием; к тому же мы не молчали и прежде. Теоретики не только по понимали народа, углубясь в свою книжную мудрость, по даже презирали его и, разумеется, без худого намерения и, так сказать, нечаянно. Мы положительно уверены, что самые умные из них думают, что при случае стоит только десять минут поговорить с пародом и он всё поймет; тогда как парод, может быть, и слушать-то их не станет, об чем бы они пи говорили ему. В правдивость, в искренность нашего сочувствия не верит народ до сих пор и даже удивляется, зачем мы не за себя стоим, а за его интересы, и какая нам до него надобность. Ведь мы до сих нор для него птичьим языком говорим. Но теоретики на это упорно не хотят смотреть, и кто знает, может быть, не только рассуждения, но даже самые факты не могли бы их убедить в том, что они одни, па воздухе, в совершенном одиночестве и без всякой опоры па почву; что всё это не то, совершенно не то.
Что касается до наших доктринеров, то они, конечно, не отвергают народности, но зато смотрят на нее свысока. В том-то и дело, что весь спор состоит в том, как нужно понимать народ и народность. Они понимают еще слишком по-старому; они верят в разные общественные слои и осадки. Доктринеры хотят учить парод, согласны писать для него народные книжки (до сих пор, впрочем, по умели написать ни одной) и не понимают.главнейшей аксиомы, что только тогда народ станет читать их книжки, когда они сами станут народом, от всего сердца и разума, а не по-маскарадному, то есть когда народные интересы станут совершенно нашими, а наши его интересами. По подобное возвращение па почву для них и немыслимо. Недаром же они так много говорят о своих пауках, профессорствах, достоинствах и чуть ли не об чинах своих. Самые милостивые из них соглашаются разве только на то, чтоб возвысить парод до себя, обучив его всем паукам и тем образовав его. Они не понимают нашего выражения «соединение с народным началом», и нападают на нас за него, как будто это какая-то таинственная формула, под которой заключается какой-то таинственный смысл. «Да и что нового в народности?— говорят нам1 они.— Это тысячу раз говорилось и прежде, говорилось даже в недавние давнопрошедшие времена. В чем тут новая мысль, в чем особенность?»
Повторяем: все дело в понимании слова «народность». В наших словах о соединении не было никакого таинственного смысла. Надо было понимать буквально, именно буквально, и мы до сих пор убеждены, что мы ясно выразились. Мы прямо говорили и теперь говорим, что нравственно надо соединиться с народом вполне и как можно крепче; что надо совершенно слиться с ним и.нравственно стать с ним как одна единица. Вот что мы говорили и до сих пор говорим. Такого полного соединения, конечно, теоретики и доктринеры ее могли понимать. Не могли понимать и те, которые уже полтораста лет поневоле привыкли себя считать за особое общество. Мы согласны, что совершенно понять это довольно трудно. Из книг иногда труднее полян, то, что понимается часто само собой на фактах и в действительной жизни. Но, впрочем, нечего пускаться в слишком подробные объяснения. За нашу идею мы не боимся. Никогда и быть того не могло, чтоб справедливая мысль не была наконец понята. За нас жизнь и действительность. И боже! какие нам иногда делали возражения: боялись за пауку, за цивилизацию!.. «Куда денется наука?— кричат они.— И неужели нам всем воротиться назад, надеть зипуны и куда-нибудь приписаться?» На это мы отвечаем и теперь, что за науку опасаться нечего. Она — вечная и высшая сила, всем присущая и всем необходимая. Она — воздух, которым мы дышим. Она никогда не исчезнет и везде найдет себе место. Что же касается до зипунов, то, может быть, их и не будет, когда мы настоящим образом поймем, что такое народ и народность. Может быть, оттого-то именно, что мы искренно, а не па шутку воротимся к пароду, и начнут исчезать у пего зипуны. Разумеется, это замечание мы делаем для робких и белоручек, им в утешение. Мы же уважаем зипун. Это честная одёжа, и гнушаться ею нечего.
Мы признаемся: нам труднее издавать журнал, чем кому-нибудь. Мы вносим новую мысль о полнейшей народной нравственной самостоятельности, мы отстаиваем Русь, наш корень, наши начала. Мы должны говорить патетически, уверять и доказывать. Мы должны выказать идеал наш и выказать в полной ясности. Обличителям легче нашего. Им стоит только обличать, нападать и свистать, чтоб быть всеми понятыми, часто не давая отчета, во имя чего они обличают, нападают и свищут. Боже пас сохрани, чтоб мы теперь свысока говорили об обличителях. Честное, великодушное, смелое обличение мы всегда уважаем, а если обличение основано на глубокой, живой идее, то, конечно, оно нелегко достается. Мы сами обличители; ссылаемся на журнал наш за всё это время. Мы хотим только сказать, что обличителю легче найти сочувствие. Даже разномыслящие и не совсем согласные с обличителем готовы примкнуть к нему ради обличения. Разумеется, мы вместе с нашими обличителями, и дельными и дешевыми, отвергаем и гнилость иных наносных осадков и исконной грязи. Мы рвемся к обновлению уж, конечно, не меньше их. Но мы не хотим вместе с грязью и выбросить золота; а жизнь и опыт убедили нас, что оно есть в земле нашей, свое, самородное, что залегает оно в естественных, родовых основаниях русского характера и обычая, что спасенье в почве и народе. Этот парод недаром отстоял свою самостоятельность. Над ним глумятся иные дешевые критики; говорят, что он ничего не сделал, ни к чему не пришел. Вольно ж не видать. Это-то мы и хотим указать, что он сделал. Это укажут и последствия, разовьет и наука; мы верим и это. Уж одно го, что он отстоял себя в течение многих веков, что па его месте другой парод, после таких испытаний, которые тысячу раз посылало ему провидение, может быть, давно стал бы чем-нибудь вроде каких-нибудь чукчей. Пусть на нем много грязи. Но в его взглядах на жизнь, в иных его родовых обычаях, в иных уже сложившихся основаниях общества и общины есть столько смысла, столько надежды в будущем, что западные идеалы не могут к нам подойти беззаветно. Не подойдут и потому, что не нашим племенем, не нашей историей они выжиты, что другие обстоятельства были при созданьи их и что право народности есть сильнее всех нрав, которые могут быть у пародов и общества. Это аксиома слишком известная. Неужели повторять ее? Неужели повторять и то, что считающие народ несостоятельным, готовые только обличать его за его грязь и уродство, считающие его неспособным к самостоятельности, уже тем самым про себя презирают его? В сущности, один только наш журнал признает вполне народную самостоятельность нашу даже и в том виде, в котором: она теперь находится. Мы идем прямо от нее, от этой народности, как от самостоятельной точки опоры, прямо, какая она ни есть теперь — невзрачная, дикая, двести лет прожившая в угрюмом одиночестве. Но мы верим, что в ней-то и заключаются все способы ее развития. Мы не ходили в древнюю Москву за идеалами; мы не говорили, что всё надо переломить сперва по-немецки и только тогда считать нашу народность за способный материал для будущего вековечного здания. Мы прямо шли от того, что есть, и только желаем: этому что есть наибольшей свободы развития. При свободе развития мы верим в русскую будущность; мы верим в самостоятельную возможность ее.
И кто знает, пожалуй, нас назовут обскурантами, не понимая, что мы, может быть, несравненно дальше и глубже идем, чем они, обличители наши, доказывая, что в иных естественных началах характера и обычаев земли русской несравненно более здравых и жизненных залогов к прогрессу и обновлению, чем в мечтаниях самых горячих обновителей Запада, уже осудивших свою цивилизацию и ищущих из нее исхода. Возьмем хоть один из многих примеров. Там, на Западе, за крайний и самый недостижимый идеал благополучия считается то, что у нас уже давно есть па деле, в действительности, но только в естественном, а не в развитом, не в правильно организованном состоянии. У нас существует, например, так, что, кроме ограниченного числа мещан и бедных чиновников, никто не должен бы родиться бедным. Всякая душа, чуть выйдет из чрева матери, ужо приписана к. земле, уже ей отрезан клочок земли в общем владении, и с голоду она умереть не должна бы. Если же у нас, несмотря на то, столько бедных, так ведь это единственно потому, что эти народные начала до сих пор оставались в единственном, в неразвитом состоянии, даже не удостаивались внимания передовых людей наших. Но с 19 февраля уже началась новая жизнь. Мы. жадно встречаем ее.
Мы долго сидели в бездействии, как будто заколдованные страшной силой. А между тем в нашем обществе начала сильно проявляться жажда жить. Через это-то самое желание жить общество и дойдет до настоящего пути, до сознания, что без соединения с народом оно одно ничего не сделает. Но только чтоб без скачков и без опасных salto-mortale совершился этот выход на настоящую дорогу. Мы первые желаем этого. Оттого-то мы желаем благовременного соединения с народом. Но во всяком случае лучше прогресс и жизнь, чем застой и тупой беспробудный сон, от которого всё коченеет и всё парализуется. В нашем обществе уже есть энтузиазм, есть святая, драгоценная сила, которая жаждет применения и исхода. И потому дай бог, чтоб этой силе был дан какой-нибудь законный, нормальный исход. Разумеется, свобода, данная этому выходу, хотя бы в свободном слове, сама себя регуляризировала бы, сама себя судила бы и законно, нормально направила. Мы искренно ждем и желаем того.
Нам кажется, что с нынешнего года паша прогрессивная жизнь, наш прогрессизм (если можно так выразиться) должен принять другие формы и даже в иных случаях и другие начала. Необходимость народного элемента в жизни становится очевидной и ощутительной. Иначе не будет основания, не будет поддержки пи для чего, ни для каких благих начинаний. Это слишком очевидно, и на деле в этом согласны: и прогрессисты и консерваторы.
Мы уважаем всякое благородное начинание; в наше время, когда всё запуталось и когда повсеместно возникает спор об основаниях и принципах, мы стараемся смотреть как можно шире п беспристрастнее, не впадая в безразличность, потому что имеем свои собственные убеждения, за которые горячо стоим. Но вместе с тем и всем сердцем сочувствуем всему, что искренно и честно.
Но мы ненавидим пустых, безмозглых крикунов, позорящих всё, до чего они ни дотронутся, марающих иную чистую, честную идею уже одним тем, что они в пей участвуют; свистунов, свистящих из хлеба и только для того, чтоб свистать; выезжающих верхом на чужой, украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающих себя маленьким кнутиком рутинного либерализма. Убеждения этих господ им ничего не стоят. Не страданием достаются им убеждения. Они их тотчас же и продадут за что купили. Они всегда со стороны тех, кто сильнее. Тут одни слова, слова и слова, а нам довольно слов; пора уж и синицу в руки.
Мы не боимся авторитетов и презираем лакейство в литературе; а этого лакейства у пас еще много, особенно в последнее время, когда всё в литературе поднялось и замутилось. Скажем еще одно слово: мы надеемся, ч го публика в эти два года убедилась в беспристрастии нашего журнала. Мы особенно этим гордимся. Мы хвалим хорошее и во враждебных нам изданиях и никогда из кумовства не похвалили худого у друзей наших. Увы! неужели такую простую вещь приходится в наше время ставить себе в заслугу?..
Мы стоим за литературу, мы стоит и за искусство. Мы верим в их самостоятельную и необходимую силу. Только самый крайний теоретизм и, с другой стороны, саман пошлая бездарность могут отрицать эту силу. Но бездарность, рутина отрицают с чужого голоса. Им с руки невежество. Не за искусство для искусства мы стоим. В этом отношении мы достаточно высказались. Да и беллетристические произведения, помещенные нами, достаточно это доказывают.
Мы не станет говорить здесь о тех улучшениях, какие намерены сделать в будущем году. Читатели сами их заметят.1
ОБ ИЗДАНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЖУРНАЛА «ЭПОХА», ЛИТЕРАТУРНОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО, ИЗДАВАЕМОГО СЕМЕЙСТВОМ М. М. ДОСТОЕВСКОГО
| И |
здание «Эпохи», журнала литературного и политического, будет продолжаться в будущем 1865 году семейством покойного Михаила Михайловича Достоевского.. «Эпоха» будет выходить по-прежнему раз в месяц, в прежней программе, в объеме наших ежемесячных журналов, то есть от 30 до 35 листов большого формата в каждой книге.
Собственники журнала принимают в издании его непосредственное участие.
Все прежние всегдашние сотрудники покойного редактора и почти все те писатели, которые помещали свои произведения в изданиях М. Достоевского (г-да Порецкий, Аверкиев, Страхов, М. Владиславлев, Ахптарумов, А. А. Головачев, Долгомостьев, Островский, Плещеев, Полонский, Милюков, Ф. Достоевский, Бабиков, Фатеев, Майков, Тургенев и многие другие), по-прежнему будут помещать своп труды в «Эпохе».
Из них А. Н. Островский1 положительно обещал нам в будущем году свою комедию. И. С. Тургенев2 уведомил нас, что первая написанная им повесть будет помещена в нашем журнале. Ф. М. Достоевский: кроме постоянного, непосредственного своего участия в «Эпохе», поместит в ней в будущем году свой роман. Журнал постоянно расширяет круг своих сотрудников.
Направление журнала неуклонно остается прежнее. Разработка и изучение наших общественных и земских явлений в направлении русском, национальном по-прежнему будут составлять главную цель нашего издания. Мы по-прежнему убеждены, что не будет в нашем обществе никакого прогресса, прежде чем мы не станем сами настоящими русскими. Признак же настоящего рус 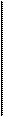
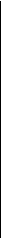 ского теперь — это знать то, что именно теперь надо не бранить у нас на Руси. Но хулить, не осуждать, а любить уметь — вот что надо теперь наиболее настоящему, русскому. Потому что кто способен любить и не ошибается в том, что именно ему надо любить на Руси,— тот уж знает, что и хулить ему надо; знает безошибочно, и чего пожелать, что осудить, о чем сетовать, и чего домогаться ему надо; и полезное слово умеет он лучше if понятнее всякого другого сказать — полезнее всякого присяжного обличителя. Многое научились мы бранить в пашем отечестве, и иногда, надо отдать справедливость, довольно остроумно и как будто даже и метко бранились. Чаще же всего городили ужаснейший вздор, за который покраснеют за нас грядущие поколения. Но зато мы до сих пор не научились и, почти сплошь, не знаем того, что именно должно не бранить на Руси. За это и нас никто не похвалит. В самом деле, в чем мы наиболее все ошибаемся и в чем все до ярости несогласны друг с другом:? В том, что именно у нас есть хорошего. Если б нам только удалось согласиться в этом пункте, мы б тотчас же согласились и в том, что у нас есть нехорошего. Неумелость эта — опасный и червивый признак для общества. Вот отчего нас (то есть общество) до сих пор и не понимает парод. Народ и мы — любим розно; вот в чем наш главный пункт разделения. Непонятно и смешно другим стало наше выражение: «почва». Почва вообще есть то, за что все держатся и на чем все держатся и на чем все укрепляются. Ну а держатся только того, что любят. А что мы любим и умеем любить теперь в России искренно, непосредственно, всем существом нашим? Что нам в ней теперь дорого? Разве не за стыд, не за ретроградство считают у нас до сих пор идею о том, что мы — сами по себе, что мы своеобразны, своеисторичны? Разве не за принцип пауки считают у лас, что националь
ского теперь — это знать то, что именно теперь надо не бранить у нас на Руси. Но хулить, не осуждать, а любить уметь — вот что надо теперь наиболее настоящему, русскому. Потому что кто способен любить и не ошибается в том, что именно ему надо любить на Руси,— тот уж знает, что и хулить ему надо; знает безошибочно, и чего пожелать, что осудить, о чем сетовать, и чего домогаться ему надо; и полезное слово умеет он лучше if понятнее всякого другого сказать — полезнее всякого присяжного обличителя. Многое научились мы бранить в пашем отечестве, и иногда, надо отдать справедливость, довольно остроумно и как будто даже и метко бранились. Чаще же всего городили ужаснейший вздор, за который покраснеют за нас грядущие поколения. Но зато мы до сих пор не научились и, почти сплошь, не знаем того, что именно должно не бранить на Руси. За это и нас никто не похвалит. В самом деле, в чем мы наиболее все ошибаемся и в чем все до ярости несогласны друг с другом:? В том, что именно у нас есть хорошего. Если б нам только удалось согласиться в этом пункте, мы б тотчас же согласились и в том, что у нас есть нехорошего. Неумелость эта — опасный и червивый признак для общества. Вот отчего нас (то есть общество) до сих пор и не понимает парод. Народ и мы — любим розно; вот в чем наш главный пункт разделения. Непонятно и смешно другим стало наше выражение: «почва». Почва вообще есть то, за что все держатся и на чем все держатся и на чем все укрепляются. Ну а держатся только того, что любят. А что мы любим и умеем любить теперь в России искренно, непосредственно, всем существом нашим? Что нам в ней теперь дорого? Разве не за стыд, не за ретроградство считают у нас до сих пор идею о том, что мы — сами по себе, что мы своеобразны, своеисторичны? Разве не за принцип пауки считают у лас, что националь