Летом 1955 года я договорился с несколькими приятелями поехать в Альпы. Альфред Тиссьер, бывший тогда членом Кингз-колледжа, обещал взять меня с собой на вершину Ротхорна, и, хотя я боюсь высоты, трусить было нельзя. И вот, поднявшись с проводником на Аллинин, чтобы приобрести необходимую сноровку, я отправился на почтовом автобусе в Циналь и в течение двух часов думал только о том, не начнется ли морская болезнь у шофера, который зигзагами вел автобус по узкой дороге, петлявшей среди каменных осыпей. Потом я увидел Альфреда: он стоял у входа в гостиницу и разговаривал с длинноусым профессором Тринити-колледжа, который всю войну провел в Индии.
Альфред был еще не в форме, и мы решили для начала дойти до ресторанчика у подножия огромного ледника, спускающегося с Обер-Габельхорна, — на следующий день нам предстояло подняться на этот ледник. Не успела гостиница скрыться из виду, как мы увидели спускающуюся навстречу нам группу альпинистов. Одного из них я сразу узнал. Это был Вилли Сидз, ученый, который за несколько лет до этого работал в Кингз-колледже Лондонского университета с Морисом Уилкинсом, исследуя оптические свойства нитей ДНК. Вилли скоро заметил меня и замедлил шаг, словно намеревался сбросить рюкзак и поболтать со мной. Однако он только буркнул: "А, Честный Джим!" — и быстро прошел мимо.
Плетясь в гору, я начал вспоминать наши первые встречи в Лондоне. Тогда ДНК еще была тайной, которой мог завладеть каждый, но никто не мог бы сказать, кому она достанется и будет ли он ее достоин, если она действительно окажется такой поразительной, как мы в глубине души надеялись. Теперь гонка уже позади, и я, один из победителей, знал, что история была отнюдь не простой и уж, во всяком случае, совсем не такой, какой ее представляли газеты. Действующих лиц, собственно говоря, было пятеро — Морис Уилкинс, Розалинд Фрэнклин, Лайнус Полинг, Фрэнсис Крик и я. И так как Фрэнсис был главной силой, определившей мою роль в этой истории, я начну рассказ с него.
 Я никогда не видел, чтобы Фрэнсис Крик держался скромно. Возможно, в обществе других людей он скромен, но я его таким не видел. И нынешняя его слава тут ни при чем. Это теперь о нем говорят много, чаще всего почтительно и, может быть, в один прекрасный день он встанет в один ряд с Резерфордом и Бором. Но ничего подобного еще не было в те дни, когда осенью 1951 года я пришел в Кавендишскую лабораторию Кембриджского университета и присоединился к маленькой группе физиков и химиков, изучавших пространственную структуру молекул белков. Крику тогда уже было тридцать пять лет, и тем не менее он был почти никому неизвестен. Хотя товарищи по работе признавали за ним цепкий и проницательный ум и часто обращались к нему за советами, его нередко недооценивали, а многие считали, что он чересчур говорлив.
Я никогда не видел, чтобы Фрэнсис Крик держался скромно. Возможно, в обществе других людей он скромен, но я его таким не видел. И нынешняя его слава тут ни при чем. Это теперь о нем говорят много, чаще всего почтительно и, может быть, в один прекрасный день он встанет в один ряд с Резерфордом и Бором. Но ничего подобного еще не было в те дни, когда осенью 1951 года я пришел в Кавендишскую лабораторию Кембриджского университета и присоединился к маленькой группе физиков и химиков, изучавших пространственную структуру молекул белков. Крику тогда уже было тридцать пять лет, и тем не менее он был почти никому неизвестен. Хотя товарищи по работе признавали за ним цепкий и проницательный ум и часто обращались к нему за советами, его нередко недооценивали, а многие считали, что он чересчур говорлив.
Группу, к которой принадлежал Фрэнсис, возглавлял химик Макс Перутц — уроженец Австрии, обосновавшийся в Англии в 1936 году. Он уже свыше десяти лет собирал данные о дифракции рентгеновских лучей на кристаллах гемоглобина и, наконец, начал получать кое-какие результаты. Ему помогал сэр Лоуренс Брэгг, руководитель Кавендишской лаборатории. Вот уже почти сорок лет на глазах Брэгга — лауреата Нобелевской премии и одного из основателей кристаллографии — рентгенографический метод позволял решать все более сложные структурные проблемы. И чем сложнее была молекула, тем больше радовался Брэгг, когда удавалось определить ее строение. Вот почему в первые послевоенные годы его особенно интересовала возможность установления структуры белков — самых сложных из всех молекул. Часто в свободное от административных обязанностей время он заходил к Перутцу, чтобы рассмотреть его последние рентгенограммы, а потом отправлялся домой и пытался их интерпретировать. Фрэнсис Крик представлял собой нечто среднее между теоретиком Брэггом и экспериментатором Перутцем — он иногда занимался экспериментами, но чаще был поглощен теоретическими рассуждениями о том как определить строение белков. У него постоянно появлялись новые идеи, он весь загорался и тут же выкладывал их каждому, кто готов был его слушать. Проходил день-другой, он убеждался, что его очередная теория неверна, и опять принимался за эксперименты, пока это ему не надоедало и он вновь не пускался в теорию.
С этими идеями было связано немало драматических моментов. Они очень оживляли атмосферу лаборатории, где эксперименты обычно длились по нескольку месяцев, а то и лет. Большую роль тут играли и голосовые данные Крика: он говорил громче и быстрее любого собеседника, а уж когда смеялся, то место его пребывания было известно всей лаборатории. Почти все мы получали удовольствие, когда на него находил теоретический стих, особенно, если у нас хватало времени слушать его внимательно, до тех пор пока мы окончательно не теряли нить его рассуждений. Но было здесь и одно важное исключение. Разговоры с Криком часто действовали на нервы сэру Лоуренсу Брэггу, и нередко одного звука его голоса бывало достаточно, чтобы Брэгг спасался бегством в соседнюю комнату. Брэгг даже избегал пить чай в лаборатории, опасаясь громогласных рассуждений Крика. Но и все эти меры предосторожности не обеспечивали Брэггу безопасность. Дважды коридор у его кабинета затопляло водой, хлеставшей из лаборатории, где работал Крик. Фрэнсис, с головой ушедший в свои теоретические изыскания, забывал проверить, хорошо ли надета на кран резиновая трубка водяного охлаждения.
Ко времени моего приезда теории Фрэнсиса вышли далеко за пределы кристаллографии белков. Его влекло все мало-мальски значительное, и он часто наведывался в другие лаборатории, чтобы поглядеть, какие новые опыты там ставятся. Обыкновенно он был очень вежлив и всячески старался щадить самолюбие коллег, которые не понимали истинного смысла собственных экспериментов. Однако скрывать от них этот факт он не считал нужным. Почти тут же он предлагал множество новых опытов, которые должны были подтвердить его интерпретацию. Более того, он никогда не мог удержаться, чтобы тотчас не сообщить каждому встречному и поперечному, как далеко могла бы продвинуть науку вперед его блистательная идея.
Однако, как ни старались его друзья, которым было известно, какой он прекрасный собеседник, они не могли скрыть того факта, что Фрэнсис способен прицепиться к любому случайному замечанию, оброненному за рюмкой хереса.
До моего приезда в Кембридж Фрэнсис особенно не задумывался о дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК) и ее роли в наследственности. И вовсе не потому, что не считал ее интересной. Наоборот, он бросил физику и занялся биологией после того, как в 1946 году прочитал книгу известного физика-теоретика Эрвина Шредингера "Что такое жизнь с точки зрения физики?". В этой книге очень изящно излагалось предположение, что гены представляют собой важнейшую составную часть живых клеток, а потому понять, что такое жизнь, можно, только зная, как ведут себя гены. В то время, когда Шредингер писал свою книгу (в 1944 году), господствовало мнение, что гены — это особый тип белковых молекул Однако почти тогда же бактериолог Освальд Эвери проводил в Нью-йоркском Рокфеллеровском институте свои опыты, которые показали, что наследственные признаки могут быть переданы от одной бактериальной клетки другой при помощи очищенного препарата ДНК.
Если учесть тот факт, что ДНК обнаружена в хромосомах всех клеток, опыты Эвери заставляли предположить, что все гены состоят из ДНК. А раз так, для Фрэнсиса это означало, что не белки сыграют роль Розеттского камня 1 в раскрытии секрета жизни.
Нет, именно ДНК даст нам ключ, который позволит узнать, каким образом гены определяют в числе прочих свойств цвет наших волос и глаз, а также, что весьма вероятно, степень наших умственных способностей и, может быть, даже нашу способность быть душой общества.
Конечно, были и такие учение, которые полагали, что доказательств в пользу ДНК собрано все еще недостаточно, и предпочитали считать гены молекулами белка. Однако Фрэнсиса мнение этих скептиков не беспокоило. Нет числа брюзжащим дуракам, которые постоянно попадают пальцем в небо! В науке нельзя добиться успеха, не усвоив, что ученые вопреки повсеместному убеждению, которое поддерживают их любящие мамочки и газеты, нередко бывают не только узколобыми и скучными, но и просто глупыми.
Тем не менее Фрэнсис в то время еще не был готов погрузиться в мир ДНК. Ее несомненная важность сама по себе не казалась ему достаточной причиной для того, чтобы покинуть область белков, в которой он проработал всего два года и которую только-только начал осваивать. Вдобавок его коллеги в Кавендишской лаборатории специально нуклеиновыми кислотами не интересовались, и даже при наилучших финансовых обстоятельствах потребовалось бы два-три года, чтобы создать новую исследовательскую группу, которая занималась бы рентгенографическими исследованиями структуры ДНК.
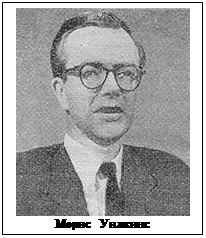 Кроме того, такое решение могло поставить его в неловкое положение. В то время работа над молекулярным строением ДНК в Англии практически была вотчиной Мориса Уилкинса, работавшего в Лондоне, в Кингз-колледже 2.
Кроме того, такое решение могло поставить его в неловкое положение. В то время работа над молекулярным строением ДНК в Англии практически была вотчиной Мориса Уилкинса, работавшего в Лондоне, в Кингз-колледже 2.
Как и Фрэнсис, Морис был физиком и также пользовался в своих исследованиях рентгенографическими методами. Было бы не слишком красиво, если бы Фрэнсис вдруг занялся проблемой, над которой Морис работал уже несколько лет. Дело осложнялось еще и тем, что оба они, почти ровесники, были хорошо знакомы и до второй женитьбы Фрэнсиса часто обедали и ужинали вместе, чтобы поговорить о науке. Живи они в разных странах, все было бы намного проще. Фрэнсис не мог покуситься на проблему, принадлежащую Морису, из-за сочетания английской патриархальности (в Англии чуть ли не все значительные люди если не состоят в родстве или свойстве, то уж, во всяком случае, знакомы друг с другом) и английского представления о "честной игре". Во Франции, где понятия о "честной игре", по-видимому, не существует, подобная трудность вовсе не возникла бы. В Соединенных Штатах ни о чем подобном и вопроса не встанет. Никому и в голову не придет требовать от исследователя в Беркли, чтобы он отказался от проблемы первостепенной важности только потому, что кто-то раньше него заинтересовался ею в Калифорнийском технологическом институте. Но вот в Англии так не делается.
 Хуже того, Морис постоянно повергал Фрэнсиса в отчаяние тем, что относился к ДНК слишком хладнокровно. Ему словно нравилось тянуть и мешкать. И дело было не в отсутствии ума или здравого смысла. Морис, несомненно, обладал и тем и другим: недаром же он первым взялся за ДНК. Просто Фрэнсису никак не удавалось втолковать Морису, что нельзя медлить, когда у тебя в руках такой динамит, как ДНК. И в довершение всего становилось все труднее отвлекать мысли Мориса от его ассистентки Розалинд Фрэнклин.
Хуже того, Морис постоянно повергал Фрэнсиса в отчаяние тем, что относился к ДНК слишком хладнокровно. Ему словно нравилось тянуть и мешкать. И дело было не в отсутствии ума или здравого смысла. Морис, несомненно, обладал и тем и другим: недаром же он первым взялся за ДНК. Просто Фрэнсису никак не удавалось втолковать Морису, что нельзя медлить, когда у тебя в руках такой динамит, как ДНК. И в довершение всего становилось все труднее отвлекать мысли Мориса от его ассистентки Розалинд Фрэнклин.
Он вовсе не был влюблен в Рози, как мы называли ее за глаза. Наоборот, почти с самого ее появления в лаборатории Мориса они только и делали, что выводили друг друга из себя. Морис, новичок в рентгенокристаллографических исследованиях, нуждался в квалифицированной помощи и рассчитывал, что Рози, опытный кристаллограф, ускорит его работу. Однако Рози придерживалась на этот счет совсем иной точки зрения. Она считала, что ДНК отдана ей на откуп, и никак не соглашалась на роль простой помощницы Мориса. Наверное, вначале Морис надеялся, что Рози со временем поостынет. Однако нетрудно было заметить, что заставить ее отступить будет нелегко. Она меньше всего подчеркивала в себе женщину. Несмотря на крупные черты лица, ее нельзя было назвать некрасивой, а если бы она обращала хоть чуточку внимания на свои туалеты, то могла бы стать очень привлекательной. Но ее это не интересовало. Она никогда не красила губ, чтобы оттенить свои прямые черные волосы, и в тридцать один год одевалась, точно английская школьница из породы "синих чулок". Так и хотелось объяснить все это влиянием разочаровавшейся в браке матери, которая постаралась внушить дочке, что только хорошая профессия может спасти умную девушку от замужества с каким-нибудь тупицей. На самом деле это было далеко не так. Ее аскетическую целеустремленность так объяснить было нельзя: она выросла в очень благополучной и интеллигентной банкирской семье. Было ясно, что Рози придется либо покинуть лабораторию, либо смириться. Первое было явно предпочтительнее, поскольку при ее воинственном характере Морису было бы очень трудно сохранить за собой господствующее положение, которое позволило бы ему без помех размышлять о ДНК. Правда, иногда он не мог отрицать справедливости ее жалоб: в Кингз-колледже действительно было две гостиных, одна для мужчин, а другая для женщин — бесспорно, пережиток прошлого. Но от него тут ничего не зависело и не так уж приятно служить козлом отпущения, потому что женская гостиная остается убогой каморкой, в то время как деньги тратятся на то, чтобы ему и его приятелям было уютнее пить утренний кофе.
К несчастью, Морис никак не мог найти благовидного предлога избавиться от Рози. Во-первых, в свое время ей дали основание считать, что ее приглашают сюда на несколько лет. Кроме того, нельзя было отрицать, что она умница. Если бы только она научилась сдерживать свои эмоции, то, конечно, могла бы оказать ему существенную помощь. Но ждать в надежде, что отношения улучшатся, значило опасно рисковать: легендарный химик из Калифорнийского технологического института Лайнус Полинг не был связан английскими понятиями о "честной игре". Рано или поздно Лайнус, которому тогда только что исполнилось пятьдесят лет, должен был обратить свои мысли к самой высокой научной награде. Интерес же его к проблеме ДНК не подлежал сомнению. Ведь Полинг не был бы величайшим из химиков, если бы не понял, что именно молекула ДНК — самая золотая из всех молекул. К тому же существовало даже прямое доказательство этого. Морис получил от Лайнуса письмо с просьбой прислать ему рентгенограммы кристаллической ДНК. После некоторых колебаний Морис ответил, что хотел бы сам более тщательно изучить рентгенограммы, прежде чем предавать их гласности.
Все это страшно выбивало Мориса из колеи. Он не затем ушел в биологию, чтобы и она оказалась столь же малоприемлемой с точки зрения этики, как физика с ее атомными последствиями. При мысли, что Лайнус и Фрэнсис вот-вот его обойдут, он лишался сна. Но Полинг находился в шести тысячах миль, и даже Фрэнсиса отделяли от него два часа езды на поезде.
А следовательно, главным камнем преткновения была Рози. Ему все больше начинало казаться, что лучшее место для феминистки — в чьей-нибудь чужой лаборатории.
Именно Уилкинс пробудил у меня интерес к рентгеноструктурным исследованиям ДНК. Произошло это в Неаполе, на небольшой научной конференции, посвященной структурам макромолекул, обнаруженных в живых клетках. Дело было весной 1951 года, когда я еще и не подозревал о существовании Фрэнсиса Крика. Собственно, ДНК я уже занимался и в Европу приехал для изучения ее биохимии на стипендию, полученную после защиты докторской диссертации. Мой интерес к ДНК вырос из возникшего в колледже на последнем курсе желания узнать, что же такое ген. В аспирантуре Университета штата Индиана я рассчитывал на то, что для раскрытия загадки гена химия может и не потребоваться. Это отчасти объяснялось ленью: в Чикагском университете я интересовался в основном птицами и всячески избегал изучения тех разделов химии и физики, которые представлялись мне хоть мало-мальски трудными. Биохимики университета на первых порах поощряли мои занятия органикой, но после того как я вздумал подогреть бензол на бунзеновской горелке, от дальнейших занятий настоящей химией я был освобожден. Намного безопаснее было выпустить доктора-недоучку, чем подвергаться риску нового взрыва.
Так мне и не пришлось заниматься химией до тех пор, пока после защиты диссертации я не поехал на стажировку в Копенгаген к биохимику Герману Калькару. Поездка за границу на первых порах показалась мне блестящим выходом из положения, в которое я попал из-за полного отсутствия каких-либо сведений о последних достижениях в области химии, чему отчасти способствовал и научный руководитель моей диссертации, микробиолог итальянской школы Сальвадор Луриа. Он питал брезгливое отвращение к большинству химиков и в особенности к беспощадно конкурирующей разновидности, которая плодится в джунглях Нью-Йорка. Калькар же, несомненно, был цивилизованным человеком, и Луриа надеялся, что в обществе этого интеллигентного европейского ученого я приобрету знания, необходимые для химических исследований, не попав под губительное влияние корыстных химиков-органиков.
В то время Луриа занимался в основном размножением бактериальных вирусов (бактериофагов, или, короче, фагов). Уже в течение нескольких лет среди наиболее прозорливых генетиков бытовало подозрение, что вирусы — это нечто вроде чистых генов. В этом случае для того, чтобы узнать, что же такое ген и как он воспроизводится, следовало изучать свойства вирусов. А так как простейшими вирусами были фаги, то в 40-х годах стало появляться все больше ученых, которые изучали фаги (так называемая фаговая группа), надеясь в конце концов узнать, каким образом гены управляют наследственностью клеток. Во главе этой группы стояли Луриа и его друг, немец по происхождению, физик-теоретик Макс Дельбрюк, который в то время был профессором Калифорнийского технологического института. Но если Дельбрюк продолжал надеяться, что проблему помогут решить чисто генетические ухищрения, то к Луриа все чаще начинала приходить мысль, что верный ответ удастся получить только после того, как будет установлено химическое строение вируса (гена). В глубине души он понимал, что невозможно описать поведение чего-то, если неизвестно, что это такое. Не сомневаясь, что он никогда не заставит себя изучить химию, Луриа избрал, как ему казалось, наиболее мудрый выход из положения и отправил к химику меня, своего первого серьезного ученика.
Выбор между специалистом по белкам и специалистом по нуклеиновым кислотам не составил особого труда. Хотя только около половины массы бактериального вируса приходится на ДНК (другая половина — белок), опыты Эвери указывали на ДНК как на основной генетический материал. Вот почему выяснение химического строения ДНК могло стать важным шагом к пониманию того, как воспроизводятся гены. Тем не менее в отличие от белков о химии ДНК было известно очень немногое. Ею занимались считанные химики, и генетику практически не за что было ухватиться, кроме того факта, что нуклеиновые кислоты представляют собой очень большие молекулы, построенные из более мелких; строительных блоков-нуклеотидов. Далее, почти никто из химиков-органиков, работавших с ДНК, не интересовался генетикой. Калькар составлял приятное исключение. Летом 1945 года он приезжал в лабораторию Колд-Спринг-Харбор (близ Нью-Йорка), чтобы пройти у Дельбрюка курс по бактериальным вирусам. Поэтому и Луриа и Дельбрюк надеялись, что именно в его копенгагенской лаборатории объединенные методы химии и генетики наконец принесут реальные биологические плоды.
Однако из их плана ничего не вышло. Герман меня не зажег. В его лаборатории я испытывал к химии нуклеиновых кислот то же равнодушие, что и в Штатах. Отчасти потому, что, на мой взгляд, разработка проблемы, которой он в то время занимался (метаболизм нуклеотидов), не могла дать ничего непосредственно интересного для генетики. Играло некоторую роль и то обстоятельство, что, несмотря на несомненную цивилизованность Германа, я его попросту не понимал.
 Зато я довольно прилично понимал английский язык близкого друга Германа — Оле Маалойе. Оле только что вернулся из США (из Калифорнийского технологического института), где увлекся теми же самыми фагами, которые были темой моей диссертации. После возвращения он оставил свои прежние исследования и занимался только фагами. В то время он был единственным датчанином, работавшим с фагами, и поэтому очень обрадовался, когда я и Тантер Стент, специалист по фагам из лаборатории Дельбрюка, приехали работать к Герману. Вскоре мы с Гантером стали постоянными гостями в лаборатории Оле, которая находилась в нескольких милях от лаборатории Германа, а через некоторое время уже принимали активное участие в его экспериментах.
Зато я довольно прилично понимал английский язык близкого друга Германа — Оле Маалойе. Оле только что вернулся из США (из Калифорнийского технологического института), где увлекся теми же самыми фагами, которые были темой моей диссертации. После возвращения он оставил свои прежние исследования и занимался только фагами. В то время он был единственным датчанином, работавшим с фагами, и поэтому очень обрадовался, когда я и Тантер Стент, специалист по фагам из лаборатории Дельбрюка, приехали работать к Герману. Вскоре мы с Гантером стали постоянными гостями в лаборатории Оле, которая находилась в нескольких милях от лаборатории Германа, а через некоторое время уже принимали активное участие в его экспериментах.
Вначале меня иногда мучила совесть при мысли, что я занимаюсь с Оле обычными исследованиями фагов, тогда как стипендию мне дали для того, чтобы я изучал биохимию под руководством Германа, — строго говоря, я нарушал это условие. Не прошло и трех месяцев после моего приезда в Копенгаген, как мне предложили представить план работы на следующий год. А это было не так просто, поскольку никаких планов у меня не было. Оставался единственный безопасный выход: попросить о продлении стажировки у Германа еще на год. Объяснять, что я так и не сумел воспылать любовью к биохимии, было бы рискованно. К тому же я не видел причин опасаться, что мне не разрешат изменить мои планы после того, как стажировка будет продлена. Поэтому я написал в Вашингтон, указывая, что хотел бы еще некоторое время провести в стимулирующей обстановке Копенгагена. Как я и ожидал, мою стажировку продлили — некоторые из тех, от кого это зависело, были лично знакомы с Калькаром и сочли вполне целесообразным предоставить ему возможность обучить еще одного биохимика.
Правда, было неизвестно, как отнесется к этому сам Герман. Он мог и обидеться на то, что я почти не бываю в его лаборатории. Впрочем, с его рассеянностью он, возможно, этого попросту еще не заметил. К счастью, этим страхам скоро пришел конец. Совершенно неожиданное событие избавило меня от дальнейших угрызений совести. Как-то, в начале декабря, я приехал на велосипеде в лабораторию Германа, предвидя еще одну очень милую, но абсолютно непонятную беседу. Однако на этот раз оказалось, что Германа иногда все-таки можно бывает понять. Ему необходимо было поделиться важной новостью: он порвал с женой и надеется получить развод. Новость эта очень скоро перестала быть секретом — она была сообщена по очереди всем сотрудникам лаборатории. Несколько дней спустя стало ясно, что какое-то время мысли Германа меньше всего будут заняты наукой, — возможно, до самого конца моего пребывания в Копенгагене. Таким образом, оставалось только радоваться, что он избавлен хотя бы от необходимости обучать меня биохимии нуклеиновых кислот! И я мог каждый день спокойно ездить на велосипеде в лабораторию Оле, сознавая, что вводить комитет по распределению стипендий в заблуждение относительно места моей работы все же лучше, чем вынуждать Германа говорить сейчас о биохимии.
Кроме того, время от времени я бывал доволен своими экспериментами с бактериальными вирусами. За три месяца мы с Оле закончили серию опытов, проследив судьбу фага, когда он размножается внутри бактерии, образуя несколько сот новых вирусных частиц. Полученных данных было достаточно для вполне приличной публикации, и по обычным нормам я мог бы прекратить всякую работу до конца года, не рискуя быть обвиненным в безделье. С другой стороны, я, совершенно очевидно, нисколько не приблизился к разрешению вопроса о том, что такое ген и как он воспроизводится. И я не видел, как можно было бы это сделать, не изучив сначала химию. Поэтому меня очень обрадовало предложение Германа поехать весной на Зоологическую станцию в Неаполе, так как он решил провести там апрель и май. Поездка в Неаполь представилась мне самым разумным шагом. Бездельничать в Копенгагене, где вообще не бывает весны, не имело смысла. А неаполитанское солнце могло помочь мне узнать что-нибудь о биохимии эмбрионального развития морских животных. И наверное, у меня будет там время спокойно изучать генетическую литературу. А когда она мне надоест, я, возможно, что-нибудь почитаю и по биохимии. Без всяких колебаний я послал в Штаты письмо с просьбой разрешить сопровождать Германа в Неаполь.
С обратной почтой из Вашингтона пришел любезный ответ с разрешением и пожеланием приятного путешествия. К нему был еще приложен чек на 200 долларов для покрытия дорожных расходов. И я отправился в солнечные края, испытывая легкие угрызения совести.
Морис Уилкинс тоже приехал в Неаполь из Лондона без серьезных научных целей. Эта поездка оказалась приятным сюрпризом, которым он был обязан своему шефу, профессору Дж. Т. Рэндоллу. Рэндолл должен был поехать в Неаполь па конференцию по макромолекулам сам и сделать доклад о работе своей новой биофизической лаборатории. Однако он был так загружен, что решил отправить вместо себя Мориса. Если бы не поехал никто, лаборатория предстала бы в невыгодном свете. На этот биофизический спектакль ухлопали немало казенных денег, и, по мнению некоторых, они были выброшены на ветер.
Для подобных итальянских конференций не принято готовить серьезных докладов. На них, как правило, небольшое число иностранных участников, не понимающих по-итальянски, встречается с большим числом итальянцев, которые в подавляющем большинстве не понимают быстрой английской речи — единственного общего языка гостей. Гвоздем программы каждой такой встречи была многочасовая экскурсия к какому-нибудь историческому месту или храму. Поэтому ждать от подобных конференций чего-то интересного никак не приходилось.
Когда приехал Морис, я уже рвался на север. Герман меня обманул. Все первые шесть недель в Неаполе я постоянно мерз. Официальная температура воздуха куда менее важна, чем отсутствие центрального отопления. Ни Зоологическая станция, ни моя ветхая комнатенка на верхнем этаже шестиэтажного дома прошлого века никак не отапливались. Если бы морские животные хоть чуть-чуть меня интересовали, я занялся бы опытами: все-таки это теплее, чем неподвижно сидеть в библиотеке, задрав ноги на стол. Иногда я, нервничая, стоял рядом с Германом, пока он занимался чем-то биохимическим, и выпадали дни, когда я даже понимал, что он говорит. Впрочем, следил я за ходом его мыслей или нет, разница была невелика. Гены никогда не оказывались в центре или хотя бы на периферии его внимания.
Большую часть времени я гулял по улицам или читал журнальные статьи начиная с первых дней генетики. Порой я предавался мечтам о раскрытии тайны гена, но ни разу мне в голову не пришло даже самого отдаленного подобия мало-мальски приличной идеи. При таких обстоятельствах было трудно избавиться от беспокойной мысли, что у меня ничего не получается. Конечно, в Неаполь я приехал не для того, чтобы работать, но от этого мне легче не становилось.
Я еще питал слабую надежду на то, что сумею извлечь какую-то пользу из конференции по структуре биологических макромолекул. Хотя я ничего не знал о рентгеновском дифракционном методе, главенствовавшем в структурном анализе, я все же рассчитывал, что устные доклады будет легче понять, чем журнальные статьи, которые были мне совсем не по зубам. Особенно интересовал меня доклад о нуклеиновых кислотах, который должен был сделать Рэндолл. В то время о пространственной структуре молекулы нуклеиновой кислоты почти ничего не было опубликовано. Вероятно, это обстоятельство играло некоторую роль в той прохладце, с какой я относился к занятиям химией. Изучение нудных химических фактов не могло меня зажечь, а о нуклеиновых кислотах химики еще ничего толкового не узнали.
Однако шансов на откровение было мало. Значительная часть рассуждений о пространственном строении белков и нуклеиновых кислот была пустой болтовней. Хотя работы в этой области велись уже более пятнадцати лет, большинство фактов, если не все, были неубедительными. Идеи, выдвигаемые с большим апломбом, обычно принадлежали безответственным кристаллографам, которым очень нравилось, что они работают в такой области, где опровергнуть их не так-то легко. Поэтому, хотя практически никто из биохимиков, включая и Германа, не был способен понять ход рассуждений рентгеноструктурщиков, их это не смущало. Стоило ли изучать сложные математические методы только для того, чтобы копаться в заведомой чепухе? В результате никому из моих учителей и в голову не приходило, что я после защиты докторской диссертации захочу работать у кристаллографа.
Впрочем, Морис меня не разочаровал. То, что он явился вместо Рэндолла, не имело для меня никакого значения — они оба были мне одинаково неизвестны. Его выступление было очень дельным и резко выделялось на фоне остальных докладов, часть которых вообще не имела никакого отношения к тематике конференции. К счастью, эти последние были сделаны на итальянском языке, и потому иностранные гости могли скучать открыто, не опасаясь, что это будет истолковано, как невежливость. Кроме того, выступали биологи из стран континентальной Европы, которые были в то время гостями Зоологической станции. Они почти не касались вопроса о структуре макромолекул. В отличие от них Морис продемонстрировал рентгенограмму ДНК, которая имела прямое отношение к делу. Она вспыхнула на экране в конце его сообщения. С чисто английской сдержанностью Морис не позволил себе никаких восторженных оценок и сказал только, что эта рентгенограмма значительно богаче дифракционными максимумами, чем предыдущие, и что она, по-видимому, свидетельствует о кристаллической структуре. А если мы узнаем строение ДНК, то нам будет легче понять, как работают гены.
Я внезапно загорелся интересом к химии. До выступления Мориса я сильно опасался, как бы строение генов не оказалось предельно неправильным. Однако теперь я узнал, что гены могут кристаллизоваться, а это указывало на очень правильное строение, установить которое можно прямым путем. Тут же я начал прикидывать, нельзя ли мне будет поработать над ДНК вместе с Уилкинсом. В перерыве я попытался его разыскать. Я думал, что он мог знать больше, чем сказал в своем докладе, — ученый, не вполне уверенный в правильности своих выводов, обычно избегает излагать их па конференциях. Однако поговорить с Морисом мне не удалось: он куда-то исчез.
Возможность познакомиться с ним представилась мне только на следующий день, когда все мы отправились осматривать греческие храмы в Пестуме. Я заговорил с ним, пока мы ждали автобуса, и объяснил, как меня интересует ДНК. Но до того, как мне удалось хоть что-нибудь узнать, подали автобус и я сел рядом с Элизабет, моей сестрой, которая только что приехала из Штатов. В храмах мы все разбрелись в разные стороны, и прежде чем я вновь сумел загнать Мориса в угол, мне вдруг как будто улыбнулась невероятная удача.
 Морис заметил, что моя сестра очень красива, и вскоре они уже вместе завтракали. Я пришел в восторг: много лет я угрюмо наблюдал, как за Элизабет настойчиво ухаживают унылые идиоты. И вдруг — такая чудесная перемена! Мне больше незачем было опасаться, что она станет-таки женой какого-нибудь кретина. Далее, если Морису моя сестра действительно понравилась, то мне, естественно, представится возможность принять самое непосредственное участие в его рентгеноструктурных исследованиях ДНК. Правда, Морис, извинившись, встал и сел в стороне от нас, но это меня не обескуражило: как человек благовоспитанный, он не хотел мешать моему разговору с сестрой. Однако едва мы вернулись в Неаполь, мои радужные мечты о семейной славе рассеялись как дым. Морис отправился к себе в отель, только слегка кивнув нам на прощанье. Ни красота моей сестры, ни мой горячий интерес к структуре ДНК его не покорили. По-видимому, нам не было суждено попасть в Лондон. И я вернулся в Копенгаген, чтобы продолжать уклоняться от изучения биохимии.
Морис заметил, что моя сестра очень красива, и вскоре они уже вместе завтракали. Я пришел в восторг: много лет я угрюмо наблюдал, как за Элизабет настойчиво ухаживают унылые идиоты. И вдруг — такая чудесная перемена! Мне больше незачем было опасаться, что она станет-таки женой какого-нибудь кретина. Далее, если Морису моя сестра действительно понравилась, то мне, естественно, представится возможность принять самое непосредственное участие в его рентгеноструктурных исследованиях ДНК. Правда, Морис, извинившись, встал и сел в стороне от нас, но это меня не обескуражило: как человек благовоспитанный, он не хотел мешать моему разговору с сестрой. Однако едва мы вернулись в Неаполь, мои радужные мечты о семейной славе рассеялись как дым. Морис отправился к себе в отель, только слегка кивнув нам на прощанье. Ни красота моей сестры, ни мой горячий интерес к структуре ДНК его не покорили. По-видимому, нам не было суждено попасть в Лондон. И я вернулся в Копенгаген, чтобы продолжать уклоняться от изучения биохимии.
Морис изгладился из моей памяти — но не та рентгенограмма ДНК, которую он демонстрировал в Неаполе. Этот потенциальный ключ к раскрытию тайны жизни я не был способен забыть. То, что я не мог дать ему правильное истолкование, меня не смущало, Уж лучше мечтать о славе, чем постепенно превращаться в академическую мумию, ни разу не рискнувшую на самостоятельную мысль. Ободрял меня и потрясающий слух о том, что Лайнус Полинг сумел частично решить проблему строения белков. Известие это обрушилось на меня в Женеве, где я остановился на несколько дней, чтобы поговорить с Жаном Вэйглем, швейцарским специалистом по фагам, который только что вернулся из Штатов, проработав зиму в Калифорнийском технологическом институте. Перед отъездом Жан присутствовал на лекции, во время которой Лайнус объявил о своем открытии.
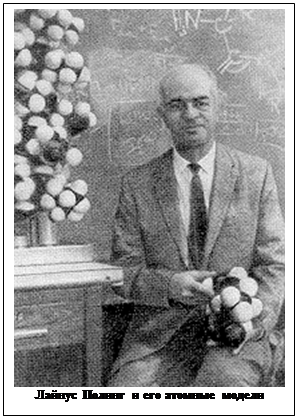 Свое сообщение Полинг сделал со свойственной ему любовью к эффектам. Он говорил, как хороший актер. Его модель была закрыта занавеской, и только в самом конце лекции он гордо представил присутствующим свое последнее творение, после чего объяснил, почему именно его модель — α-спираль — так необыкновенно красива. Этот спектакль, как и все его блистательные выступления, привел в восхищение студентов младших курсов. Ну, кто мог сравниться с Лайнусом! Это сочетание огромного ума и заразительной улыбки было неотразимо. Однако несколько коллег следили за этим представлением со смешанным чувством. То, как Лайнус метался вокруг демонстрационного стола и жестикулировал, точно фокусник, который вот-вот вытащит кролика из своего башмака, вызывало у них ощущение собственной неполноценности. С этим было бы легче смириться, держись он хоть чуть-чуть поскромнее. Даже если бы он сказал глупость, студенты, загипнотизированные его неукротимой уверенностью в себе, все равно этого не заметили бы. Немало его коллег втихомолку дожидалось того часа, когда Полинг сядет в лужу, споткнувшись на чем-нибудь серьезном. Однако Жан не мог сказать мне, верна или нет α-спираль Лайнуса. Он не был специалистом по рентгеновской кристаллографии и не мог профессионально оценить эту модель. Впрочем, некоторым его более молодым друзьям, занимавшимся структурной химией, α-спираль показалась очень изящной. А поэтому они склонялись к мнению, что Лайнус прав. Но это означало, что он снова решил проблему исключительной важности и первым высказал правильное предположение о структуре макромолекулы, играющей такую важную роль в биологии. Вполне вероятно, что он также разработал сенсационно новый метод, который окажется возможным применить и к нуклеиновым кислотам. Правда, Жан не запомнил никаких специальных приемов. Он мог лишь сообщить, что описание α-спирали должно быть опубликовано в ближайшее время.
Свое сообщение Полинг сделал со свойственной ему любовью к эффектам. Он говорил, как хороший актер. Его модель была закрыта занавеской, и только в самом конце лекции он гордо представил присутствующим свое последнее творение, после чего объяснил, почему именно его модель — α-спираль — так необыкновенно красива. Этот спектакль, как и все его блистательные выступления, привел в восхищение студентов младших курсов. Ну, кто мог сравниться с Лайнусом! Это сочетание огромного ума и заразительной улыбки было неотразимо. Однако несколько коллег следили за этим представлением со смешанным чувством. То, как Лайнус метался вокруг демонстрационного стола и жестикулировал, точно фокусник, который вот-вот вытащит кролика из своего башмака, вызывало у них ощущение собственной неполноценности. С этим было бы легче смириться, держись он хоть чуть-чуть поскромнее. Даже если бы он сказал глупость, студенты, загипнотизированные его неукротимой уверенностью в себе, все равно этого не заметили бы. Немало его коллег втихомолку дожидалось того часа, когда Полинг сядет в лужу, споткнувшись на чем-нибудь серьезном. Однако Жан не мог сказать мне, верна или нет α-спираль Лайнуса. Он не был специалистом по рентгеновской кристаллографии и не мог профессионально оценить эту модель. Впрочем, некоторым его более молодым друзьям, занимавшимся структурной химией, α-спираль показалась очень изящной. А поэтому они склонялись к мнению, что Лайнус прав. Но это означало, что он снова решил проблему исключительной важности и первым высказал правильное предположение о структуре макромолекулы, играющей такую важную роль в биологии. Вполне вероятно, что он также разработал сенсационно новый метод, который окажется возможным применить и к нуклеиновым кислотам. Правда, Жан не запомнил никаких специальных приемов. Он мог лишь сообщить, что описание α-спирали должно быть опубликовано в ближайшее время.
Когда я вернулся в Копенгаген, туда уже пришел журнал со статьей Лайнуса. Я быстро пробежал ее глазами и тут же перечитал снова. Большая часть терминологии была мне непонятна, и я уловил только общий ход его рассуждений, но не мог судить, насколько они убедительны. Правда, одно я понял твердо: написана статья блестяще. Через несколько дней пришел следующий номер журнала — на этот раз в нем было семь статей Полинга. Они тоже были написаны великолепно и полны риторики. Одна начиналась фразой: "Коллаген — очень интересный белок". Я вдохновился и сочинил первую строку статьи, которую написал бы о ДНК, если бы установил ее строение. "Гены представляют интерес для генетиков" — такое начало сразу покажет, что я мыслю иначе, чем Полинг.
Я начал прикидывать, где бы я мог научиться расшифровывать рентгенограммы. Калифорнийский технологический институт отпадал — Лайнус был слишком велик, чтобы тратить время на обучение математически недоразвитого биолога. Быть снова отвергнутым Уилкинсом мне тоже не хотелось. Таким образом, оставался только Кембридж, где, как мне было известно, какой-то Макс Перутц занимался структурой биологических макромолекул, и в частности молекул белка гемоглобина. Поэтому я написал Луриа о моей новой страсти, спрашивая, не может ли он устроить меня в эту кембриджскую лабораторию. Против всяких ожиданий все уладилось очень просто. Вскоре после получения моего письма Луриа на небольшой конференции в Анн-Арбор познакомился с сотрудником Перутца Джоном Кендрью, который совершал длительную пое<