Собор
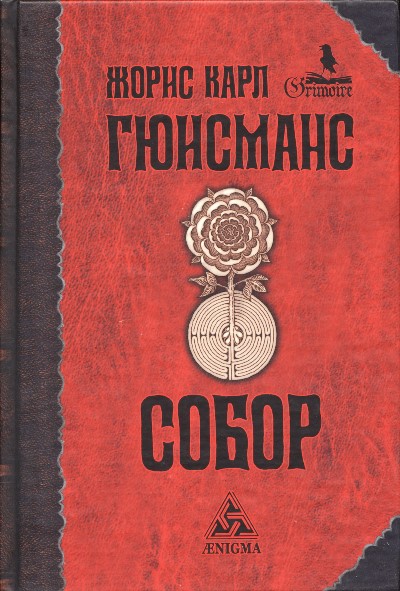
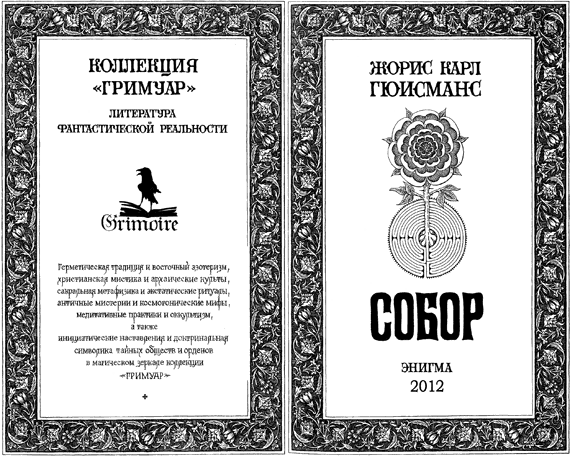
Жорис Карл Гюисманс
«Собор»
В. Каспаров
Камень, кружево, паутина
Я ненавижу свет
Однообразных звезд,
Здравствуй, мой давний бред,
Башни стрельчатый рост!
Кружевом, камень, будь
И паутиной стань,
Неба пустую грудь
Тонкой иглой рань.
О. Мандельштам
Сведущие люди говорят, что конец света уже наступил – в шестнадцатом веке, мы просто не знаем этого и думаем, что живем. Невидимая трещина, прошедшая через плоть и кровь, через звезды и минералы, разделила мир на храм и не‑храм – храм, где человек оправдан, и не‑храм, где ему уже не оправдаться.
Незаметно для человеческого глаза храм постоянно пульсирует, перемещаясь из бытия в небытие и обратно, насыщаясь благодатной энергией. Подобно тому как мир держится молитвами праведников, само присутствие на земле храмов – готических, неготических, – их пульсации обеспечивают истечение любви к нам сюда. И если какая‑нибудь девочка любит, не задумываясь об этом, ей простится – она так молода. Мы же, остальные, да сохраним это в памяти.
А теперь длинная цитата: «Иаков же вышел из Вирсавии… и пришел на одно место и остался там ночевать… И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем… Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные.
И встал Иаков рано утром, взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей на верх его. И нарек имя месту тому: Вефиль (Дом Божий)… в знак того, что камень, который он поставил памятником, будет Домом Божиим…»
|
|
Камень, которому предстояло стать кружевом и паутиной.
А посему камень – образ храма, храм же – врата небесные, за которыми лестница, по ней душа возносится на встречу с Божественным.
В то же время храм – мы сами, а так как деление мира на внешнее и внутреннее – иллюзия, следствие греха, то, минуя королевский портал Шартрского собора, как и любые врата в любой другой храм, мы вступаем в самих себя и принимаемся отыскивать в себе ту самую лествицу.
«Я есмь Дверь, ведущая в жизнь вечную», – сказал Христос, потому королевский портал в Шартре есть воистину Христос. Впрочем, подробнее об этом в самом романе Гюисманса, который романом можно назвать лишь условно, поскольку герой там один – Шартрский собор, а люди – свита, играющая короля. По сути, мы имеем дело с церковно‑католической мистикой, которая кому‑то с непривычки может показаться сухой, начетнической, утопающей в подробностях. Однако недаром поэт сказал, что «жизнь, как тишина осенняя, подробна». Требуется усилие, чтобы понять: собор – квинтэссенция жизни, подробная подробность.
Каждая ступень лествицы Иакова соответствует определенному изменению внутреннего сознания, происходящему до момента встречи твари, восходящей к Богу, и Бога, нисходящего к твари. Это «место единения, священной взаимности, где божественная (духовная) любовь и человеческая любовь становятся единым целым в существе любящего» (К. Бамфорд). Место, где это единение осуществляется, – по определению храм, видимый плотским взором или нет. Есть уровни, где храм везде. Не обладая возможностью постоянно пребывать на этом уровне в силу своей немощности, мы нуждаемся в храме рукотворном.
|
|
Храм – земное воспроизведение модели высшего мира, копия небесного архетипа. Зодчий, приступая к строительству храма, испытывает мощное воздействие высших сил, а завершая строительство, становится неотличим от своего творения. Чтобы светское здание не могло разрушить время, обращались к строительной магии, вмуровывали в стену человека, жизнь которого перетекала в камень, а живой камень не умирает. Чтобы не обрушились стены собора, молящиеся должны были отринуть свою плоть и кровь, вмуровать их в стены, завершив таким образом постройку.
С наступлением второго тысячелетия началась – пусть не сразу – новая пора. Души в необъяснимом порыве воспылали к Богу. Одна за другой возводились новые церкви, перестраивались старые, даже те, которые в этом особо не нуждались. Благородное соперничество, ристалище, на котором состязаются бегуны, – кто быстрее достигнет вечной жизни.
В начале двенадцатого века средневековые каменщики сделали великое открытие – нашли способ удерживать потолочные своды на широких опорах. Прежние, тяжелые своды и их перекрытия всею мощью давили на стены, из‑за чего приходилось прибегать к массивным колоннам. Появление ребристого свода, арочные балки которого поддерживали сводчатый потолок из тонких каменных панелей, было сродни чуду. Не будем вдаваться в технические подробности, скажем лишь, что нововведение во многом освобождало стены от несущих функций, они становились тоньше, украшались окнами, стала возможной постройка очень высоких зданий с тонкими шпилями. Земные существа устремились ввысь. Готические церкви вырастали одна за другой. Аббатство Сен‑Дени в Париже, Нотр‑Дам де Пари, соборы в Лионе, Страсбурге, Реймсе, Амьене, Кельне, Ульме, Леоне… Все не перечислишь. Одно из первых мест в этом ряду занимает главное действующее лицо романа Гюисманса – собор в Шартре, освященный в 1260 г. (строили его 26 лет) и способный вместить 18 тысяч верующих, при том что в самом городе Шартре проживает сегодня немногим более 39 тысяч жителей.
|
|
А потом, на рубеже XIII–XIV вв., в мире, чьей проекцией является наш земной мир, что‑то случилось, и это событие ударило по нам. Дети стали рождаться реже. Один за другим поднимались бунты. В 1284 г. обрушились своды собора в Бове, достигавшие 48 метров. Прекратилось строительство соборов в Нарбонне, Кельне, Сиене. О новых соборах уже не думали. Недород, голод. Ангелы, покидая наш мир, отряхивали пыль со своих ног. Улицы заполонили слепцы с бельмами или дырами вместо глаз (Брейгель ничего не сочинял), калеки, горбуны, хромые, паралитики. Наконец, в 1348 г. пришла черная смерть – чума. Далеко на горизонте замаячила эпоха Возрождения, когда человек обожествил самого себя, эпоха с инквизицией (почему‑то думают, что людей жгли в «мрачную эпоху средневековья»), папами‑отравителями и тому подобными прелестями.
Однако не будем о грустном. В конце концов Божьей милостью нам дано выбирать время, в котором нам жить, поэтому вернемся к нашим соборам. Так вот, конструкция готического собора такова, что по мере восхождения находящихся в нем он утончается сначала в кружево, потом в паутину. Кружево – воистину красота, «начало того ужасного, которое еще способна вынести наша душа». Но еще более утончаясь, красота рождает священный трепет, паутину с пауком в центре. Паук с его непрерывным плетением паутины и стремлением к убийству обеспечивает «непрерывную жертву, которая является формой непрерывной трансмутации человека на всем протяжении его жизненного пути» (Х. Керлот), когда человек перематывает нити своей судьбы, – сматывает прежнюю жизнь и прядет новую, потому боящийся смерти, по существу, боится новой жизни, на пороге которой он находится.
Получается, что незримый храм почти всегда пуст, в зримом же постоянно толкутся мнози. «Ужас овладевает мной при виде нечестивых, оставляющих закон твой» (Пс. 118, 53).
Немногие для вечности живут,
Но если ты мгновенным озабочен –
Твой жребий страшен и твой дом непрочен.
(О. Мандельштам)
Страшен жребий не живущих для вечности. Они пища для нездешних сущностей, в некоторых традициях именующих себя богами, – чудовищ, скрытых до поры до времени от нашего взора. Как свиней в загоне, как кур, вскармливают они свои жертвы.
Вот и японец говорит:
Плетеная клетка,
где куры, набившись битком,
живут на откорме, –
таким представляется мне
наш благополучный мир…
(Кагава Кагэки, пер. А. Долина)
Только живущий для вечности несъедобен. Его благоухание отпугивает чудовищ.
Конец света – безусловная катастрофа для тех, кто живет во времени. Рецепт спасения единственный – постепенно переносить тяжесть (или легкость) своего «я» сначала на душевный, а потом на духовный план. Для этого обретают в себе храм, «ковчеже, позлащенный духом», делают его явленным.
«Опыт – критерий истины» – сказано правильно. Опыт подсказывает нам, что не каждый человек обладает душой. Душа – жемчужина, которая есть в раковине или которой нет. Чтобы убедиться в этом воочию, осторожно приоткрываешь створки. И радуешься или в страхе убегаешь. Потому что человек (именно человек, а не, допустим, собака, с которой все не так просто), не обладающий душой, – существо чрезвычайно опасное.
С духом сложнее. Он подобен саду (райский сад – аналог духа), его взращивают. И тут – хорошо это или плохо, судить не берусь, – нужны единомышленники. Один сажает, другой поливает, третий окучивает. Нужна церковь уже не как здание, а невидимая Церковь истинно верующих. «Я ходил в твой храм, Господи», – скажут многие, когда придет время. «Изыдите, не видел я вас в Храме своем», – проречет Господь.
Перефразируя древнее изречение, скажем: жизнь – ложь, смерть – неправда, но за пределами жизни и смерти есть выход. Другими словами, за пределами жизни и смерти существует некий источник бытия, для приобщения к которому необходима метанойя – изменение сознания. Цель – достижение состояния, когда вопрос о вечной жизни лишается смысла, поскольку преодолевается само противопоставление жизни и смерти. Христос победил смерть не как один силач другого, а как большее объемлет, вбирает в себя меньшее. «Обретенье смелости Божью зреть лазурь» приходит через осознание того, что
Все, что мы побеждаем, малость,
Нас унижает наш успех…
(Рильке)
Даже успех в том, что мы полагаем приближением к Богу.
Входя в обитель Бога, мы вступаем в полумрак, который путем внутреннего усилия или насилия над собой следует преобразовать в полную тьму. Достигается это через любовь к Богу, который предполагается несуществующим. «Через воздействие темной ночи Он удаляется от нас, чтобы Его не любили той любовью, которой скупой любит свое сокровище… Если мы любим Бога, считая Его несуществующим, Он проявит свое существование» (С. Вейль).
Первый шаг на пути обретения духовной жизни – нисхождение в ад, «нигредо» в алхимической терминологии, погружение в космическую ночь, в чрево земли. Здесь зарождается «тело славы»– «атрибут существа высшего порядка».
Пусть никого не смущает обращение к алхимическому языку применительно к нашей теме. Давно показано, что язык готических соборов есть в первую очередь язык алхимии. Фулканелли само выражение art gothique (арготик – готическое искусство) возводит к слову «арго». Арго – «особый язык для тех, кто хочет обменяться мыслями, но так, чтобы окружающие их не поняли». Арго – одна из производных форм Языка Птиц, праязыка, основы всех других. Тогда получается, что готический собор – произведение готического искусства – есть произведение на арго. Соборы в плане имеют форму креста, но крест, как отмечает Фулканелли, – алхимический иероглиф тигля. «В тигле первоматерия, подобно Христу, претерпевает мучения и умирает, чтобы воскреснуть очищенной, одухотворенной, преображенной». В тигле нашего внутреннего собора преображается наша душа. Или не преображается и навеки уже пребывает в аду. Впрочем, пребывание в аду лучше дурного небытия (по аналогии с дурной бесконечностью). Многие живут в аду – и ничего, притерпелись.
Для трехчастного человека, состоящего из тела, души и потенциально духа, вступление во мрак – самоистребление, уподобление себя черному остатку на дне алхимического сосуда. Многим сходящим в ад кажется, что они спускаются туда добровольно. Пусть так, лишь бы это не приводило к гордыне, однако даже Данте нуждался в Вергилии.
Хуан Креста различает ночь чувств и ночь духа. И если вступить в ночь чувств относительно просто, то ночь духа для не взрастившего дух гибельна, и многие почитатели священного знания гибли или сбивались с пути в самом его начале.
«Божественный Мрак, – пишет Дионисий Ареопагит, – это тот неприступный Свет, в котором, как сказано в Писании, пребывает Бог. А поскольку невидим и неприступен Он по причине своего необыкновенного сверхъестественного сияния, достичь его может только тот, кто, удостоившись боговедения и боговидения, погружается во Мрак, воистину превосходящий ведение и видение, и, познав неведением и невидением, что Бог запределен всему чувственно воспринимаемому и умопостигаемому бытию, восклицает вместе с пророком: “Дивно для меня ведение Твое, не могу постигнуть Его”».
С появлением витражей потоки света хлынули внутрь готических соборов, и этот свет воспринимался не как свет звезд («я ненавижу свет однообразных звезд») и не как свет солнца, а как свет метафизический. Разрабатывается средневековая метафизика света. Красота воспринимается как запредельный свет, как знак благородства. Собор как бы делал видимым Божественный Мрак Дионисия Ареопагита. И у Данте рай – это восхождение к Свету.
Элиаде называет этот процесс спонтанной люминофанией. Погружение в сверхъестественный свет преображает любое живое существо. Оно достигает иного уровня существования и получает доступ к высшим мирам.
Теперь мы приближаемся к деликатной теме, деликатной для всех почитателей Девы Марии, к которым автор статьи причисляет и себя. Дело в том, что одна из священных реликвий Шартрского собора, главного героя романа Гюисманса, один из древнейших объектов паломничества – подземная Дева Мария, одна из так называемых Черных Мадонн. Собственно, в Шартрском соборе две Черные Мадонны, одна из которых находится в крипте, потому и называется подземной, другая снаружи. Черные мадонны встречаются, пусть редко, по всей Европе, больше всего их на юге Франции. Эти статуи соответствуют всем канонам изображения Богоматери и отличаются только цветом. Хронисты свидетельствуют, что Шартрская Богоматерь изначально была старинной статуей Исиды, изваянной еще до Иисуса Христа. Впрочем, ту статую разбили и заменили новой.
Дева – шестой знак Зодиака. У египтян он отождествлялся с Исидой и являлся символом души. Как отмечает в «Словаре символов» Керлот, она часто изображалась в виде «печати Соломона (два треугольника, представляющих огонь и воду, наложенных друг на друга и пересекающихся таким образом, что они образуют шестиконечную звезду). В мифологии и религиозных учениях вообще данный символ ассоциируется с рождением бога». И Мария, и Исида равно символизируют Деву, рождающую Бога. Надпись «Virgini partiturae» (Деве, имеющей родить) встречается под скульптурными изображениями и одной и другой.
Комментируя начало католического гимна, Ф. Шуон пишет: «Мария есть чистота, красота, доброта и скромность католической субстанции: микрокосмическим отражением этой субстанции является душа в состоянии благодати… Эта чистота – состояние Марии – является существенным условием… для духовной актуализации реального присутствия Слова».
Радуйся, лествице небесная, ею же сниде Бог…
Радуйся, мосте, преводящая сущих от земли на небо…
Радуйся, каменю, напоивший жаждущия жизни…
Радуйся, огненный столпе, наставляя сущия во тьме…
Радуйся, кораблю хотящих спастися…
Радуйся, луче умного Солнца…
Радуйся, светило незаходимого Света…
Эти слова православного акафиста, обращенные к Пресвятой Богородице, суть не поэтические метафоры, а определения предмета, по природе своей не поддающегося определению. Это описание мира, где «камень, напоивший жаждущия жизни», есть в то же время «корабль хотящих спастись».
Христиане многое заимствовали из иконографии Исиды для изображения Богоматери. Это утверждение вызывает злорадную ухмылку одних и яростное неприятие других. Последние полагают, что они защищают Божью Матерь, вряд ли нуждающуюся в их защите. Невозможно оспорить, что изображение матери и младенца утвердилось в культе Исиды, что Звездою моря и Царицей неба прежде называли Исиду, что сперва Исиду, а потом уже Марию изображали стоящей на полумесяце или со звездами в волосах. Предлагают роман Гюго переводить по‑другому, не «Собор Парижской Богоматери», потому что Notre‑Dame на самом деле не мать Христа.
Позволю себе заметить, что «самого дела» на самом деле никогда не было, что приведенные выше рассуждения ничуть не умаляют Деву Марию, что женское начало мира принимает различные образы, так как в силу своей немощи мы нуждаемся в образах, и Богоматерь – прекраснейший из них, ведь «Бог есть красота, и Бог любит красоту».
Мария – луч света, по которому мы карабкаемся вверх, где Марии уже нет. Как, впрочем, и Исиды. Но потерявший Марию Марию в конце концов обретает. Или Беатриче. «Что в имени тебе моем?»
Чем еще знаменит Шартрский собор, так это своим лабиринтом. С лабиринтом вообще все не так просто. Лабиринт связан с символикой инициатических организаций, создававших соборы. Задача лабиринта – указать путь в центр мира избранным, обладающим знанием, и создать препятствие на этом пути людям случайным, лишенным достоинств, необходимых для победы над смертью.
Идея прохождения лабиринта, как отмечал Генон, сродни идее паломничества к духовному центру, который является Святой Землей в широком смысле слова. Часто, однако, символический язык заменялся буквальным. Так, в Аррасе верующие ползли по лабиринту на коленях с молитвами на устах, пока не добирались до цели, так что весь их путь занимал около часа.
Лабиринты встречаются не только в церквах, но и в алхимических манускриптах и являются «частью мистических традиций, связанных с именем Соломона». Тот факт, что с XVIII и до конца XX в. лабиринт в Шартрском соборе был заставлен стульями как нечто второстепенное, наглядно свидетельствует о глухоте современного человека к традиционной символике.
Шартрский лабиринт самый крупный, его диаметр – около 12 метров. Лабиринт насчитывает одиннадцать концентрических кругов, общая длина пути по лабиринту – приблизительно 300 метров. В его центре цветок с шестью лепестками, контуры которого напоминают розы собора. Другое название для окна‑розы – Rota, или колесо, а колесо, согласно Фулканелли, алхимический иероглиф времени, необходимого для варки философской материи – процесса, представленного, в частности, на северном портале Шартрского собора. В то же время эти окна – блестящий пример концентрических мандал, которые через определенные ментальные состояния приводят к созерцанию и концентрации. По сути дела, мандала – аналог лабиринта, она одновременно и путь к центру, и сам этот центр. Неудивительно, что в Шартрском соборе она представлена лабиринтом внутри лабиринта. В то же время роза как таковая – символ скрытого центра, находящегося за пределами нашего мира. Визуализация этого центра как цели путешествия способствует его обретению, упорядочению Хаоса посредством любви как единственного созидательного начала.
В США, в Нью‑Хармоне, штат Индиана, возвели гранитную копию лабиринта Шартрского собора в натуральную величину. В соборе в Шартре убрали наконец стулья. Появилось много книг о лабиринтах (так, название одной из них: «Священная дорожка: новое обращение к лабиринту как инструменту духовного совершенствования»). Того и гляди, толпы неофитов поползут к центру Мира, что не может не настораживать.
Автор «Собора» Гюисманс – писатель удивительный. Его произведения – своеобразные энциклопедии, где каждая тема, к которой он обращается, рассматривается подробно, со всей дотошностью. Настоящий компедиум знаний, характерный, скорее, для времени Исидора Севильского, Климента Александрийского. Для нового времени редкость.
Желающий просветить себя во всем, что касается символики драгоценных камней, литургического садоводства, мистического значения запахов, может смело обращаться к «Собору».
«Во всех минералах заключен знак и смысл, а другими словами, символ, – пишет Гюисманс, затрагивая одну из таких тем в предисловии к новому изданию романа «Наоборот». – Под этим углом зрения их и воспринимали с самых давних времен. Правда, в наши дни образный язык гемм, составлявший неотъемлемую часть христианской символики, напрочь забыт и мирянами, и монахами. Я попытался в общих чертах восстановить его в книге о Шартрском соборе».
Собственно, вся книга посвящена благородной цели восстановления утраченного знания, которое современный человек бездумно выбрасывает за борт на своем пути в никуда. Так, обращаясь к литургическому садоводству, Гюисманс, как крупицы золота, вкрапляет в свой труд сведения из не самых популярных сегодня источников – трудов святой Хильдегарды, святого Мелитона, святого Евхерия.
Раскрывает Гюисманс и мистическое значение запахов, подробно останавливаясь на церковных благовониях – ладане, миро, фимиаме, описывая, в частности, приготовление фимиама в библейской книге Исхода. Оказывается, «приготовляется он из стакти, халвана душистого и ониха». На случай, если кто‑нибудь из читателей по рассеянности запамятовал, что такое оних, Гюисманс заботливо поясняет, что это не что иное, как оперкула (кто бы сомневался!), «хрящик, служащий для того, чтобы закрывались створки моллюска». Моллюск этот (естественно!) «из семейства иглянок и обитает в индийских водоемах».
После выхода романа «Наоборот» проницательный Барбе д’Оревильи заметил, что после такой книги автору остается одно из двух – либо удавиться, либо уверовать. Гюисманс не удавился. Судьба свела его с траппистами, монахами Нотр‑Дам де ля Трапп, аббатства в Нормандии, основанного бенедиктинцами – монахами ордена с весьма строгим уставом. Орден проповедует молчальничество, созерцание, простоту жизни, вегетарианство и уделяет большое значение литургической молитве.
Гюисманс долгое время живет послушником вблизи бенедиктинского монастыря. Создает романы «На пути», «Собор» и, наконец, «Историю святой Лидвины».
Перед смертью Гюисманс претерпел много страданий, у него была редкая болезнь – рак языка, который в конце концов и свел его в могилу.
Мы же, пока живы, отнесемся к его трудам с должным вниманием.
В. Каспаров
Жорис Карл Гюисманс
СОБОР [1]
Роман
Patri, amico, defuncto
Gabrieli Ferret presbyt. s. s.
Moeste filius, amicus
J.‑K. H. [2]
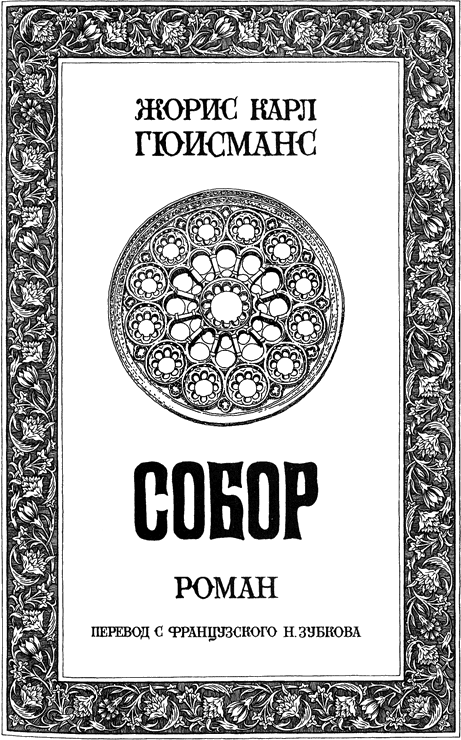
I
В Шартре, на углу маленькой площади, где вечно метет пыль сердитый равнинный ветер, в тот миг, когда вступаешь под величественную сень теплого леса, тебя обдувает тихий, еще умягчаемый нежным, придушенным запахом елея, дух подземелья.
Дюрталь хорошо знал этот дивный момент, когда переводишь дыхание и не можешь оправиться, потому что в воздухе пронзительный ледяной ветер внезапно сменяется бархатной лаской. Каждое утро в пять часов он выходил из дома, и путь его к подножью диковинной чащи лежал через эту площадь; в одних и тех же улицах каждый раз мелькали фигуры одних и тех же людей: монашки склоняли головы под взлетающими и хлопающими накидками, все нагибались вперед, еле придерживали надутые ветром юбки; проходили под бичующими шквалами какие‑то сморщенные, сгорбленные женщины, обхватившие себя руками, чтобы не парусила одежда.
В такой час он ни разу не видел никого, кто держался бы с достоинством, шел бы, не вытянув шею и не опустив лица. В конце концов все эти женские фигуры соединялись в две цепочки: одна сворачивала налево и скрывалась из виду за освещенными воротцами, стоявшими ниже уровня площади; другая тянулась прямо вперед, проходя через невидимую черную стену.
В конце колонны поспешали припозднившиеся клирошане – одной рукой подхватив вздувшиеся, как воздушные шары, подолы, другой придерживая шляпы, они приостанавливались, чтобы подхватить выскользнувший из‑за пазухи служебник, вытирали лицо, засовывали книгу обратно и вновь устремлялись головой вперед против рожна северного ветра; уши их покраснели, глаза слезились; в дождь они отчаянно цеплялись за зонтики, а те рвались вверх, чуть не отрывали их от земли, крутили и волочили во все стороны.
В это утро идти было еще трудней обычного: буря из тех, что проносятся через Бос, не имея перед собой препятствий, уже много часов завывала без перерыва: шел дождь, под ногами хлюпали лужи, ничего не было видно; Дюрталю казалось, что он никогда не доберется до туманной массы стены, перегораживающей площадь, и не толкнет калитку, за которой начинался укрывавший от ветра диковинный лес, приятно пахнувший ночником и склепом.
Он облегченно вздохнул и пошел по широченному проходу, тянувшемуся в полутьме. Дорогу он знал, но по аллее меж огромных деревьев, чьи вершины терялись в высоте, ступал осторожно. Казалось, ты в оранжерее, под глухим куполом черного стекла: идешь по каменной мостовой, а над тобой ни просвета, ни ветерка. Даже несколько звездочек, мерцавших вдалеке, не имели отношения к небосводу: они трепетали над самой дорогой, фактически на земле.
В этой тьме и слышен был только тихий звук шагов, и видны лишь безмолвные тени, рисовавшиеся на сумеречном фоне темными линиями ночи.
В конце концов Дюрталь доходил до другой большой просеки, наперерез прежней. Там стояла скамейка, прислоненная к древесному стволу; он опирался на нее и ждал, когда проснется Матерь Божья, когда возобновится сладостное присутствие, прерванное с темнотой накануне.
Он помышлял о Богородице, Чье неусыпное попечение столько раз удерживало его от неосторожного риска, от соблазнительных ошибок, от грандиозных падений. Не Она ли Кладезь добра бездонный, Подательница даров терпения, Привратница затворенных сухих сердец; не Она ли прежде всего наша Матерь деятельная и благодеющая?
Всегда склонясь над убогим ложем душ, Она омывает язвы, перевязывает раны, укрепляет немощь и томление кающихся. В веках Она остается молящейся и молимой, милостивой и благодарной: милостивой к облегчаемым Ею злополучьям, но им же и благодарной. Ведь Она и вправду в долгу у грехов наших, ибо, не согреши человек, Христос не родился бы в зраке раба и Она не стала бы Пренепорочной Матерью Божьей. Наша беда для Нее была начальной причиной Ее радостей, и это, несомненно, самое поразительное чудо: высшее Благо, исшедшее из самой безудержности Зла, трогательная, однако непостижная связь, соединяющая нас с Нею: ведь благодарность Ее могла бы показаться излишней; ведь и милости Ее неистощимой было бы довольно, чтобы навеки нас к Ней привязать.
А затем в прещедром Своем смирении Она предала Себя множествам людей; в разные времена Она являлась в самых разнообразных местах, то возникая как бы из‑под земли, то проносясь над безднами, спускаясь с неприступных горных вершин; за Ней влеклись толпы, и Она исцеляла их; потом, словно утомившись от посещения множества мест поклонения, Она, видимо, пожелала установить одно‑единственное, и все прежние Ее уделы почти опустели ради Лурда.
Этот город в XIX веке стал Ее второй остановкой во Франции. Первая была в Ла‑Салетт{1}.
Так много с тех пор воды утекло… 19 сентября 1846 г., Ей посвященный, Пресвятая Дева явилась на горе двум детям; была суббота – день поминовения Богородицы, а в тот год еще и постный по случаю начала осени. Еще одно совпадение: то был день перед праздником Божьей Матери Семи Скорбей, и как раз начиналась первая праздничная вечерня, когда Дева Мария возникла над землей, облеченная светом.
Она явилась средь этой пустынной природы, на непреклонных скалах, на печальных горах, как Мадонна Плачущая; рыдая, Она произносила слова упреков и угроз, и с той поры источник, с незапамятных времен пробивавшийся лишь при таянье снегов, течет непрерывно.
Отзыв на это явленье был огромен; множества людей в исступленье карабкались по страшным тропам на высоту такую, где уже и деревья не растут. Бог знает как, туда над бездной препровождали караваны недужных и умирающих, что пили эту воду, и под пенье псалмов покалеченные члены срастались, опухоли рассасывались бесследно.
Затем состоялись невнятные прения некрасивого судебного процесса, и постепенно, не сразу, мода на Ла‑Салетт пошла на убыль; паломников стало меньше; чудеса случались все реже и реже. Словно Богородица ушла оттуда, словно Ей надоел этот источник милости и самые эти горы.
Сейчас туда почти никто не ходит, кроме жителей Дофине да туристов, заплутавших в Альпах, да еще больные, приехавшие по соседству на Мотские минеральные воды, совершают восхождения в Ла‑Салетт; обращений и духовных даров там и теперь довольно, но исцелений почти не бывает.
В общем‑то, размышлял Дюрталь, явление в Ла‑Салетт прославилось, но непонятно, каким, собственно, образом. Можно так себе это представить: сначала слух утвердился в деревушке Кор у подножья горы, распространился по всему департаменту, заполонил окрестные провинции, оттуда проник во всю Францию, выплеснулся за границу, растекся по Европе и, наконец, пересек океан и достиг Нового Света, который тоже поколебался и двинулся в горную пустыню воззвать к Приснодеве.
А условия для паломничества там таковы, что и самый упорный может отчаяться. Чтобы добраться до гостиницы, прилепившейся к церкви, приходится часами терпеть неспешный шум колес, то и дело пересаживаться, целыми днями томиться в дилижансах, ночевать в харчевнях, кишащих блохами, а затем, исколов всю спину железными гребнями чудовищных тюфяков, приходится спозаранок начинать безумное восхождение пешком или верхом на муле по извилистым дорогам над пропастями; когда же дойдешь до места, не найдешь ни сосенки, ни лужка, ни ручья: ничего, кроме полной тишины, не тревожимой даже птичьими криками – на такую высоту уже и птицы не залетают!
Что за места! – раздумывал Дюрталь, припоминая свою поездку туда по возвращении от траппистов вместе с аббатом Жеврезеном и его домоправительницей. Он вспомнил, как перепугался по дороге между Сен‑Жорж‑де‑Комье и Ла‑Мюр, как чуть с ума не сошел, увидев, что вагон медленно катится прямо по краю бездны.
Внизу в бездонные колодцы уходила тьма, закручиваясь спиралями; вверху, куда ни кинешь взгляд, поднимались к небу горные кряжи.
Поезд шел в гору, пыхтел, закручивался волчком, спускался в туннели, зарывался в землю, словно проталкивая вперед себя дневной свет, выныривал под кричащее солнце, возвращался назад, погружался в новую дыру, опять выскакивал, пронзительно свистя и оглушительно грохоча колесами, бежал по желобку, пробитому прямо в скале на горном склоне.
И вдруг остроконечные вершины расступились, огромный просвет затопил поезд яркими лучами; со всех сторон явился поразительный страшный вид.
– Глядите: Драк! – воскликнул аббат: на дне пропасти виднелась колоссальная текучая змея; она ползла, извиваясь, меж скал, как меж челюстей бездны.
И впрямь иногда змея словно поднималась, набрасывалась на утесы, а те хватали ее клыками, и вода, отравленная укусами, совершенно менялась: из стальной становилась белесой, пенистой, как мучной отвар; потом Драк вновь бежал быстрее, прорывался через темень ущелий, отдыхал, развалясь, на солнышке, вскакивал опять; от него отлетали чешуйки, похожие на радужную пенку застывающего свинца; он пластал свои кольца все дальше и дальше, затем наконец пропадал, сбросив кожу, оставив за собой на земле белую шелуху камней да выползину высохшего песка.
Перегнувшись через вагонную дверцу, Дюрталь свешивался прямо над провалом; поезд полз по узкой одноколейке, одним боком прижимаясь к каменным глыбам, другим накренясь над пустотой. Господи, думал Дюрталь, а вдруг он сойдет с рельс? – мокрого же места не останется!
Когда же поднимешь голову, не меньше чудовищной глубины бездны устрашал вид вершин, бешено, отчаянно наперегонки гнавшихся ввысь. Решительно ты был подвешен между небом и землей, а почвы, по которой ехал, видно не было: вся она скрывалась под габаритами вагона.
Так он и катился по воздусем на головокружительной высоте, по нескончаемым балконам без парапета; внизу утесы сваливались лавиной, обрывались, отвесные, нагие, без травинки, без деревца; по временам они казались прорубленными в буреломе каменного леса, иногда же вырезанными в безлиственных сланцевых кучах.
А кругом открывался амфитеатр бесконечных гор, закрывавших небо, громоздившихся друг на друга, перегораживавших путь облакам, тормозивших поступь неба.
Одни, с зубчатыми серыми гребнями, напоминали громадные кучи устричных раковин; пирамидальные вершины других, зеленых до пояса, пузырились, как спекшиеся угольные отвалы. На них топорщились хвойные леса, нависавшие над пропастями, перерезанные белыми крестами дорог, там и сям усеянные, словно елочными игрушками, деревеньками с красными кровлями и овчарнями, что неведомо как держались на склоне, готовые сорваться кубарем вниз, в беспорядке разбросанные по зеленым коврам, привешенным к склонам. Были и такие горы, что торчали подобно огромным окаменелым скирдам; их полупотухшие кратеры еще грезили пожарами, курились большими тучами, словно вырывавшимися прямо из остроконечных вершин.
Зловещий вид… Глядя на него, становилось не по себе – оттого, быть может, что он извращал заложенную в нас идею бесконечности. Небесная твердь становилась лишь приложением, отбрасывалась, как хлам, к ненужным вершинам гор, бездна же становилась всем. Она уменьшала, съеживала небо, подменяла сияние вечных пространств великолепием своей глубины.
И вправду: глаза раздраженно отворачивались от неба, утратившего бездонность, ибо горы доставали до него, проникали в него, несли его на себе; они рвали его в клочки, перепиливали щербатыми зубьями верхушек, от голубизны оставляли одни лишь крохотные лоскутки, от облаков одни ошметки.
И взор поневоле притягивался пучиной, и тогда голова кружилась, пытаясь исследовать эти безмерные провалы в ночь. И превращение бесконечности, убранной сверху и перенесенной вниз, становилось ужасно!
«Драк, – рассказывал аббат, – один из самых опасных горных потоков во Франции; теперь мы видим его спокойным, почти пересохшим, но когда приходит время ураганов и снежных бурь, он просыпается, бурлит серебристой лавой, свистит, волнуется, пенится и скачет, поглощая хутора, срывая запруды».
Он отвратителен, подумал тогда Дюрталь; эта река желчи, должно быть, рождает лихоманку; гнилая река, порченая: взять и эти мыльные лужи, и стальной ее отлив, и обрывки радуги, свалившиеся в грязь.
Теперь Дюрталь оживлял в памяти все подробности, закрыв глаза, вновь видел перед собой и Драк, и Ла‑Салетт. О, думал он, есть за что похвалить паломников, дерзающих отправиться в эти унылые места помолиться на самом месте явления; ведь там их сбивают в кучу на площадке величиной не больше площади Сен‑Сюльпис; с одной стороны стоит церковь из неотесанного мрамора, обмазанная горчично‑желтой шпаклевкой из Вальбонне, с другой кладбище. Виды? – лишь сухие пепельные конические пики, камни, ноздреватые или покрытые коротенькой травкой; выше – вечные снега, остекленевшие ледяные глыбы; идешь по выщипанной лужайке, словно молью траченной, с песчаными пятнами; одним словом, про эти места можно сказать: парша природы, прокаженный пейзаж!