Елена Павловна Серебровская
Братья с тобой
Маша Лоза – 3

Елена Павловна Серебровская
Братья с тобой

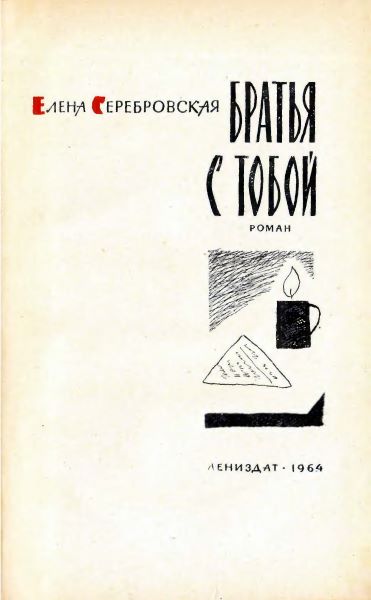
Памяти Юрия Серебровского
Глава 1. Началось
Солнышко! Песня моя!
Песня жизни моей рождалась повсюду: где‑то далеко в синем небе, и в зеленой листве берез, и в словно звенящих от зноя проводах телеграфных столбов, и в дзиньканье, тиньканье крошечной белощекой синички. Песня эта рождалась далеко за рекой, в чужом селе, она собиралась по слову отовсюду, со всего света. Музыка ее отстаивалась в ярком, густеющем небе летних вечеров, в зарослях высокой цветущей травы, где каждая травина цвела и благоухала по‑своему. Но без тебя, любимый, не было б песни.
Всем людям на земле, всему свету рассказать бы о тебе, любовь моя! Нет, нельзя, не положено, не принято, – и я молчу, когда ты входишь в комнату, только щеки мои вспыхивают как спелые яблоки, только ресницы опускаю пониже. Ты входишь в комнату, – а я молчу, смирно стою, словно так и надо, словно ничего не случилось, словно не чудо вошло сюда. Жизнь моя!
Вот он здесь, рядом, такой, какой нужно. А когда познакомились, он был другой – диковатый, замкнутый, неуверенный в себе. Не знал, как подойти к ней, смотрел как‑то жалобно, даже когда предложение делал. Она приучила его к себе. Но, узнав его привычки и свойства натуры, она тоже переменилась, приспособилась, не пыталась ломать и менять в нем всё подряд. А сейчас – сейчас их и помыслить нельзя друг без друга.
И вдруг Маша испугалась. Она вообразила на миг, что кто‑то хочет у нее отнять ее любовь, ее Костю. Нет, без него всё кончилось бы, она не могла бы даже дышать без него. Но боже ты мои, зачем такие мысли, если он – вот тут рядом, и родная рука его – под ее шеей, и шея даже немножечко затекла, заныла от этого, но Маша боится убрать руку, боится разбудить его, милого. Пускай слит.
Рассветает. Белые ночи еще не отошли, еще туманят глаза, еще гонят на улицы и набережные Невы молодых ленинградцев…
В окошке – кусок зеленоватого июньского неба. Резко выделяются силуэты герани и филодендрона. Посреди комнаты – наскоро убранный стол с пустыми бутылками, меж них – корзина с розами и нарциссами и большая коробка, перевязанная голубой ленточкой. А на коробке, у пустых бутылок от шампанского, – крошечные коричневые ботиночки. Чьи это такие? Не Зоины, – у Зои ножка побольше. Ах, это его, мальчика, за которого вчера пили. Маленького мальчика с Костиными глазами и бровями, с таким же резким, хорошо вылепленным носиком… Это ботиночки того мальчика, который появится месяцев через пять…
Стол этот – след свадебного пиршества. Наконец‑то они отпраздновали свадьбу, и гостей позвали, честь честью. Нельзя же, в конце концов, – они уж года два как женаты, и Машины подруги заявили, что она просто хочет «замотать» свадьбу и скрыться в неизвестном направлении. Направление, правда, хорошо известно – Дальний Восток. Ну вот и устроили. И Костя, ее тихий, скромный Костя, сказал, что раньше ему не приходило в голову смотреть серьезно на всё это дело, а теперь, когда его «малышка», говоря попросту, брюхата, теперь он, как порядочный человек, хочешь не хочешь, женится… Это Костя‑то! Все со смеху чуть не умерли. А ей пришлось только руками развести, – мол, все мужчины одинаковы.
Милые люди гости, но как хорошо, что они наконец уходят… Костя еле дождался, пока она вымоет посуду, – завтра воскресенье, успелось бы. Взял полотенце, помогал вытирать. А потом загреб ее по‑медвежьи на руки и уложил в постель. Постель показалась им белой лодкой, на которой предстоит уплыть в какое‑то сказочное путешествие. Куда – это точно неизвестно, но торопиться не надо. И бояться ничего не надо, и думать ни о чем не надо. Да и не думается. Только видишь дорогие черты, смотришь и всё не насмотришься досыта, дышишь и всё не надышишься.
Сейчас, когда Костя спит, Маша думает. Она думает о том, что счастье – это очень простая штука, и в то же время – не простая. Кто они? Мужчина и женщина, которые поженились по любви и ждут ребенка. Только и всего. Этого счастья заслуживают все, и должно быть оно доступно всему человечеству. Оно – вовсе не цель жизни, а всего лишь ее желательное условие. Когда есть это счастье – всякое дело удается, и на мир смотришь радостными глазами, и можешь так много! Ведь цветут же деревья, и кустарники, и цветы, и травы? Цветет и человек. Это и есть любовь.
Она тихонько приподняла голову, чтобы взглянуть на часы. Старинные деревянные часы с маятником висели над ее маленьким письменным столом, на них было уже около двенадцати, – однако, заспались! Под часами висел календарь, – вчера вечером забыли листок оторвать, там всё еще двадцать первое, суббота, а ведь уже воскресенье. Через месяц им ехать на Дальний Восток, куда Костю направили работать преподавателем университета. Ну и она с ним, жена. Материалы для своей диссертации она почти все собрала, кое‑что уже писать начала, допишет во Владивостоке. А сегодня надо будет в Вырицу съездить, Зоеньку навестить, – она там на даче с детским садом. Хорошо там крохам, – домики их стоят среди толстых огромных сосен, детские стулья и столики кажутся просто игрушечными. Хорошая штука – детский сад. И платить недорого. А как приятно брать детишек домой, встречать их после рабочего дня! Это всё – новое, это – для нас, вот для нас именно устроено Советской властью, для таких самых обыкновенных, как мы.
Пора уже было подниматься, но Костя блаженно спал, – жалко будить. В комнате пахло цветами, – пышные букеты сирени красовались на этажерке, маленьком столе, на подоконниках. Такие ленивые, нежные, томные цветы, шапки живых венных кружев, хлопья прохладного аромата… Подарены им на свадьбу. Маша и сама никогда не жалела денег на цветы, и в студенческие годы тоже – покупала ромашки, что‑нибудь подешевле, но без цветов не могла. Зимой в ее комнате всегда пахло сосной или можжевельником. А первые ветки с просыпающимися пухлыми почками, которые стреляют зеленым огнем, – у Маши в комнате они всегда появлялись ранней весной.
Костя потянулся, шевельнул рукой и обнял жену, поворачивая ее лицом к себе. Он не поцеловал ее, а только взглянул по‑хозяйски, убедился – тут она, та самая, никто не отнял. Убедился, что всё в порядке, и мысли его сразу перешли в мир деловых забот, к китайским книгам (Костя занимался историей Китая), к тому, что вот заспались, уже поздно, а надо бы успеть еще съездить в Публичку, если Маша отпустит, – вчера она очень просила его не работать, а съездить с нею на дачу к Зое…
В соседней комнате послышались голоса. Это были чуть приглушенные голоса родных – Машиного отца, матери, младшего брата. И чей‑то чужой, – кажется, соседки Нины Ивановны: «А вы разве не слыхали? Включите радио…»
Что это случилось?..
Маша смотрела и ничего не видела, словно ослепла. Куда делись все эти тихие маленькие вещи – часы, календарь, детские ботиночки среди следов пиршества? Пропасть пустота хлынула в душу – война, война, война, гитлеровцы вероломно напали на нас…
Случилось… Ах, всегда этого следовало ждать от них… Но одно – ждать, другое – случилось… Уже летят сотни самолетов, уже стреляют, уже льется кровь. Что же будет?
В ужасе прижалась она к мужу, словно пряча себя и свой еще маленький живот, где, ничего этого не зная и ни с чем не сообразуясь, уже началась едва заметная жизнь нового человека, еще одного побега на могучей ветви рода людского.
Мгновенно одевшись. Костя открыл дверь, чтобы слышать всё самому. Маша вышла с ним вместе, не смея взглянуть в лица близких. Известие о начале войны было страшнее, чем весть о смерти кого бы то ни было.
Когда радио стихло. Костя взял Машу за руку, пожал ее ласково, словно успокаивая, и сказал:
– Ну, я пошел.
– Куда?
– В военкомат, куда же еще.
Вот оно, совсем уже рядом. Нехитрое счастье ее уже задето, над ним уже пикируют бомбовозы… Многого ли просила она у судьбы? Только самого простого, необходимого. Нельзя. Счастье уже – мечта, воспоминание. И даже непозволительное. Потерять Костю? Но если даже и так – дешево ты думаешь отделаться, женщина! Ты рискуешь потерять свободу, все свои права, родину. Нет, тут побольше ставка, пострашнее угроза. Что там твой маленький мир, тихая комната и привычные вещи! Война. Мир пошел на мир, система на систему. Тебе рассказывали об этом когда‑то на пионерских сборах, в фабзавуче, в университете? А теперь попробуй сама сообрази, что делать, как поступать. Теория кончилась, начинается практика.
Трудно поверить! Только что праздновали, веселились, наслаждались ароматом сирени, пили сухое молдавское вино. Только что водили по театрам и музеям краснощекую девочку со Смоленщины Клаву, которая гостила у них. Только вчера было мирное время…
Маша вспомнила о Клаве и забеспокоилась: Люся, Машина подруга, с маленькой дочкой и племянницей Клавой два дня как выехали в Смоленск. Что теперь будет Люся делать?
Когда‑то, еще в студенческую пору, Люся жила у них, училась в техникуме. Машина мама Анна Васильевна это сама предложила; Люся ей нравилась: такая рассудительная, разумная, – Маше было чему поучиться. Средства Люси были скудные, денег с нее не брали, а девушке хотелось чем‑нибудь отблагодарить семью Маши – и она пригласила Анну Васильевну с детьми на лето под Смоленск, к своей родне. Поехали, а потом понравилось и стали ездить чуть не каждое лето. Мордастенькая, краснощекая Клава росла буквально у них на глазах. В нынешнем году пригласили Клаву к себе, посмотреть Ленинград.
Клаве сейчас почти пятнадцать, а по виду можно и больше дать, – крупная, физкультурница, бой‑девчонка! С нею в доме снова стало шумно и празднично. Шум в этом доме полагался обязательно, а тут, как назло, старший брат Маши, геолог Сева, – в экспедиции, младший, Володя, поступил в морское училище, Зоя – на даче с садиком. Ну, тишина – хоть плачь! Клаве все очень обрадовались. А сейчас снова стихло, – два дня, как уехали в Смоленск. Что теперь Люся делать будет? Ведь война. Неужто не поспешит обратно, в Ленинград?
Но и в Ленинграде всё стало не так. Город изменился мгновенно. На окнах – белые бумажные кресты, никто не знает, зачем: если стекла вышибет взрывной волной, то бумага же их не удержит. Во дворах и скверах роют длинные ямы – траншеи, щели для укрытия. Находиться в них неприятно, – земля, похоже на могилу. Вечерами в небо взмывают огромные пузатые баллоны – аэростаты заграждения, их водят по улицам, как зобатых диковинных зверей, придерживая за канаты. Витрины магазинов закрывают мешками с песком. Памятники обкладывают такими же мешками – ряд за рядом, всё выше и выше, и вот уже видны только голова и плечи Медного всадника, только взвихренная грива его коня да одичало глядящий, словно озирающийся из‑под кучи мешков лошадиный глаз.
Всюду копают. И Маша копает, конечно, – роет укрытия. Костя прибегал недавно домой – в гимнастерочке с одним кубиком на петлицах, – младший лейтенант. Сказал, что их часть будет стоять во Всеволожской, можно навестить в воскресный день.
Из садика звонили – спрашивали, согласна ли Маша отправить Зою в эвакуацию. Нужны летнее пальто, зимнее пальто… Зачем зимнее? Война же кончится через месяц‑другой, война не может быть долгой. А они требуют зимнее пальто. Нет, не может она доверить им Зою. Бежать в слезах за автобусом набитым маленькими, совсем не добровольными путешественниками, которые в такую жару берут с собой зимнее пальто… Слезы, крики, испуганные, обиженные детские лица, – как же это мамы их бросают, за что? Нет, это свыше Машиных сил. Но что же делать?
Как‑то вечером прибежал Оська, старый друг, неудачливый поклонник, а в общем – хороший парень. В шелковой трикотажной бобочке, простоволосый, как всегда – патлатый, возбужденный. Только улыбки на лице не было. Вбежал, поцеловал Машу в лоб, отодвинулся и взглянул с сочувствием: «Ну что? Только что замуж вышла накрепко, младенца «запланировала», – как вдруг война. Не везет тебе и жаль тебя, хотя ты и помучила меня в свое время!»
Оська еще зимой сдал государственные экзамены, дипломную работу успел защитить в начале июня.
– Что делать думаешь, Машенька? – спросил Оська.
– Что делать? Свекровь уезжает в Ашхабад, предлагает Зою взять… Жалко расставаться, маленькая еще.
– А сама‑то?
– Я что, я отсюда никуда.
И тут Оська стал кричать, суматошно разводя руками и призывая всё человечество убедиться в глупости этой женщины. Что она, урода, что ли, родить собирается? Тут же бог знает что может быть. У Сестрорецка уже самолет подбили, воздушные тревоги каждый день. Эгоистка, думает только о себе, а каково ему, будущему человеку? Определенно родится урод, потому что нервную систему ему такая мать покалечит еще до рождения.
Маша слушала и не слушала. Она была избалована вниманием, – о ней заботятся, так и должно быть. Нет, уезжать она не собирается, она не трусливей других. До Ленинграда немцы никогда не дойдут. Ну побомбят постреляют, но, конечно же, не дойдут. Разумеется, жертвы будут. Но ведь здесь рядом Костя, его можно увидеть, он приголубит… И она же может быть полезна чем‑нибудь, она же не дармоед.
Оська шумел. И он убедил Машиных родителей, – они стали настаивать, чтоб Маша уехала.
– А сам ты что собираешься делать? – спросила Маша, чтобы прекратить бесполезные уговоры.
– Подал заявление, чтобы зачислили в танковую часть. Завтра на комиссию.
Он произнес это скромно опустив глаза, и в то же время молодцевато. В танкисты он надумал пойти только потому, что митинг в институте проводил танкист. Оська ревниво слушал, как ребята спрашивали, можно ли поступить именно в танковую часть. С митинга с ходу пошел в военкомат.
Он не рассказывал, что творилось у него дома. Мать – та просто плакала, пила валерьянку, снова плакала. – Оська ее очень любил, и слезы эти его терзали. А двоюродный брат Наум – тот возмутился. «Какой умный человек полезет на рожон? – спрашивал он. – Почему в танкисты? Это же надо выдумать! Оська только что окончил институт, он инженер, его посылают работать на хороший ленинградский завод «Красная заря», – пусть там и работает! Повестки же из военкомата не было. Смешно инженеру идти в строевики, да еще в танкисты! Чего ему нужно, спрашивается? Почему ему нужно больше всех?» Маму Оська жалел, – мама это мама. А Науму сказал: «Езжай‑ка ты отсюда подальше, хоть в Ташкент, там ты себя найдешь, снабженец несчастный, я не сомневаюсь». Пока еще Наума не призывали. Наум работал экономистом в пищеторге, он действительно был снабженец. Но на этот раз слово это прозвучало как ругательство.
К Маше Оська не просто зашел, – он прощался. Под конец он даже улыбаться стал, забрался в Зоечкин угол и всё перепутал – слона и лошадку усадил в плетеное креслице чай пить, куклу поставил на четвереньки, а маленького целлулоидного голышика привязал на ниточке под абажуром висячей лампы. Голышик был очень легкий, он долго кружился на нитке, заворачивая то вправо, то влево. Оська ходил по комнате и наводил беспорядок всюду – и на письменном столе, и на книжных полках. Несмотря на бодрый вид, состояние его духа бы то явно смятенное.
Никаких возвышенных речей он не произносил. Говорил что придется. Но мысли его были уже далеко от Маши и от огорчений, которые она ему причинила когда‑то давно. Оська думал: «Я ничем не хуже других, и это легко доказать. Как все. Как все они, бесчисленные простые ребята, у которых чувство родины сильнее чувства самосохранения».
– Знаешь, чем отличается человек от животного? – спросил он Машу, прощаясь.
– Что ты имеешь в виду?
– Многое. Я что‑то стал много думать над разными пещами, даже башка трещит. Народ у нас замечательный, Машка. А человек, между прочим, отличается и тем, что добровольно и сознательно идет на боль, если требуется. Человек соображает. А еще сильнее получается, если сразу сообразит тысяча человек – ты чувствуешь? Сила соображающего коллектива – это не арифметика, это бог знает что. Да.
И оба одновременно подумали о том, что война – это больно, и страшно, и смертельно может быть. Но что же делать, надо выдержать.
– А противогаз ты не забывай с собой носить, – сказал Оська, открыв почему‑то книжный шкаф и вытащив с нижней полки противогаз в зеленоватой сумке. – Сейчас не нужен, а завтра мало ли… От них всего жди.
– Как ужасно, всё‑таки, что мы этого дождались. Помнишь ночные учебные тревоги в пионерлагерях? Ворчали, что будят нас, беспокоят…
– Теперь уж – без дураков. Интересно, как поведут себя разные типы… Вот хоть Курочкин, который с тобой в университете учился и настрочил на тебя подметное письмишко. Где он сейчас?
– Аспирантуру, кажется, окончил уже. Где‑нибудь подвизается, преподает… Да ну, что о таком ничтожестве думать!
– В общем, уезжай немедленно. Меня не слушаешь, так хоть Костю своего спроси, – он то же самое скажет. Уезжай подальше и роди нам что‑нибудь такое, чтобы не хуже Зойки…
Он так и сказал: нам. Что с того, что он никогда в жизни не имел на нее прав возлюбленного или мужа? Бывают и другие права. Товарищеские, братские. Такие права у него есть, и она это хорошо знает. И обязана слушаться.
Свекровь звонила Маше ежевечерне. Ей почему‑то казалось, что сын находит время позвонить своей жене и только матери не звонит Екатерина Митрофановна ревновала. Костя был младший из трех ее сыновей (средний умер в гражданскую от холеры). Костя был плохо приспособлен к жизни. Екатерина Митрофановна видела – Маша его любит, – и всё же страдала в разлуке со своим ребенком. Что там умеет эта жена! Разве что целоваться. Порядочного бульона не сварит. А ведь Костя привык к уходу…
Война обострила все чувства, и особенно чувство ответственности друг за друга. Уезжая в часть, Костя повидался с матерью и потребовал, чтобы она ехала в Ашхабад. Почему так далеко? Да хотя бы потому, что в Ашхабаде живет старая подруга Екатерины Митрофановны Марта Сергеевна Зарубина. И зовет она не первый год, в каждом письме. Зовет, потому что знает: Екатерина Митрофановна серьезно больна, лечиться ей надо где‑нибудь в жарком климате. Там, возле Ашхабада, говорят, специальный курорт есть для почечников – Байрам‑Али. Вот и полечится.
Екатерина Митрофановна предложила Маше забрать с собой и Ашхабад Зою. Очень не хотелось отпускать Зою с Екатериной Митрофановной, но всё же это лучше, чем эвакуация с детским садом. После разговора с Оськой, который взывал ко всем силам, земным и небесным, чтобы вразумили Машку уехать хотя бы и в Ашхабад, – твердость ее относительно себя самой поколебалась. Кто его знает, в самом деле, – может, и самой поехать? А то и впрямь перенервничаешь и родишь какого‑нибудь бедолагу, косого или глухонемого. Но как же Костя?
Было жаркое июльское утро, воскресный день, когда Маша сошла на пригородной станции, чтобы навестить мужа. С нею вместе приехало еще несколько женщин. В руках у них были хозяйственные сумки или маленькие чемоданчики, – каждая несла мужу что‑нибудь домашнее. Ну, кормят их там, конечно, никто и не сомневается, но домашнее – это, сами знаете…
Женщины шли песчаной разбитой дорогой. Горячий воздух трепетал над каждым бугорком, над каждою крышей, трава по обочинам была сухая и пыльная. И только подальше, у соснового борочка, сквозь пышный ковер прошлогодней рыжей хвои пробились остренькие голубовато‑зеленые лепестки с алым крошечным огоньком лесной гвоздики. Иные цветки только что распахнулись, бархатные и ароматные, другие уже складывали потускневшие лепестки в крошечную трубочку – увядали.
Женщины шли молча, – жара разморила. Из‑за молодых сосен показались голые стволы зенитных орудий, одноэтажные здания, на них – кумачовые лозунги. Кто‑то пришел и ушел, куда‑то исчезли женщины с кошелками, и вот рядом Костя. Пропотевшая гимнастерочка, лицо загорелое, скулы чуть подтянуло, а милые глаза всё те же – один подобрее, неулыбчивей, другой – построже.
– Пойдем, малышка, что же тут стоять на людях.
Ушли в сосновый лесок. Густой лесок на холмах и в ложбинках; приляг вон у той ольхи на взгорье – и не видно тебя ниоткуда. Ветви спасают от солнца, пахнет старой прелой хвоей, и земляникой, и сосновой янтарной смолой, и детством.
– Вот я и стала солдатской женкой!
Она сидит, прислонясь к сухому красному стволу крупной сосны. Костина голова у нее на коленях, – он ловит синие кусочки неба, застрявшие в седых сосновых ветвях.
– Шоколад ты себе возьми, – Костя мягко отодвигает привезенную ею плитку «Золотого якоря».
– Это тебе. Мы ж дома…
– Себе возьми, малыш. Ты ведь любишь.
– Я не хочу одна. Я не хочу ничего без тебя.
Он любуется, глядя снизу на ее кругленький детский подбородок, на маленькие овальные ноздри, на темный пух ресниц, на светлые брови и ячменный сноп волос, разделенный косым пробором. Красивая? Почем он знает! Возможно, что и нет. Рассуждать он может только о том, к чему равнодушен, оценивать может только постороннее. А эта – своя, дорогая, – и с нею надо расстаться. Может, и навсегда.
– Ты поедешь с мамой и Зоей в Ашхабад, – говорит он, не меняя позы. Но глаза уже не мечтательные, а настороженные, твердые: ему ее характер хорошо знаком.
– Зою я отправлю с мамой, сама останусь.
– Поедешь. Можешь мне поверить: положение таково, что самое разумное – уехать сейчас. Нормально. Поезда на восток пока не обстреливаются.
Откуда он знает о положении? Сердце замирает – неужели война приближается сюда? Наверное, не всё пишут. А он мог слышать от кого‑нибудь. От военных.
– Ты преувеличиваешь, Костя.
– Если бы преувеличивал! К сожалению, дела плоховаты.
Они обнимаются снова, как будто бы обнявшись им не так страшно. Тоска, тоска в каждой жилке, в каждом суставе, – расстаться! И, возможно, навеки… Не может быть! Не хочу!
Они вглядываются друг в друга, запоминая каждую крошечную морщинку у глаз.
Что же сказать ему еще? Что же еще отдать? Столько чувства в сердце – и ничего, ничего не можешь изменить в его судьбе! Война.
Вечер. Они стоят на опушке, держась за руки. Только что прогудел ленинградский поезд, на который она опоздала. Детская уловка, – до следующего поезда сорок минут. А потом пойдет уже самый последний…
Гудят, перекликаются встречные поезда. А на опушке, окаменев, прижавшись друг к другу, горюют две любящие души. Молодые мужчина и женщина молча сжимают друг другу руки. И нет для нее ничего слаще запаха его хмельных черных волос, его просоленной потом, выгоревшей гимнастерки. И нет для него ничего приятнее молочного, чуть смородинного аромата ее тела. И не расцепить, не разжать эти молодые руки никакой силе, не растянуть их в разные стороны даже встречным поездам, идущим в Ленинград и из Ленинграда.
Глава 2. Дорога
В плетеной корзинке под нижней вагонной полкой Зоино бельишко, летние и осенние маленькие одежки, – зимнего не взяли, – к зиме война кончится, и мы вернемся домой. В чемоданчике – Машины вещи. В синем старом рюкзаке, что заброшен на верхнюю боковую полку, – книжки, нужные для диссертации, и блокноты с записями о питерских красногвардейцах. А в черной клеенчатой сумке, которая висит над головой, – дорожная еда, припасенная и приготовленная теплыми мамиными руками.
Вот какие вещи окружают нижнюю полку, на которой спит Маша Лоза, придерживая свою дочку Зойку. Тесно им вместе, – потому что их не двое, а почти уже трое, – маленький Костин мальчик поворачивается поудобней в своем гнездышке под маминым сердцем. Маленький, а место уже занимает всё‑таки.
На соседней полке – свекровь Екатерина Митрофановна. Ей узко и неудобно, – она тучная, а вдобавок поставила в головах чемодан: очень боится, что вещи украдут ночью, и никак не может заснуть.
И на других полках, скупо освещенных свечкой в стеклянном фонаре над дверью, всюду – полным‑полно: женщины, дети, чьи‑то бабушки и дедушки. Какая‑то молодая пара: женщина везет в Новосибирск мужа – рослого красивого мужчину лет тридцати. На них все смотрят подозрительно, а она при каждом удобном случае поясняет, что у него припадки, что у него нервная система вся расстроенная, и во время воздушных тревог он просто умереть может. Люди слушают, но не верят, – с виду здоровый мужик, в дороге у него ни разу припадка не было.
В вагоне тесно, даже третьи полки все заняты. А кому не хватило места, тот в проходе сидит на своем чемоданчике. Едут куда‑то. За окнами ночь, черные поля, черные леса, черное небо с маленькой подслеповатой луной. И сырой ветер, пахнущий затхлым каменноугольным дымом. Много таких вагонов, длинная цепочка. Везет их паровоз, на котором – бессонный машинист, встревоженный, внимательный к каждому звуку.
Только что проехали мимо длинной, странной труды обломков. Что это? Следы раскопок? Землетрясения? Упавшие домики, заборы? Темно, не разберешь. Только машинист – на то он и железнодорожник – узнал в этих черных обломках бывшие вагоны, такие же полки и перегородки, какие и у него сейчас за спиной. Немец бомбил. Крушение. Мертвые и искалеченные люди. Это случилось позавчера, машинист уже слышал об этом.
Идет в черной ночи поезд, набитый людьми. А над ним летит, жужжит себе «ястребок», – не боитесь, это наш, он охраняет на всякий случай. Может, и обойдется. А утром поезд будет уже совсем далеко от линии фронта.
Маша просыпается каждые полчаса, – Зоя вертится, тесно, руки и ноги затекли. На рассвете Маша садится, прикрыв спящую Зою стареньким одеяльцем, и смотрит в окно.
Невысокая ольховая роща, развесистые ветви берез, а перед ними словно присели в танце пышные кусты волчьих ягод. Летит поезд. А вот елочка на лугу, она танцует, поворачивается вокруг оси, – пролетели мимо, и уже осталась она одна позади, и новые елки мечут вокруг зеленые хлопья своих разлетающихся юбок. А сбоку, под самым окном вагона, бежит узенькая желтая тропка, бежит, как верная собачонка, не может отстать, ныряет в овражки и снова вскарабкивается наверх, обходит болотце, прыгает с холмика на холмик. Маша ходила по такой тропке в детстве. Как раз по такой. Глинистой, убитой босыми пятками, бегущей рядом с высокой насыпью, где по стальным рельсам гремят сумасшедшие черные колеса, – страшно смотреть снизу. Тропка, тропинка! Маша и тебя бросает, покидает, как ту промелькнувшую веселую русскую елку, как многоярусную красу родного леса… Едет куда‑то, так нужно, а куда – и сама не представляет. Нужно ехать, и всё.
Поезд больше стоит, чем идет. С ужасом заметила Маша, что дорога здесь – в одну колею, только в одну, боже ты мой! Где же мы были? Почему не подумали загодя? И ведь строим всё время, и дороги строим, и города. А дорога на Урал – в одну колею. И вот стоят на станциях эшелоны, пропускают встречных, а оттуда – платформы, платформы, платформы, на которых под брезентом и безо всякого брезента – пушки, зенитки, грузовики. И пассажирские идут, с красноармейцами. Смотрят молодые ребята из окон, из дверей, супят брови, разглядывая состав, что идет на восток. Не нравится им. А кому нравится! Так уж получилось.
А иногда Машин эшелон обгоняют санитарные поезда, – им все уступают дорогу. Там из окон смотрят забинтованные раненые. Белая марля возле глаз человека, повидавшего виды, – совсем других глаз, чем у нас, штатских людей.
Вот и узнает Маша свою страну! Не очень‑то много ездила прежде, незачем было. Какая же большая она, Россия! И всюду люди, всюду вопрошающие взгляды – что там, отчего так спешите оттуда? Может, вы просто трусы?
Леса стали потемнее, посинее, что ли, – это приближается Урал. И вот граница двух частей света: Европа – Азия. Мы уже в Азии, в уральских густых лесах, среди гор и сказочных богатств. Это сюда ездил покойный Курт в ту далекую первую пятилетку. А за ним по следу – молодая его жена Маша, напуганная телеграммой, бумажкой, которая оказалась добрее, чем настоящая‑то жизнь… Бумажка сообщала Маше, что муж ее очень болен, а на самом деле его уже в живых не было.
Курт… Грустные мысли набежали, как тяжелые облака. Курт, ее первый муж, нелепо погибший во время поездки в Среднюю Азию, был немец. Он был хороший человек, активный коммунист, герой гражданской войны. Он сам еле вырвался из рук своих единокровных сограждан, державших его столько лет в тюрьме. Гитлер продумал всё наперед, когда сгонял в болотные лагеря цвет своей нации – коммунистов, наиболее сознательных рабочих, интеллигентов, когда набивал ими тюрьмы, как матрац набивают соломой. Неужели их всех истребили? Гитлер называет свои подлые дела революцией, там такой шовинистический угар… Но если в Германии остался хоть один живой коммунист, – он будет бороться!
Новые дали открываются справа и слева от бегущего поезда. Станции, маленькие и большие, мокрый асфальт перронов, лотки торговок, базарчики с жареными курами, яйцами, горячей вареной картошкой… И леса, и поля, уже сибирские, широкие просторы, – как же велика ты, земля моя!
Сибирь… Само это слово похоже на огромную, с длинным ворсом шкуру невиданного зверя. Рысь – что маленький зверь, а Сибирь – большой… Сюда ссылали когда‑то. А сейчас города, как и всюду. И так же тепло – жаркое лето. Где‑то далеко, за спиной, идет кровавая схватка за свободу этой земли, а мы, словно дезертиры, убегаем подальше…
Злится Маша, злится на себя и на обстоятельства. Может, и на мальчика, который еще не родился, тоже злится? Может, и на Зойку, маленькую любознательную девчонку, которая тоже проснулась и прижимает свой коротенький нос к стеклу вагонного окна, жадно смотрит на всё, что летит мимо? Но можно ли на них сердиться!
Всё существо Маши протестует, – ведь она копала траншеи в Ленинграде, как все, и беременность переносит легко, могла бы остаться, защищать свой город… Как это – защищать? Разве допустят до него? Разве враг подойдет когда‑нибудь к Ленинграду? Нет, конечно. А всё же…
Солнце снова зашло, небо снова сменило яркое свое оперенье, – розовые охапки цветов и светящихся листьев сменились рубиновыми, густо‑вишневыми и наконец лиловыми, ниспадающими за горизонт под натиском синего неба.
Красота кругом, земная, нежная, неповторимая красота. И такое несчастье, такая щемящая тоска: на эту милую землю, на ее закаты и восходы, на ее глинистые дорожки и певучие зеленые перелески напал враг. Не только угрожает, – идет на нас, идет по нашей земле, по нашей плоти, ступает по нашему сердцу…
Синее, звездами искрящееся небо какого‑то полустанка, – снова стоим, пропускаем эшелоны на фронт.
– Los, los! Was gukst du so, Mensch? Los, sonst wird es su spät![1]
Кто это говорит? Почему немцы здесь? Куда они едут? И откуда?
Низкий мужской голос перекрывается женским. Спорят. Один торопит другого, а женщина предостерегает: не опоздай смотри!
Сердце Маши колотится. Этот говор, этот язык, такой близкий когда‑то, язык ее первой любви, первой страсти, первого нежного испуга, становится сейчас ненавистным, отвратительным. И что за язык! Фыркают, шаркают. Ужасно.
Проводник тоже слушает их, стоя в вагоне рядом с Машей. Он знает, кто эти люди. Это – немцы, советские граждане. Говорят, где‑то спустился вражеский десант и из немцев нашлись такие, кто… Неужели это правда? Сила национальной связи? Нет, этого не может быть. Пригреть врага – значит быть способным пригреть его независимо от того, близок он тебе по крови, по языку или нет. Там могли оказаться какие‑то кулацкие элементы. И потом, это только слухи… Но можно ли пройти мимо таких слухов!
Почему вообще возможно предательство? Видно, есть и такие люди, чьи души спрятаны от чужих взглядов, замаскированы. У таких – корысть, выгода на первом плане. Маша привыкла, приучила себя – бояться обидеть человека напрасным подозрением, вот и не представляет, какие они, враги. Сережа не раз упрекал ее в чрезмерной доверчивости.
Он вспомнился снова, Сережа, детская любовь Маши. Волевой, чистой души человек, поступивший в школу следователей за год до своей смерти, которую ему почти предсказали врачи. Сережа часто рассказывал Маше о своем дяде‑пограничнике, о дяде Диме, которому стремился подражать. Где служил этот дядя Дима, Маша так и не поняла толком. Часто бывал на границе, ежели требовалось – принимал разные обличья, – в общем, хоть пиши детективный роман. Сережа говорил, что дядя Дима когда‑то работал с Феликсом Дзержинским и бородатым Лацисом, что до революции жил он в Риге. Сережа был просто влюблен в своего дядю и, видимо, мучился первые месяцы знакомства с Машей, не зная, можно ли рассказывать ей об этом замечательном человеке. Потом решился, рассказал, взяв, разумеется, клятву – никому ни‑ни.
«Если бы все чекисты были такие, как дядя Дима, то никакой враг никогда ничего не добился бы, – думала Маша, – война не застала бы нас врасплох». Никакие другие мысли в голову ей не шли.
И снова – дорога, и снова кругом – вопрошающие, расширенные глаза, – почему вы оттуда едете? Или действительно так уж плохи дела? Что же будет дальше, если так началось?
В Новосибирске была пересадка на Турксиб. Ночь правели на вокзале – большом, многоэтажном. Залы ожидания, скамейки. А места не хватает, всюду люди. Пол грязный, пыльный, но, устав и измучившись досыта, люди перестают смотреть на него с брезгливостью. На пол садятся или ложатся, блаженно потягиваясь, укладывая возле головы пожитки, чемоданчик.
Тяжелее всех Екатерине Митрофановне. Она избалована удобствами, привыкла к перине. Она кряхтит, ворчит себе под нос, она подавлена этой грязью и с ужасом смотрит, как Маша, расстелив на полу две газеты, пыряет в них, словно на пружины матраца. Молодая, ей что!
До отхода поезда остается десять часов. Екатерина Митрофановна сидит в сквере с Зоей. Подводит итоги: невесткой она довольна. Расторопная, всё время покупала еду на станциях – то, что надо и что не дорого.
– Маша, вы сходите хоть город посмотрите, Новосибирск. Говорят, красивый. У них тут здание оперы какое‑то необыкновенное. Сходите, отвлекитесь хоть немного.
Маша ходит по городу. Здание оперы круглое, как римский Колизей. И город вообще солидный, крупный. А я и не знала! Как же мало я знала, сидя в своем родном, прекрасном Ленинграде! Прекрасном, но отнюдь не единственном…
И вот Турксиб. Маша помнила кинофильм о строительстве этой дороги: первые рельсы на песке, и рядом верблюд – царственный, брезгливый, недоумевающий. Высоко поднятая морда с отставленной нижней губой, тонкие ноги – коленки вместе, ступни врозь. Поезд пришел в пустыню! А в газетных киосках – маленькая книга стихов – «Большевикам пустыни и весны»: «Третий день мне в лицо, задыхаясь, дышала пустыня…» И люди в халатах и тюбетейках или высоких шапках из овчин, смуглые, с узким разрезом глаз.
– Проезжаем Голодную степь, – послышался голос проводника.
Поезд остановился на какой‑то маленькой станции. Мелькнула смежно‑белая стена станционного здания, а внизу, у ее подножья, огромные красные плоды, наваленные горками в ведрах, мисках, на тарелках. Помидоры. Алые, тугие, пышные, – на тарелке больше пяти штук и не поместится, и то уже пятый сверху…
– Пять рублей ведро! Берите, пять рублей большое ведро! – шумели женщины в пестрых шелковых платках, облегавших грудь и спину.
– Мама, что это? – спрашивает Зоя.
Вперед вырвалась орава отчаянных ребят, тощих и воинственных. Они размахивали над головами чем‑то темным, продолговатым и счастливо орали:
– Вахарман! Вахарман!
Маша пригляделась и объяснила: в руках у мальчишек были, конечно, не сабли, а дыни, темно‑зеленые, длинные.
Дыни сорта «вахарман».
Пассажиры смешались с пестрой толпой мальчишек и женщин, покупали огромные помидоры и дыни рябой змеиной расцветки. Маша накупила полную кошелку великолепных плодов. «И это Голодная степь, – думала она, зачарованно стоя с кошелкой у подножки своего вагона. – Всё это создали наши люди. За такой короткий срок. И уже надо пустыню переименовывать. И это ведь только начало. А фашистские дьяволы воину затеяли…»
В