Лидия Корнеевна Чуковская
Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский
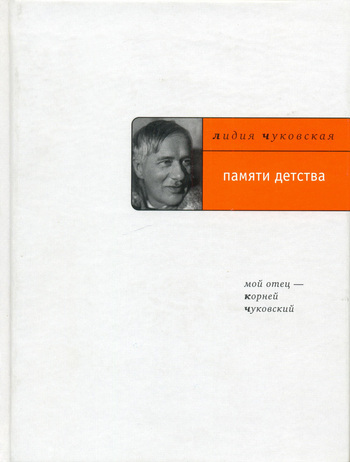
Текст предоставлен правообладателем https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=631465
«Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский. »: Время; Москва; 2007
ISBN 978‑5‑9691‑1088‑5
Аннотация
В этой книге Лидия Чуковская, автор знаменитых «Записок об Анне Ахматовой», рассказывает о своем отце Корнее Чуковском. Написанные ясным, простым, очень точным и образным языком, эти воспоминания о жизни Корнея Ивановича, о Куоккале (Репино), об отношении Чуковского к детям, природе, деятелям искусства, которых он хорошо знал, – Репину, Горькому, Маяковскому, Блоку, Шаляпину и многим другим. Книга доставит настоящее удовольствие и детям, и взрослым.
Лидия Чуковская
Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский
«Я, впрочем, вовсе не бегу отступлений и эпизодов, – так идет всякий разговор, так идет самая жизнь».
«Былое и думы»
Тогда, в нашем детстве, в Куоккале, он казался нам самым высоким человеком на свете. Идет к себе в комнату – в дверях голову непременно наклонит: не ушибиться б о притолоку! Посадит к себе на плечо – с высоты сразу откроется глазам среди редких сосновых стволов дальняя даль залива. В оттепель подпрыгнет и лыжною палкой легко собьет сосульки с балкона второго этажа, а с теми, что свисают с крыши дровяного сарая, и без палки управится: протянет руку и обломает рукой. Он длиннорукий, длинноногий, узкий, длинный. Кто выше его? Нет такого! Им, его длиною, можно измерять заборы, ели, сосны, волны, людей, сараи, деревья, высь и глубь. Рост его был нам выдан судьбой как некий аршин, как естественная мера длины. Сидя в лодке и потрагивая через борт прозрачную серую воду, мы прикидывали, бывало, на глаз: а если считать до глубины, до самого‑самого бездонного дна – сколько тут окажется пап: шесть или больше? «Да что ты! Какие шесть! Не меньше двенадцати будет!»
Это в море.
В лесу же, задрав головы перед высоченной сосной:
– В этой‑то уж наверняка десять пап! Если от земли до макушки!
Ноги у него великанские; какие сапоги ни купит себе в Выборге или в Петербурге – все не впору: малы. Узки. Коротки. Жмут. Натирают мозоли. Опять отдавать на растяжку сапожнику! Хоть примеряй тот, огромный, рыжий, что висит для рекламы под вывеской обувного магазина на станции. Да вот беда: тот, если бы сгодился, рассчитан на какого‑то одноногого великана, а у нашего, слава тебе, Господи, две ноги, не одна.
И походка, и повадки у него великанские. Не только дети – взрослые едва равняются с ним. Шагает по песку вдоль моря, а я рысцой бегу рядышком. На один его шаг – пять моих мелких шажков. И с вещами обращается по‑великански: норовит утащить их к себе в высоту. Молоток ли в доме пропадет или щетка – подставляй стул, ищи на крыше буфета или платяного шкафа: он, мимо идучи, там оставил. Ему на высоте сподручнее. А чих у него какой! Не люди – дача вздрагивает! А фырканье какое, когда умывается! Намылит щеки, грудь, шею и фыркает. Будто в фырканье главное мытье и есть.
Узкий, длинноногий и длиннорукий, подбрасывающий к потолку и ловящий без промаха палку, тарелку, кого‑нибудь из нас. Тощий, но сильный; любит веселье и любит и занозистой насмешкой поддеть. Непоседлив, беспечен, всегда готов затесаться в нашу игру или изобрести для нас новую.
До первой детской книги Корнея Чуковского оставалось в ту пору года три, до второй – около десяти, им не была написана еще ни единая строка для детей, но сам он, во всем своем физическом и душевном обличье, был словно нарочно изготовлен природой по чьему‑то специальному заказу «для детей младшего возраста» и выпущен в свет тиражом в один экземпляр.
Нам повезло. Мы этот единственный экземпляр получили в собственность. И, словно угадывая его назначение, играли не только с ним, но и им и в него: лазили по нему, когда он лежал на песке, как по дереву поваленному, прыгали с его плеча на диван, как с крыльца на траву, проходили или проползали между расставленных ног, когда он объявлял их воротами. Он был нашим предводителем, нашим командиром в игре, в ученье, в работе, капитаном на морских прогулках и в то же время нашей любимой игрушкой. Не заводной – живой.
Впрочем, хотя детских книг он тогда еще не писал, веселые стихотворные строчки, обращенные к детям, сочинялись им уже и в те времена, однако всего лишь для домашнего употребления, играючи, походя. Он тогда еще не записывал их в толстые тетради, как впоследствии, не соединял в стихотворения и поэмы, не обрабатывал месяцами, а то и годами, прежде чем передать редакции, не читал ни в школах, ни в детских садах, ни в больницах, ни в многолюдных залах среди белых колонн. Это были импровизации, домашние экспромты, однодневки – всего лишь.
…Лидо‑очек,
Лучшая из до‑очек! –
говорил он мне вкрадчивым, певучим, тоже каким‑то длинным голосом. (Я же была так мала и глупа, что не могла догадаться, почему это я называюсь «ездочек»? Разве я на чем‑нибудь езжу?)
Или весело рычал, топая на меня великанскими ножищами:
– Ах ты, скверная девчонка!
Ка‑ак болит моя печенка!
– Папа, – говорю я, переминаясь от нетерпения с ноги на ногу, понимая, что ему хочется поиграть со мной не менее, чем мне с ним, – папа! Посади меня на шкаф.
Он отступает на шаг. Грозно глядит со своей высоты. Наклоняется. Перед моим носом назидательно закачался длинный палец.
– Учишь вас, учишь! Проси как следует.
Игра началась. Я жажду испытаний и ужасов: по‑страшней, поужасней, а кончилось чтобы все хорошо. Более всего на свете я боюсь высоты. Потому и прошусь не куда‑нибудь, а на вершину высоты, под самый потолок, на шкаф.
– Глу‑бо‑ко‑у‑ва‑жа‑е‑мый папаша! – говорю я по складам, как положено в этой игре. – По‑са‑ди меня, пожалуйста, на шкаф!
– То‑то же! – Палец исчезает. – А вниз не запросишься?
– Нет.
– Так и будешь теперь всю жизнь жить на шкафу?
– Жить на шкафу.
Он берет меня под мышки, минуту раскачивает, потом сажает на шкаф и сразу большими шагами уходит из комнаты прочь. И закрывает за собой дверь, чтобы страшнее.
Я сижу. Мне страшно. Как чужие, болтаются над пропастью мои бедные ноги. Я решаюсь одним глазом заглянуть туда, вниз, в пропасть. Там, на полу, желтый линолеум с черным узором. Вот упаду и разобьюсь вдребезги, как чайная чашка. И зачем это я попросилась на шкаф! Никогда мне уже больше не пробежаться по песку, не сесть вместе со всеми обедать… Все купаются, играют в пятнашки, и он вместе с ними… а я? Я живу на шкафу. И никогда, никогда не буду больше вместе с другими бросать плоские камни в море и подсчитывать, сколько раз камень подскочит, и никогда уже больше он не позовет меня устраивать плотину на нашем ручье!
– Папа!
Молчит.
– Папа!
Не отвечает. Ушел, позабыл обо мне и оставил меня здесь на всю жизнь…
Глядеть вниз – страх пробирает. Вверх – тоже, там потолок, там самая и есть высота высоты. Он нас отучает бояться, меня и Колю. Велит лазить по раскидистым соснам. Выше. Еще. Еще выше! Но тогда он сам стоит под сосной и командует, и можно держаться за его голос.
Сижу, скованная страхом, поглядывая на свои никчемные ноги. Одна.
– Глубокоуважаемый папаша, – пробую я, ни на что не надеясь, – сними меня, пожалуйста, со шкафа. Мне здесь не понравилось жить. Пожалуйста!
Его шаги! Он тут! Он только притворялся, что ушел далеко! Он входит, берет меня под мышки, раскачивает, подбрасывает и опускает на пол. Какое счастье! Я опять на полу, где все люди, и могу бежать куда хочу.
Рукам его довериться можно вполне. Вовремя подхватят, никогда не уронят, не сделают больно. Правда, завязать мне капор под подбородком, или всунуть в свои манжеты запонки, или изжарить яичницу, выгладить рубашку, упаковать чемодан – руки эти никогда не умели. Такие длинные, гибкие пальцы – а этого они не умели. Но вот подбросить чуть не до потолка меня или нашего младшего, Бобу, швырнуть нас обоих на диван, чтобы посмотреть, высоко ли нас подкинут пружины, – это для них нипочем. Взлетай, падай, не бойся: вовремя подхватят и удержат. А мучительства! Любимая наша игра. Уше‑вывертывание. Голово‑отрубание. Пополам‑перепиливание (ребром руки поперек живота). Шлепс‑по‑попс. Волосо‑выдергивание… Надежные руки, большие, полные затей, с чисто‑начисто промытыми круглыми ногтями. И всегда, даже на морозе, горячие.
…Вот, по Большой Дороге мы возвращаемся с ним вместе со станции. Ходили вдвоем на почту. Мороз градусов тридцать. По обеим сторонам пустые дачи, стреляющие промерзшими досками; заваленные снегом клумбы; утонувшие в снегу колья заборов. Снега, снега по обочинам Большой Дороги, а посредине бежит, сверкая слюдяным блеском, твердый, накатанный санями, утоптанный лошадиными копытами бесконечный путь. Мороз незримой плотиной в воздухе. Почему это снег называется белый, когда на самом деле он синий, розовый, цветной, искрящийся? Но сегодня мне и снег не в радость. Я стыну. Замерзли губы, брови, лоб. Даже зубы. А ноги? – ног у меня просто нет. А ему мороз нипочем. Для него и сейчас жара. Пальто распахнуто, руки без перчаток, уши барашковой шапки развязаны. Я, укутанная, плачу от холода. Меня пробирает дрожь, словно я не в шубе, не в капоре, не в платке, не в гамашах, а в летнем платьишке. Плачу сначала потихоньку, потом все громче и громче, и от горячих слез мне становится еще холоднее. Он берет меня на руки, стягивает с меня промерзшие боты, засовывает боты в один свой карман, обе мои ноги в другой и опускает туда свою горячую руку.
Тесно. Счастливая теснота.
Через минуту, зажатые в его ладони, мои пальцы и пятки оживают, заражаясь его неистощимым теплом, прогреваются насквозь, горячеют, словно мы уже дома и я уже примостилась в столовой у белой кафельной печки, где в квадратной пасти пышно тлеют березовые уголья.
Так он и несет меня сквозь мороз по дороге: обе мои ноги в тесноте его кармана, под его огромной жаркой рукой.
В Куоккальские времена всю черную мужскую работу по дому он делал сам. Сам воду носил, колол дрова, топил печи. Сам был за кухонного мужика и за дворника; разметал метлой лужи, или ломом скалывал с крыльца лед, или деревянной квадратной лопатой прокладывал дорогу от крыльца до калитки: узкую яму среди сугробов. И мы, с маленькими лопатками, следом за ним. Идешь по этой глубокой канаве, уравниваешь лопаткой бока; тронешь боковой вал рукою и сквозь шерстяную перчатку почувствуешь, как колется снег. Когда‑то, одесской полуголодной юностью, случалось ему работать в артели маляров, и он навсегда сохранил пристрастие к превращению старого, обшарпанного забора в новенький, молодой, только что обласканный кистью. В этой работе было что‑то праздничное. Аппетиту, с которым он красил забор или ящик, помешивая кистью густую зеленую кашу, могли бы позавидовать сподвижники Тома Сойера. И уж разумеется, неистово завидовали мы. А он – по‑том‑сойеровски! – снисходительно предоставлял нам это редкостное счастье: мазнуть! Зеленой краской мазнуть разок по калитке.
– Стань передо мной, как лист перед травой!
Он вручает мне кисть с торжественностью, словно монарх, передающий наследнику скипетр.
– Держи ровно! Не капай! Не капай! О‑о‑о, как я страшен в гневе!
Руки его, никогда не умевшие повязать галстук или пришить пуговицу, прекрасно справлялись с грубой, простой работой – сбросить ли с крыши снег, распилить ли бревно – и, как это ни странно, не умея вдеть нитку в иглу, с истинно жонглерской ловкостью показывали фокусы. Да, вот вдеть запонки в манжеты было для него делом непостижимым, а солонкой жонглировать – пожалуйста. Поставит на ладонь полную соли солонку, круто наклоненной ладонью совершит полукруг в воздухе; и не только сама она, словно гвоздями приколоченная, не падает на пол, но даже и соль каким‑то чудом не сыпется.
Да что солонка! Его слушались стулья.
Стул покорно стоял минуты две на указательном пальце – и не падал. Жонглер извивался, приплясывал, гнулся, удерживая стул от падения, а стул благодаря этим извивам не падал, стоял. Ножкой на указательном пальце.
Еще была палка. Короткая толстая дубина. Он подбрасывал ее и ловил, бросал и ловил, все быстрее, быстрее, быстрее; она кружилась в воздухе как толстенная спица, а потом он внезапно бросал ее в грудь Коле, моему старшему брату, или ошеломленному гостю, требуя, чтобы они не отклонялись от палки, а ловили ее на лету и кидали обратно. Сам же стоял в ожидании удара, расправив узкие плечи и выпятив грудь. «Вот грудь моя – рази!» Но сразить не удавалось никому: длинная рука перехватывала палку на аршин от груди и снова запускала в противника.
Греб, плавал, нырял, ходил на лыжах… Бурно двигался на воздухе, в игре и в работе, среди волн, песков, детей и сосен.
Игру он любил и уважал чрезвычайно, не проводя при этом отчетливой грани между игрой и трудом. И во всякий труд норовил втянуть ребятишек, превращая для нас в игру всякий труд. На воле и дома.
Скромные наши владения лишь условно могли быть названы садом; скорее это был елово‑сосновый перелесок, каких так много в Куоккале. С двух сторон наше поместье отделено было от соседей забором, с третьей стороны – водою ручья, с четвертой, от берега моря, его не отделяло ничто. Наши сосны свободно выбегали на желтый прибрежный песок, за которым – гряда корявых и округлых камней, то скрываемых пеной, то сухих, надежно прогретых солнцем. Летом, в жару, земля наша была скользкой от хвои; иглы елей да сосен, пни, да шишки, да змеящиеся ползучие корни, о которые мы в кровь разбивали босые ноги. Лесок как лесок; а сад, собственно, только возле крыльца: одна клумба, да две посыпанные песком дорожки, да грядка настурций вдоль веранды.
Лесок как лесок, но хоть и был он скромен, а доставлял Корнею Ивановичу немало хлопот.
Оборонять его приходилось от двойных набегов: медленных, коварных – ручья и бурных – морских.
В обороне принимали участие и мы.
Ручей имел обычай исподтишка, постепенно отмывать из‑под сосен нашу беззащитную землю. Корней
Иванович, обнаружив убыток, начинал с неистовством залечивать нанесенную рану, таская с берега моря песок, мешок за мешком, на спине, не хуже заправского грузчика, а мы на бегу поспевали за ним, кто с лейкой, кто с ведром, кто с кастрюлей. Команда – и весь песок: «Раз, два, три, глаза закрой, с‑сыпь!» – мигом ссыпается в воду.
Чтобы обороняться от ручья, достаточно было песчаной запруды; от моря не спасали и камни.
Каждую осень, в ожидании предстоящих бурь, выловив багром из моря штук десять принесенных из Кронштадта плетеных корзин (такой ширины и такой вышины, что Коля, Боба и я, все трое, забирались в одну), он расставлял их на берегу вдоль сосен, рядком, надеясь защитить участок от неминуемого набега волн; и каждую корзину доверху собственноручно наполнял камнями, что было отнюдь не легко: десятки раз надо было проделать путь с берега к корзине и обратно.
Так и вижу его: идет по песку, в закатанных штанах, босиком, руки над опущенной головой и в каждой руке по увесистому камню. Глядит себе под ноги, боясь споткнуться: камень однажды, сорвавшись, чуть не перебил ему стопу.
Мы за ним, тоже с камнями, все, даже маленький Боба. Тоже – глазами в землю.
Он остановится возле корзины, подождет нас – камни над головой – мы станем кругом.
– Бросай! – скомандует он, и с каким веселым грохотом грянутся камни в корзину! Ради этого грохота мы и трудились – несли… Игра это была или труд?
Таких слов, как «спорт», «соревнование», мы из его уст никогда не слыхали, но он научил нас и на лыжах, и на финских санях – «поткукелке», – и грести, и плавать. К лыжам мы привыкли не менее, чем к валенкам или рукавицам: выйдешь на крыльцо – и сразу ноги в ремни.
Сам он отлично играл в эти древние игры: лодка, лыжи, сани. И зимний парус.
Помнится, единственный во всей округе, умел он летать под парусом по замерзшему морскому простору в те зимние тревожные дни, когда залив, дочиста подметенный ветром, светится зелеными проплешинами льда. Ветер гнал эту беззаконную бабочку по льду залива, на страх лошадям, волочившим тяжелые возы со льдом, только что вырубленным из проруби. Лошади шарахались в стороны, рискуя опрокинуть свой зеленоватый хрусталь, а возчики долго еще грозили собранными в кулак вожжами этому внезапному парусу, невесть откуда принесенному ветром.
В самом деле, диковинка: человек стоит на особенных каких‑то лыжах, со стальными короткими полозьями под каждой ступней; стоит, ухватившись за скрещенные у него за спиною палки, на которые натянут квадратный холст. Стоит – и летит.
В те дни, когда ветер был особенно мощен, Корней Иванович пристраивал парус не к лыжам, а к «поткукелке». Мы садились в сани: Коля, а я ему на колени. Или я и Боба. Когда, нахлебавшись колючей стужи, мы возвращались с открытого берега в наш прикрытый деревьями сад, – здесь, под защитой елей и сосен, в двадцатиградусный мороз нам казалось не только тепло, но душно. Насквозь каждая жилочка промыта была и обновлена стужей. А среди сосен духота. Мы поспешно развязывали тесемки под подбородками, расстегивали крючки на воротах, рассовывали по карманам рукавицы. Как и он, в эту минуту мы испытывали презрение к морозу: кто это выдумал, будто сегодня мороз? Жарища! Все он умел для нас – даже играючи обратить мороз в жару.
Летом нашей любимой работой были постоянные походы к Репину в «Пенаты» за водой.
Вода в колодце на нашем участке годилась для стирки, для поливки цветов, для умывания, но для питья не годилась. За питьевой мы и ходили в «Пенаты». Там был артезианский колодец.
«Айда!» – и работа (или игра?) – начиналась.
Я бежала в сарай за палкой. Коля, позванивая, уже нес ведро. Боба, который давно уже понимал каждое наше слово, но сам не удостаивал никого ни одним, первый хватался за конец палки, боясь, как бы не ушли без него. Мгновенно оказывались возле нас наши приятели финны: Матти, Павка, Ида.
Эти походы к Репину за водой были через много лет описаны Корнеем Чуковским в книге «От двух до пяти». А тогда он сам шагал по дороге рядом – долговязый, дочерна небритый, в старых штанах, худой и веселый, взрывая босыми ногами клубы теплой пыли с таким же удовольствием, как мы.
Вот и резные ворота «Пенатов». Он открывал их без скрипа и, вытянув губы трубочкой, громким свистящим шепотом требовал, чтобы мы замолчали. Репин работал, тишину мы обязаны были соблюдать полную. Еще и до ворот, едва достигнув репинского забора, он шикал не только на нас – на прохожих. А уж в саду! Чуть не на цыпочках выступал перед нами, гневно оборачиваясь на каждый шорох. Мог и за плечо тряхануть ослушника.
Молчание давалось нам нелегко, но от напряженности этой тишины нам становилось еще веселее: выходило, будто мы не брали воду у Репина, а крали ее.
Без звука вешал он ведро на округлую шею крана, а потом снимал и ставил на крупный гравий. Теперь наша очередь. Мы надевали тяжелое ведро на палку и, не спуская глаз с качающейся – вот‑вот выплеснется! – воды, благоговейно несли ее.
– Тише, тише, тише, тише! – свистящим шепотом требовал наш командир.
Но вот он снова отворял перед нами резные ворота и снова затворял их. Вот наконец мы миновали забор, и тут накопившийся в нас шум победоносно вырывался на волю.
Все мы разного роста, палка больно бьет по ногам и бокам, вода норовит расплескаться, но нам это нипочем. Отойдя от «Пенатов», мы привольно выкрикиваем давно уже сочиненную, привычную и каждый раз заново веселящую песню:
Два пня,
Два корня,
У забора,
У плетня, –
Чтобы не было разбито,
Чтобы не было пролито…
Мы в ожидании смолкаем. Ожидание кажется долгим, хотя оно длится мгновение.
– Блямс! – выкрикивает он.
Мы по команде опускаем ведро на землю и плюхаемся рядом.
Он вместе с нами.
Боба смотрит в воду, с удивлением разглядывая, как комкает и корежит вода его лицо.
– Марш! – выкрикивает наш повелитель. – Одна нога здесь, другая там!
И снова мы затягиваем наш водяной гимн, ожидая блаженного «блямс!».
От него мы всегда ожидали веселого чародейства.
Если с ним, значит уж так завлекательно – не оторвешься. Особенно: «идем путешествовать».
На почту ли, рукопись отправить, на берег ли моря, за водой ли в «Пенаты», в лавку ли на станцию, или шагать на край света, или отправиться в плаванье – это уже все равно: лишь бы с ним.
Серьезной угрозой из его уст считали мы в детстве одну: «Не возьму с собой». «Завтра не возьму с собой». Куда не возьмет? Это уже и не важно. С собой не возьмет, вот куда. Оставит дома. Расстанется. Все будут с ним, все возле, вместе – а я одна. Без его шагов, голоса, рук, насмешек. Сиди в саду и делай вид, что читаешь. Гляди на калитку и прислушивайся: жди, когда с Большой Дороги в переулочек поворотят голоса, и вот ближе и ближе его голос, покрывающий все, высокий, с примесью свиста и шепота, командующий и насмешливый вместе.
К счастью, был он хоть и горяч, но отходчив. И устрашающая угроза «завтра не возьму» не исполнялась почти никогда. Он забывал ее, и мы снова оказывались вместе, в путешествии или труде.
Когда домашние припасы кончались (а родители наши ездили в город нечасто), мы всей оравой шли по
Большой Дороге то на станцию Куоккала, то в сторону противоположную – к станции Оллила, в лавочку Кильстрем, и хотя дорога была самая обыкновенная, но если шли мы не с няней Тоней, а с ним, чего только не случалось во время этих двухверстных путешествий! Чего только он не изобретал!
Заметив, например, что Боба, молча принудивший нас взять его с собой, изнемогает под гнетом жары, усталости и фунта орехов:
– Несчастье! – вскрикивал вдруг Корней Иванович высоким голосом. – У меня приклеился нос! Я не могу сдвинуться с места! Я пропал! Помогите! Спасите!
Согнувшись в три погибели, он ерзает носом по стволу придорожного дерева. Руки растопырены, пальцы беспомощно шевелятся в воздухе. А вот нос – нос уже неподвижен. Он накрепко прилип к стволу. И ноги вросли в землю. Кончено. Отец наш останется тут навсегда.
– Хватайте меня и тяните меня! Бобочка! На твою помощь вся моя надежда!
Мгновенно позабыв об усталости, Боба вцепляется ему в колено. Тянем и мы с Колей за болтающиеся длинные руки, за полы его пиджака, за Бобин кушачок. Тянем‑потянем, вытянуть не можем. Нос прочно приклеен к дереву, ноги стоят как столбы. Долго мы еще тянем‑по‑тянем. Бобе иногда удается сдвинуть одну огромную ногу, и он не теряет надежды. Но где там! Нога вросла в землю опять. И вдруг, от внезапного толчка, все мы летим на траву: великан освобожден, он распрямился, закинул голову и с высоты протягивает каждому из нас по очереди свою благодарную руку. Особенно горячая благодарность выпадает на Бобину долю:
– Спасибо тебе, Бобочка, ты тянул сильнее всех. Если бы не ты, не видать бы мне родного дома!
И Боба радостно бежит вперед.
Когда начинала хныкать и отставать на дороге я, он возобновлял мои силы по‑другому. Он пускался в рассказы о том, как я была маленькая. Как меня однажды купали в корыте, поставленном на две табуретки, а корыто возьми и опрокинься вместе со мной. Я сначала вскрикнула, а потом замолчала. Лежу под корытом, и оттуда ни звука. Все думали, что я умерла. Боязно было приподнять корыто, взглянуть.
– Что я там лежу мертвая? – спрашиваю я. – И ты боялся?
– И я. «Ведь я вам несколько сродни».
– А потом?
– А потом я поднял корыто…
– И я была живая! – кричу я в восторге. – Лежала живая и не плакала!
Мне хотелось, чтобы он рассказал, как мама прижала меня к груди, как все радовались, обнимали меня и целовали, но его насмешливый ум не позволял размазывать умиление.
– Я была маленькая, но не плакала, – вымогала я. – Я сильно ушиблась, но не плакала.
– Зато плакали мы, – обрубал он. – До того ты нам всем на‑сто‑чер‑те‑ла. – И клал мне руку на плечо. – Голову мыть – рев! мыло, видите ли, попало в глаза… А сама толстая, красная, безбровая – фу!.. Колечка, кстати, скажи нам, как по‑английски брови?
Я понимала, конечно, что он шутит, но все‑таки больше, чем о корыте, любила другой его рассказ: о том, как при моем появлении на свет меня воспевали поэты.
Папа, мама и Коля жили тогда в Петербурге на Коломенской улице. Маму увезли в больницу неподалеку, на этой же улице, а оттуда она вернулась уже вместе со мной. Пришел поздравить родителей поэт Сергей Городецкий и написал на дверях маминой спальни:
О, сколь теперь прославлен род Чуковских,
Родив девицу, краше всех девиц.
(По этому случаю, чтобы я не слишком много воображала о себе, Корней Иванович называл меня попросту «Краше». «А скажи‑ка нам, Краше, как по‑англий‑ски всадник?», «Сбегай, Краше, приведи Бобу обедать».)
Кроме Городецкого воздавал мне хвалы, оказывается, еще и сам Валерий Брюсов.
Я слушала с восторгом, и отнюдь не единожды, что вскоре после того, как я родилась, Валерий Яковлевич Брюсов прислал Корнею Ивановичу письмо с приложением стихов, которые просил пристроить в один из петербургских журналов. Если же стихотворение не понравится редакции, добавлял поэт, дарю его в приданое Вашей новорожденной дочери[1].
– Это я! – кричала я, – это мне! – А Корней Иванович, отозвавшись обычно «ты у меня не бесприданница», произносил, торжественно выпевая звук «и»:
Близ медлительного Нила, там, где озеро Мерида,
в царстве пламенного Ра,
Ты давно меня любила, как Озириса Изида,
друг, царица и сестра!
И клонила пирамида тень на наши вечера.
– Лидка‑пирамидка! – кричал Коля.
– И клонила, пирамида тень на ваши вечера! – ехидно повторял Корней Иванович.
…Сегодня нам везет: после приклеенного носа – новое происшествие: автомобиль. Не из‑за забора, не издали, как мы видели его обыкновенно, а, можно сказать, лицом к лицу. Стекла, черный глянец, ослепительные шары солнц и оглушительные гудки. Во всем своем блеске, который не в силах притушить даже пыль, мчится нам навстречу черно‑стеклянное диво. Пролетело. Обычно, сидя дома и услыхав его приближение по Большой Дороге, мы успевали перелезть через забор и полем выбежать на дорогу только тогда, когда его уже и в помине не было: клубы пыли впереди да следы шин под ногами. А сегодня повезло: он вылетел нам навстречу, когда мы шли по дороге, и с ревом пролетел мимо нас, совсем близко, хоть пальцем потрогай; и пока соседские ребятишки еще неслись через заборы или выбегали из калиток, мы уже сидели на корточках, рассматривая «елочку»: два длинные следа шин, оставленные им за собою.
– Не дыши, елочку сдуваешь! – говорит мне Коля.
И я стараюсь не дышать.
Но тут на нас надвигается опасность. Такая грозная, что мы немедленно забываем о «елочке».
Собачища. Бегает взад и вперед вдоль забора и рвется на волю.
Разумеется, мы хорошо знаем всех окрестных собак, финских и русских, включая репинского одноглазого пуделя Мика, но этого пса видим впервые. Наверное, чей‑нибудь дачный, а дачников мы вообще не терпим. Сами‑то мы причисляем себя к местным. Мы не бежим в Петербург, чуть только начинается осень, дожди, бури. Мы все умеем, что и здешние ребята: и в ножички, и в камешки, и зимою на лыжах, и летом грести, и плавать, и ходить босиком; мы и по‑фински понимаем немного и можем сказать: «идемте купаться!» или «дождь», а дачники не понимают ни слова – и, главное, они всего пугаются. Босиком? Нельзя, простудишься. В ножички? Нельзя, руку порежешь. Купаться – утонешь, ай‑ай‑ай, нельзя! Моря боятся так, что когда наш капитан пригласил одну дачную девчонку с нами на лодку и сказал ей: «Ты сядешь на дно», она вообразила: на морское дно! И ревела до тех пор, пока мы не повернули к берегу и он не отнес ее на руках к гувернантке. И все у них неприлично. В одних трусиках купаться – неприлично. Надо в костюме. По заборам или деревьям лазить – неприлично. С финскими детьми – неприлично… А это прилично: привезти собачищу, которая так усердно сторожит их дачу, что норовит кинуться на ни в чем не повинных прохожих?
Дачники – трусы. Всего боятся, а более всего, чтобы их не обокрали. Вот и привезли сторожа.
Но на этот раз струсили мы, не они.
Мимо пышного цветника возле трехэтажной дачи, вдоль только что окрашенною забора, туда и назад носится со злобным лаем собака. Ищет лазейку, чтобы вырваться на улицу и искусать нас. Как будто мы воры какие‑нибудь и собираемся украсть ее цветы! Мы торопливо идем вдоль забора со своими кульками. Он впереди. Хочется не идти, а бежать. Но он не велит. Главное, говорит он нам тихим голосом, не бежать. И делать точно то самое, что станет делать он. Чуть только скомандует: раз, два, три!
А собачища, глядите‑ка, не нашла лаза и быстрыми лапами роет его себе сама. Земля летит из‑под лап, словно брызги.
Проклятый забор! Как долго он тянется. Так бы и побежал со всех ног, но – нельзя. Вырвалась!
– Бросайте кульки! – командует он.
Бросаем. В сухую канаву летят конфеты, печенье, сахар, мыло…
А она со всех ног несется навстречу большими прыжками. Не собака, тигр какой‑то!..
Ох, как меня тянет бежать! Я вцепляюсь ему в одну руку, Боба в другую.
– Раз, два, три! Делайте то же, что я!
Он отталкивает наши руки и опускается на четвереньки в пыль.
И мы рядом с ним.
Все семеро на четвереньках: он, да Боба, да Коля, да я, Матти, Ида, Павка.
– Гав, гав, гав! – лает он.
Мы не удивляемся. Удивляется насмерть собака.
– Гав, гав, гав, – подхватываем мы.
Собака, словно в нее запустили камнем, поджав хвост, бежит прочь. Наверное, впервые в своей собачьей жизни она увидела четвероногих людей. Мы долго еще продолжаем лаять – долго еще после того, как он поднялся, отряхивая ладонями штаны, а собака на брюхе уползла в сад и забилась под зеленое крыльцо.
Ему не сразу удается унять нас. Оказывается, это такое наслаждение – лаять на собак!
«Сухопарая экономка знаменитого лысого путешественника, заболев скарлатиной, съела яичницу, изжаренную ею для своего кудрявого племянника. Вскочив на гнедого скакуна, долгожданный гость, подгоняя лошадь кочергой, помчался в конюшню…»
Это мне задано. Это я должна к завтрему перевести на английский. Чушь эту сочинил для меня он сам; для Коли – другую, столь же несусветную; он составил эти интересные сочинения из тех английских слов, которые накануне дал нам выучить.
Мне лет шесть или семь; Коле – девять или десять. Мы переводим подобную ахинею верстами и от нее в восторге. Радостный визг и хохот! «Подгоняя лошадь кочергой!»
Наш учитель пытался и уроки превратить в игру. Отчасти это ему удавалось.
«Пестрая бабочка, вылупившись из куриного яйца, угодила прямо в тарелку старому холостяку…»
Бабочка из куриного яйца! Переводить мы любили. А вот слова зазубривать – не очень‑то. Ими он преследовал нас постоянно и по‑нашему – невпопад. В лодке ли, по дороге ли на почту или в «Пенаты» он внезапно швырял в нас вопросами: как по‑английски фонарь? Или аптека? «А скажи‑ка, мне, Колечка, – спрашивал он ласковым и чуть‑чуть угрожающим голосом, – как по‑английски солома? Так. Верно… А ты, Лидо‑очек, не скажешь ли, что значит the star? А много звезд? Громче! Не слышу!.. А как будет счастливый? А как хворост? А что такое the spoon?»
С русского на английский и с английского на русский.
Совал нам в руки палку, заставляя писать английские слова на снегу, на песке. Спрашивал заданные слова, вызвав пораньше утром наверх в кабинет. Вразбивку. Подряд. Через одно. Старые. Новые.
В молодости был он горяч и несдержан – и из‑за плохо выученных слов случалось ему и по столу кулаком стукнуть, и выгнать из комнаты вон или даже – высшая мера наказания! – запереть виноватого в чулан.
Тут уже не пахло игрой. Тут уж было искреннее отвращение.
– Убирайся! – кричал он мне, когда я отвечала с запинкою, не сразу. – Только б лентяйничать и в постели валяться! Я сегодня с пяти часов утра за столом!
(Ему действительно нередко случалось ночи и дни напролет просиживать за письменным столом, и чужое безделье вызывало в нем презрительный гнев. Увидев, что мы слоняемся без толку, он мигом находил нам занятие: обертывать учебники разноцветной бумагой, ставить по росту книги на полках у него в кабинете, полоть клумбы или, открыв окно, выхлопывать пыль из тяжелых томов. Чтобы не валандались, не лоботрясничали.)
Отсутствие в нас аппетита к английскому ставило его в тупик и раздражало безмерно. Он воспринимал это как личную обиду.
Когда он кричал на меня за дурно выученное английское слово, я скрывалась в любимом своем убежище, в кустах за ледником, – плакать и учить слова заново. Боба, вздыхая, протягивал мне на ладони три ягодки черники и одну брусничину.
Однажды Коля просидел наказанным в чулане целый час – все из‑за тех же английских слов. Не то чтобы Коля совсем их не выучил – нет, выучил, но недостаточно твердо. Это‑то и было в глазах нашего учителя преступлением. Вчера Коля не мог ответить, как по‑английски ложка, а сегодня ответить – ответил, но написал с ошибкой.
Сам он не терпел полузнайства, да и полуделанья – ни в чем.
В одной английской книжке, сохранившейся до сего дня на полке подмосковной дачи, красным карандашом его рукою подчеркнуто: «Какое бы дело ему ни приходилось тащить, он тащил, как четверо коней в одной упряжке». Так было всю жизнь. Того же он ожидал и от нас. А мы… Где там! Выученным английское слово он считал лишь в том случае, если мы знали его во всякую минуту, в любом контексте, во всех видах и формах. А мы! Сегодня знаем, завтра нет, в единственном знаем, во множественном – с запинкой. Неполный волевой напор, тление вместо горения. Вялость вместо благородной охотничьей страсти. «Отлыниваешь!»
Собственное его детство и отрочество прошло в одесской мещанской бескнижной среде. Каждую книгу ему приходилось самому добывать и самому, без чужой помощи, добиваться ее понимания.
А мы… Дом наш полон книг, русских и английских, а мы валяемся допоздна в постелях и норовим улизнуть, пока он не спросит слова. Его‑то некому было учить. К нам и учительница ходит, Колю готовит в гимназию, и сам он рад обучать нас каждую свободную минуту. Мы же что‑то там такое наспех вызубриваем, нет того, чтобы радоваться каждому новому английскому слову и накидываться на книги со страстью, как накидывался он.
Выгнанный из пятого класса гимназии по деляновскому указу о «кухаркиных детях» (за незаконнорожденность, а главное, за то, что его мать, наша бабушка, Екатерина Осиповна, вынуждена была зарабатывать себе на жизнь стиркой), он все, что знал, узнал из книг, и притом сам, без учителей и наставников, постоянным напряжением ума и воли; он сам переступил порог, быть может, один из труднейших на свете: шагнул из мещанства в интеллигенцию. Всю жизнь владело им смирение и гордость самоучки: преувеличенное смирение перед людьми более образованными, чем он, и смиренная гордость за собственные, добытые вопреки помехам, познания.
Семья Бориса Житкова, товарища его по гимназии, была первой интеллигентной семьей, с которой он встретился в жизни. Было ему тогда двенадцать‑тринадцать лет. Там играли на фортепьяно и на скрипке. Там множество книг, атласов, карт; там у детей даже собственный микроскоп… Как рассказывает Корней Иванович в своих воспоминаниях, глава семьи и все ее члены обладали необыкновенным свойством: мало того, что они сами любили книги, они любили давать их другим. В первый же раз дали ему «Дон Кихота».
«Я не знал ничего ни о чем»[2], – сообщает он, рассказывая про свое отрочество.
Но узнавать он хотел! Как можно больше, скорее, прочнее.
В юности по дрянному самоучителю он выучился английскому сам и испытывал счастливое изумление, переводя Уолта Уитмена или свободно читая «Vanity Fair» Текке‑рея. В двадцать один год он отправился в Лондон корреспондентом одесской газеты; просиживал там с утра до вечера в библиотеке Британского музея – учился, наверстывал упущенное.
«