Теодор Драйзер
Американская трагедия
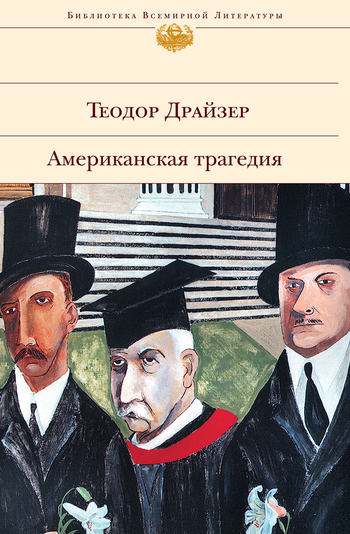
Текст предоставлен издательством https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=126272
«Американская трагедия»: Эксмо; Москва; 2010
ISBN 978‑5‑699‑34740‑7
Аннотация
Роман «Американская трагедия» – вершина творчества выдающегося американского писателя Теодора Драйзера. Он говорил: «Никто не создает трагедий – их создает жизнь. Писатели лишь изображают их». Драйзеру удалось так талантливо изобразить трагедию Клайва Грифитса, что его история не оставляет равнодушным и современного читателя. Молодой человек, вкусивший всю прелесть жизни богатых, так жаждет утвердиться в их обществе, что идет ради этого на преступление.
Теодор Драйзер
Американская трагедия
Апология слабости, или Волки и овцы
Мир испокон веку живет по законам джунглей: кто смел, тот и съел, победитель получает все, а побежденного и слабого доедают волки – санитары леса. Хорошо живется тем, кого с рождения греет солнце финансового благополучия, кому не нужно думать о пути наверх – он уже пройден и утоптан, остается лишь расширить и слегка удлинить колею. А каково обыкновенному человеку, не гению и не супермену, если хочется жить не хуже некоторых, а впереди только вечное безденежье, скучная и непрестижная работа и сознание собственной малости? Бальзак в такой ситуации предложил двум своим молодым героям – Бьяншону и Растиньяку – нравственную задачку из Руссо: где‑то в Китае живет старый мандарин, которого ты можешь умертвить, не пошевелив и пальцем, а взамен получишь вожделенное богатство. Бьяншон мандарина пожалел, а вот Растиньяк своего таки додавил…
Этой темой – вполне заурядный человек перед лицом нравственного соблазна, толкающего его на преступление, – американский писатель и журналист Теодор Драйзер интересовался давно. Еще с начала 1890‑х годов он стал собирать газетные вырезки, посвященные историям убийств, совершенных бывшими любовниками, когда прежнее увлечение становилось помехой на пути к выгодному браку.
В 1892 году в Сент‑Луисе молодой человек, работавший на парфюмерной фабрике, отправил на тот свет девушку‑работницу, подарив ей отравленные конфеты. Оказалось, что он встречался с ней, хотя и не торопился с предложением о свадьбе – девушка происходила из бедной семьи. Когда к нему стала проявлять вовсе не праздный интерес богатая аристократка, юноша решил избавиться от своей «прежней» и вполне преуспел в этом – бедняжку спасти не удалось.
Спустя год по приговору суда был казнен другой переборчивый жених, нью‑йоркский врач К. Харрис. Он тоже отравил бедную возлюбленную, подыскав ей молодую, привлекательную и состоятельную замену. Еще через шесть лет газеты облетела история богатого яхтсмена Роланда Молинэ. В конце концов Молинэ был оправдан, но угодил на несколько лет за крепкие решетки психиатрической клиники. Драйзер внимательно ознакомился с полной стенограммой суда по этому делу, состоявшегося в 1899 году, и сделал многочисленные подробные выписки из протокола судебного заседания.
В 1907 году всеамериканский резонанс получило еще одно преступление подобного рода. Бедный чиновник Честер Джиллет, работавший на фабрике своего богатого дяди, встречался с работницей этой же фабрики Грейс Браун. В результате Грейс забеременела, а Честер, как на грех, познакомился через своих родственников с богатой симпатичной девушкой, которой он к тому же еще и понравился. Если исходить из современных прогрессивных взглядов на эту проблему, то ничего фатального в сложившейся ситуации не было, но в набожной Америке начала ХХ века на добрачные связи смотрели несколько по‑иному. Честер очутился перед нелегким выбором. В конце концов он дал обещание Грейс жениться на ней и пригласил суженую прогуляться в лодке по озеру. Добравшись до глубокого места, Честер оглушил Грейс теннисной ракеткой, перевернул лодку с девушкой и вплавь добрался до берега.
Всего архив Драйзера содержал материалы пятнадцати подобных дел. Особняком в его коллекции была история бедного священника К. Ричесена, выходца из простой семьи. У него была любовница, молоденькая прихожанка Эвис Линнел, которую он отравил, когда увидел, что девушка начала посматривать в другую сторону.
В 1915 году Драйзер несколько раз начинал писать роман на эту тему, взяв за основу историю Молинэ. Затем он написал шесть глав на материале дела священника Ричесена, однако в конце концов остановился на истории Честера Длиллета и Грейс Браун. Особенно это сходство проявилось в третьей книге романа. Многие из речей на судебном процессе Клайда восходят к реальным выступлениям на суде над Джиллетом.
Название произведения тоже неоднократно менялось: «Повеса», «Мираж» и лишь затем – «Американская трагедия».
Хорэс Ливрайт, постоянный издатель Драйзера, объявил, что новый роман писателя увидит свет осенью 1924 года. Однако Драйзер, как всегда, на сроки не ориентировался. Он снова и снова ездил в те места, где должно было разворачиваться действие романа, многократно переписывал целые главы. В итоге окончание романа было передано в издательство только в середине июля 1925 года, но и это было еще далеко не все. Получив типографские гранки, Драйзер продолжил работу над романом, приводя издателя в отчаяние масштабами правки.
В конце октября 1925 года Драйзер объявил, что последние главы книги никуда не годятся и их нужно переписать. Он добился разрешения побеседовать с Антони Понтано, ожидавшим исполнения вынесенного ему смертного приговора за убийство. Это помогло писателю ощутить специфическую атмосферу камеры смертников, куда в итоге попал Клайд Грифитс. Последним препятствием стали споры по поводу названия романа: Ливрайт упрашивал Драйзера заменить труднопроизносимую фамилию героя – Грифитс – на что‑нибудь вроде Эвин или Вернер, да так и назвать книгу. Драйзер остался непоколебим, и в середине декабря 1925 года роман «Американская трагедия» появился на полках книжных магазинов.
Книга сразу же попала в разряд литературных сенсаций, а ее автор стал знаменитостью. Не в пример другим романам Драйзера, «Американскую трагедию» критика поначалу встретила очень благожелательно. Читающая публика Америки и Европы проголосовала деньгами, сразу зачислив роман в разряд мировых шедевров. Апофеозом триумфального шествия «Американской трагедии» по стране стало включение романа в состав курса литературы в ряде университетов США.
Кружкой дегтя стало запрещение продажи книги в Бостоне. В ответ сотрудник издательства Доналд Фрид отправился в Бостон с адвокатом и демонстративно продал один экземпляр романа лейтенанту полиции. Он был тут же задержан. Состоявшийся вскоре суд признал Фрида виновным в продаже литературы «с явной целью развратить молодежь» и приговорил его к штрафу в 100 долларов. Приговор был обжалован, новое заседание состоялось три с половиной года спустя. На этот раз присяжные вообще в глаза не видели спорной книги, но их вердикт был столь же неутешителен. Драйзер всегда раздражал ханжески настроенную Америку, и она не упускала случая хотя бы плюнуть ему в спину.
«Американская трагедия» тем временем осваивала новые рубежи. Велись переговоры о постановке фильма по роману со студией «Парамаунт», об инсценировке на Бродвее и в Европе. Интерес к роману пробудил новую волну читательского интереса к предыдущим романам писателя – «Гению», «Дженни Герхардт», «Сестре Керри». Английская книгоиздательская фирма «Констейбл энд компани» заключила с Драйзером контракт на издание всех его произведений. В результате Драйзер под руководством жены приобрел двухэтажную квартиру в центре Манхэттэна, где вскоре стали собираться по четвергам разные интересные люди – писатели, поэты, критики, артисты, бизнесмены, ученые, врачи. Человек, который в 1920 году страдал всеми комплексами «бедного, но гордого» писателя, вдруг ощутил себя обладателем целого состояния.
…И все‑таки вопрос о том, в чем «трагедия» и насколько она «американская», еще долго будоражил умы читателей и критиков. Сам Драйзер, хотя и отметал упреки в морализаторстве, ни за что не соглашался отступить от общей социально‑критической направленности романа: «Это правдивая история того, как наша действительность обходится с человеком и насколько бессилен оказывается человек против подобных сил». Как всегда, Драйзер увлекся идеей разоблачить моральные ценности Америки, продемонстрировать фальшь и примитивность «великой американской мечты». В центр романа он поставил «очень чувствительного и в то же время не слишком развитого молодого человека, который в самом начале своего жизненного пути обнаруживает, что его жизнь зажата тисками бедности и низкого социального положения, из которых он стремится вырваться, подталкиваемый своими врожденными и приобретенными страстями».
По этим признаниям чувствуется, что писатель склонен скорее оправдывать своего героя, возлагая львиную долю вины на нехорошее капиталистическое общество: зачем оно преследовало «чувствительного и не очень умного молодого человека» своими соблазнами, да еще и наказало его «бедностью и низким социальным положением»?
С одной стороны, это близко взглядам коммунистов‑социалистов, привыкших рассуждать о человеке, как о безликой расчетной единице в битве производственных отношений и производительных сил. С другой – нельзя отделаться от впечатления, что писателю по‑человечески близок подобный тип слабого человека, отнюдь не героя и не борца. Некоторые факты биографии самого Драйзера подтверждают это: дерзкий и бесстрашный в своих печатных работах, он нередко терялся в неожиданных или неловких житейских ситуациях, предпочитая сбежать, переждать, в общем – спрятаться. Не исключено, что именно в этом кроется причина сочувствия Драйзера коммунистическим идеям: он мог видеть в них спасительную и справедливую силу, которая, вопреки тысячелетней традиции, станет на защиту слабых против сильных.
Предъявлять по этому поводу какие‑либо претензии писателю или его героям бессмысленно: в одной и той же ситуации сильный духом человек берет ответственность на себя, а слабый валит ее на других и винит в своих неудачах кого угодно, кроме себя: социальную среду, бесчеловечный правящий режим, всеобщую продажность, засилье подлецов, бездарей и завистников, мафию и т. д. Важнее другое: давно нет на свете Драйзера и его непримиримых оппонентов, наши представления о мире все время меняются, а об «Американской трагедии» спорят и зачитываются ею до сих пор.
Сам Драйзер определил свой замысел так: «Я долго вынашивал в себе эту историю, ибо мне казалось, что она включает в себя все стороны нашей национальной жизни – политические махинации, общество, бизнес, секс…». Немудрено, что роман на таком материале, да еще и вышедший из‑под пера хорошего писателя, был просто обречен на успех – чья «национальная жизнь» и поныне лишена поистине гремучей смеси этих составных частей и источников?
Вадим Татаринов
Американская трагедия
Книга первая
Глава I
Летний вечер, сумерки…
Торговый центр американского города, где не менее четырехсот тысяч жителей, высокие здания, стены… Когда‑нибудь, пожалуй, станет казаться невероятным, что существовали такие города.
И на широкой улице, теперь почти затихшей, группа в шесть человек: мужчина лет пятидесяти, коротенький, толстый, с густой гривой волос, выбивающихся из‑под круглой черной фетровой шляпы, – весьма невзрачная личность; на ремне, перекинутом через плечо, небольшой органчик, каким обычно пользуются уличные проповедники и певцы. С ним женщина, лет на пять моложе его, не такая полная, крепко сбитая, одета очень просто, с некрасивым, но не уродливым лицом; она ведет за руку мальчика лет семи и несет Библию и книжечки псалмов. Вслед за ними, немного поодаль, идут девочка лет пятнадцати, мальчик двенадцати и еще девочка лет девяти; все они послушно, но, по‑видимому, без особой охоты следуют за старшими.
Жарко, но в воздухе чувствуется приятная истома.
Большую улицу, по которой они шли, под прямым углом пересекала другая, похожая на ущелье; по ней сновали толпы людей, машины и трамваи, которые непрерывно звонили, прокладывая себе путь в стремительном потоке общего движения. Маленькая группа казалась, однако, равнодушной ко всему и только старалась пробраться между захлестывавшими ее встречными потоками машин и пешеходов…
Дойдя до угла, где путь им пересекала следующая улица, – вернее, просто узкая щель между двумя рядами высоких зданий, лишенная сейчас всяких признаков жизни, – мужчина поставил органчик на землю, а женщина немедленно открыла его, подняла пюпитр и раскрыла широкую тонкую книгу псалмов. Затем, передав Библию мужчине, стала рядом с ним, а старший мальчик поставил перед органчиком небольшой складной стул. Мужчина – это был отец семейства – огляделся с напускной уверенностью и провозгласил, как будто вовсе не заботясь, есть ли у него слушатели:
– Сначала мы пропоем хвалебный гимн, и всякий, кто желает восславить Господа, может к нам присоединиться. Сыграй нам, пожалуйста, Эстер.
Старшая девочка, стройная, хотя еще и не вполне сложившаяся, до сих пор старалась держаться возможно более безразлично и отчужденно; теперь она села на складной стул и, вертя ручку органчика, стала перелистывать книгу псалмов, пока мать не сказала:
– Я думаю, мы начнем с двадцать седьмого псалма: «Как сладостен бальзам любви Христовой».
Тем временем расходившиеся по домам люди разных профессий и положений, заметив группу с органчиком, нерешительно замедляли шаг и искоса оглядывали ее или приостанавливались, чтобы узнать, что происходит. Этой нерешительностью, истолкованной как внимание, человек у органчика немедленно воспользовался и провозгласил, словно публика специально собралась здесь послушать его:
– Споем же все вместе: «Как сладостен бальзам любви Христовой».
Девочка начала наигрывать на органчике мелодию, извлекая слабые, но верные звуки, и запела; ее высокое сопрано слилось с сопрано матери и весьма сомнительным баритоном отца. Другие детишки – девочка и мальчик, взяв по книжке из стопки, лежавшей на органе, слабо попискивали вслед за старшими. Они пели, а безликая, безучастная уличная толпа с недоумением глазела на это невзрачное семейство, возвысившее голос против всеобщего скептицизма и равнодушия. В некоторых возбуждала интерес и сочувствие застенчивая девочка у органа, в других – непрактичный и жалкий вид отца, чьи бледно‑голубые глаза и вялая фигура, облаченная в дешевый костюм, выдавали неудачника. Из всей семьи одна лишь мать обладала той силой и решительностью, которые – как бы ни были они слепы и ложно направлены – способствуют если не успеху в жизни, то самосохранению. В ней, больше, чем в ком‑либо из остальных, видна была убежденность, хотя и невежественная, но все же вызывающая уважение. Если бы вы видели, как она стояла с книгой псалмов в опущенной руке, устремив взгляд в пространство, вы сказали бы: «Да, вот кто при всех своих недостатках, несомненно, стремится делать только то, во что верит». Упрямая, стойкая вера в мудрость и милосердие той всевидящей, могущественной силы, к которой она сейчас взывала, читалась в каждой ее черте, в каждом жесте.
Любовь Христа, ты мне опорой будь,
Любовь Иисуса – праведный мой путь,–
звучно и немного гнусаво пела она, едва заметная среди громадных зданий.
Мальчик, опустив глаза, беспокойно переминался с ноги на ногу и подпевал не очень усердно. Высокий, но еще не окрепший, с выразительным лицом, белой кожей и темными волосами, он казался самым наблюдательным и, несомненно, самым чувствительным в этой семье; ясно было, что он недоволен своим положением и даже страдает от него. Его больше привлекало в жизни языческое, чем религиозное, хотя он пока еще не вполне это сознавал. Только в одном не приходилось сомневаться: у него не было призвания к тому, что его заставляли делать. Он был слишком юн, душа его – слишком отзывчива ко всякому проявлению красоты и радости, столь чуждых отвлеченной и туманной романтике, владевшей душами его отца и матери.
И в самом деле, материальная и духовная жизнь семьи, членом которой он был, не убеждала его в реальности и силе того, во что, видимо, так горячо верили и что проповедовали его мать и отец. Напротив, их постоянно тревожили всякие заботы, и прежде всего материальные. Отец всегда читал Библию и выступал с проповедями в различных местах, а главным образом в «миссии», расположенной неподалеку отсюда, – он руководил ею вместе с матерью. В то же время, насколько понимал мальчик, они собирали деньги от разных деловых людей, интересующихся миссионерской работой или склонных к благотворительности и, видимо, сочувствовавших деятельности отца. И все же семье приходилось туго: всегда они были неважно одеты, лишены многих удобств и удовольствий, доступных другим людям. А отец и мать постоянно прославляли любовь, милосердие и заботу Бога о них и обо всех на свете. Тут явно что‑то не так. Мальчик не умел разобраться в этом, но все же относился к матери с невольным уважением; он ощущал внутреннюю силу и серьезность этой женщины так же, как и ее нежность. Несмотря на тяжелую работу в миссии и на заботы о семье, она умела оставаться веселой или, по крайней мере, не теряла бодрости; она часто восклицала с глубоким убеждением: «Господь позаботится о нас!» или: «Господь укажет нам путь!» – особенно в такие времена, когда семья уж слишком нуждалась. И, однако, – это понимали и он, и другие дети, – Бог не указывал им никакого выхода даже тогда, когда его благодетельное вмешательство в дела семьи было крайне необходимо.
В этот вечер, бродя по большой улице вместе с сестрами и братишкой, мальчик горячо желал, чтобы все это кончилось раз и навсегда или, по крайней мере, чтобы ему самому не приходилось больше в этом участвовать. Другие мальчики не занимаются такими вещами, есть тут что‑то жалкое и даже унизительное. Не раз, еще прежде чем его стали вот так водить по улицам, другие ребята дразнили его и смеялись над его отцом за то, что тот всегда во всеуслышание распространялся о своей вере и убеждениях. Отец всякий разговор начинал словами: «Хвала Господу», – и все ребята по соседству с домом, где они жили, когда мальчику было семь лет, выкрикивали, завидев отца:
– Грифитс, Грифитс! «Хвала Господу», Грифитс!
Или кричали вслед мальчику:
– Вон у этого сестра играет на органчике! А еще на чем она играет?
И зачем только отец твердит повсюду свое «хвала Господу»! Другие так не делают.
В нем, как и в дразнивших его мальчишках, говорило извечное людское стремление к полному сходству, к стандарту. Но его отец и мать были не такие, как все; они всегда слишком много занимались религией, а теперь, наконец, сделали ее своим ремеслом.
В этот вечер, на большой улице с высокими домами, – шумной, оживленной, полной движения, – он со стыдом чувствовал себя вырванным из нормальной жизни и выставленным на посмешище. Великолепные автомобили проносились мимо, праздные пешеходы спешили к занятиям и развлечениям, о которых он мог лишь смутно догадываться, веселые молодые пары проходили со смехом и шутками, малыши глазели на него, – и все волновало ощущением чего‑то иного, лучшего, более красивого, чем его жизнь, или, вернее, жизнь его семьи.
В праздной и зыбкой уличной толпе, которая непрестанно переливалась вокруг, иные, казалось, чувствовали, что в отношении этих детей допускается психологическая ошибка: некоторые подталкивали друг друга локтем, более искушенные и равнодушные поднимали бровь и презрительно улыбались, а более отзывчивые или опытные говорили, что присутствие детей здесь излишне.
– Я вижу здесь этих людей почти каждый вечер – два‑три раза в неделю уж во всяком случае. – Это говорит молодой клерк. Он только что встретился со своей подругой и ведет ее в ресторан. – Наверно, какое‑нибудь шарлатанство под видом религии, – прибавляет он.
– Старшему мальчишке это не по душе. Видать, он чувствует себя не в своей тарелке. Не годится такого мальчонку выставлять напоказ, коли ему неохота. Он же ничего не смыслит в этих делах, – говорит праздный бродяга лет сорока, один из своеобразных завсегдатаев торгового центра города, обращаясь к остановившемуся рядом добродушному на вид прохожему.
– Да, я тоже так думаю, – соглашается тот, заинтересованный незаурядным лицом мальчика. Смущение и неловкость видны были на этом лице, когда мальчик поднимал голову; нетрудно было понять, что бесполезно и бессердечно принуждать существо с еще не установившимся характером, неспособное постичь психологический и религиозный смысл всего этого, к участию в подобных публичных выступлениях, более подходящих для людей зрелых и вдумчивых.
И все же ему приходилось подчиняться.
Двое младших детей – девочка и мальчик – были слишком малы, чтобы по‑настоящему понимать, чем они тут занимаются, и им было все равно. Старшей же девочке у органчика, видимо, даже нравилось внимание зрителей и их замечания о ее наружности и пении, так как не только посторонние люди, но даже отец и мать не раз уверяли, будто у нее прелестный, милый голосок, хотя это было не совсем верно. Голос был не так уж хорош, но все они плохо разбирались в музыке. Девочка – слабенькая, худенькая – ничем особенно не выделялась, в ней не заметно было и признаков духовной силы или глубины. Не удивительно, что пение оказалось для нее единственной возможностью хоть немного выделиться и обратить на себя внимание.
А родители твердо решили способствовать, насколько возможно, духовному очищению общества, и, когда первый псалом был окончен, отец начал разглагольствовать о той радости, которая нисходит на грешников, освобождающихся от тяжких мук совести по воле Господа, благодаря Его милосердию и любви Христовой.
– Все люди – грешники перед лицом Господа, – провозгласил он. – Доколе они не покаялись, доколе не приняли Спасителя, Его любовь и всепрощение, не ведать им счастья, душевной чистоты и непорочности. Друзья мои! Если б вы знали, какой мир и покой нисходят на того, кто всем сердцем постигает, что Христос жил и умер ради всех нас, что Он сопровождает нас ежедневно и ежечасно, при свете и во мраке, на рассвете и на закате дня, дабы поддержать и укрепить нас для трудов и забот, вечно стоящих перед нами. Да, всех нас на каждом шагу подстерегают западни и ловушки! Но как утешительно сознание, что Христос всегда с нами, дабы советовать нам и помогать, ободрять нас, исцелять наши раны и облегчать наши муки! Благая мысль – какой она дарит покой и довольство!
– Аминь! – торжественно заключила жена.
И старшая дочь Эстер – домашние звали ее Эста, – чувствуя, как важно им привлечь внимание публики, эхом повторила за матерью:
– Аминь!
Клайд, старший мальчик, и двое младших детей смотрели в землю и лишь изредка взглядывали на отца; может быть, думалось им, все, о чем он говорит, и верно и важно, но все же не столь значительно и привлекательно, как многое другое в жизни. Они уже наслушались всего этого, и их юный и пылкий ум ждал от жизни большего, чем вот эти проповеди на улице и в миссии.
В конце концов после второго псалма и после небольшой речи, в которой миссис Грифитс упомянула о руководимой ими миссии, помещавшейся на ближайшей улице, и об их служении заветам Христа вообще, публику осчастливили третьим псалмом и одарили брошюрками о спасительных трудах миссии, а Эйса Грифитс, глава семьи, собрал кое‑какие доброхотные даяния. Органчик закрыли, складной стул сложили и вручили Клайду, Библию и книжечки псалмов собрала миссис Грифитс, и, когда органчик был перекинут на ремне через плечо Грифитса‑старшего, семейство направилось к миссии.
Все это время Клайд говорил себе, что больше не желает заниматься этим, что он и его родные смешны и не похожи на других людей; «уличные паяцы» – сказал бы он, если бы мог полностью выразить свою досаду на вынужденное участие в этих выступлениях. Он постарается никогда больше в них не участвовать. Чего ради его таскают за собой? Такая жизнь не по нем. Другим мальчикам не приходится заниматься подобными вещами. Решительнее, чем когда‑либо, он помышлял о бунте, который помог бы ему отделаться от всего этого. Пускай старшая сестра ходит по улицам с органом, – ей это нравится. Младшие сестренка и братишка слишком малы, им все равно. Но он…
– Кажется, сегодня вечером публика была несколько внимательнее, чем обычно, – заметил Грифитс, шагая рядом с женой. Очарование летнего вечера подействовало на него умиротворяюще и заставило благоприятно истолковать обычное безразличие прохожих.
– Да, в четверг только восемнадцать человек взяли брошюры, а сегодня двадцать семь.
– Любовь Христа совершит свое дело, – сказал отец, столько же стараясь подбодрить себя, как и жену. – Мирские утехи и заботы владеют великим множеством людей, но, когда скорбь посетит их, иные из посеянных ныне семян дадут всходы.
– Я в этом уверена. Мысль эта всегда поддерживает меня. Скорбь и тяжесть греха в конце концов заставят некоторых понять, что путь их ложен.
Они повернули в узкую боковую улицу, из которой ранее вышли, и, миновав несколько домов, вошли в желтое одноэтажное деревянное здание, широкие окна которого и два стекла входной двери были покрыты светло‑серой краской. Поперек обоих окон и филенок двойной двери было написано: «Врата упования. Евангелическая миссия. Молитвенные собрания по средам и субботам от 8 до 10 часов вечера. По воскресеньям – в 11, 3 и 8 часов. Двери открыты для всех». Под этой надписью на каждом окне были начертаны слова: «Бог есть любовь», а еще ниже помельче: «Сколько времени ты не писал своей матери?»
Маленькая группа вошла в желтую невзрачную дверь и скрылась.
Глава II
Вполне можно предположить, что у семьи, которая так бегло представлена читателю, должна быть своя, отличная от других, история; так в действительности и было. Семья эта представляла собой одну из психических и социальных аномалий, – в ее побуждениях и поступках мог бы разобраться только самый искусный психолог, да и то лишь при помощи химика и физиолога. Начнем с Эйсы Грифитса – главы семьи. Это был человек неуравновешенный и не слишком одаренный – типичный продукт своей среды и религиозных идей, неспособный мыслить самостоятельно, но восприимчивый, а потому и весьма чувствительный, к тому же лишенный всякой проницательности и практического чутья. В сущности, трудно было уяснить, каковы его желания и что, собственно, привлекает его в жизни. Жена его, как уже говорилось, была тверже характером и энергичнее, но едва ли обладала более верным или более практическим представлением о жизни. История этого человека и его жены интересна для нас лишь постольку, поскольку она касается их сына, двенадцатилетнего Клайда Грифитса. Скорее от отца, чем от матери, этот подросток унаследовал некоторую чувствительность и романтичность; вдобавок он отличался пылким воображением и стремлением разобраться в жизни и постоянно мечтал о том, как он выбился бы в люди, если бы ему повезло, о том, куда бы поехал, что повидал бы и как по‑иному бы жил, если бы все было не так, а эдак. До пятнадцати лет Клайда особенно мучило (и ему еще долго потом тяжело было об этом вспоминать), что призвание или, если угодно, профессия его родителей была в глазах других людей чем‑то жалким и недостойным. Родители проповедовали на улицах и руководили евангелической миссией в разных городах – в Грэнд‑Рэпидсе, Детройте, Милуоки, Чикаго, а последнее время в Канзас‑Сити; и всюду окружающие, – по крайней мере мальчики и девочки, которых он встречал, – с явным презрением смотрели и на него, и на его брата и сестер – детей таких родителей! Не раз к неудовольствию отца и матери, которые никогда не одобряли подобных проявлений характера, он вступал в драку с кем‑нибудь из мальчишек. Но всегда, побежденному или победившему, ему ясно давали понять, что другие не уважают труд его родителей, считают их занятие жалким и никчемным. И он непрерывно думал о том, что станет делать, когда получит возможность жить самостоятельно.
Родители Клайда оказались совершенно неспособными позаботиться о будущности своих детей. Они не понимали, что каждому из детей необходимо дать какие‑то практические или профессиональные знания; наоборот, поглощенные одной идеей – нести людям свет евангельской истины, они даже не подумали устроить детей учиться в каком‑нибудь одном городе. Они переезжали с места на место, часто в разгар учебного года, в поисках более широкого поля для своей религиозной деятельности. Порою эта деятельность вовсе не приносила дохода, а поскольку Эйса был не в состоянии заработать много, работая садовником или агентом по продаже новинок, – только в этих двух занятиях он кое‑что смыслил, – в такие времена семья жила впроголодь, одевалась в лохмотья, и дети не могли ходить в школу. Но что бы ни думали о таком положении сами дети, Эйса и его жена и тут сохраняли неизменный оптимизм; по крайней мере, они уверяли себя в том, что сохраняют его, и продолжали непоколебимо верить в Бога и его покровительство.
Семья Грифитсов жила там же, где помещалась миссия. И квартира и миссия были достаточно мрачны, чтобы вызвать уныние у любого юного существа. Они занимали весь нижний этаж старого и неприглядного деревянного дома в той части Канзас‑Сити, что лежит к северу от Бульвара Независимости и к западу от Труст‑авеню; дом стоял в коротком проезде под названием Бикел, ведущем к Миссури‑авеню, – улице подлиннее, но такой же невзрачной. И все по соседству очень слабо, однако мало приятно отдавало духом деловой коммерческой жизни, центр которой давно передвинулся к юго‑западу от этих мест. Миссия Грифитсов находилась кварталов за пять от того перекрестка, где дважды в неделю эти энтузиасты выступали под открытым небом со своими проповедями.