Вандана Сингх
Сутра млечного пути
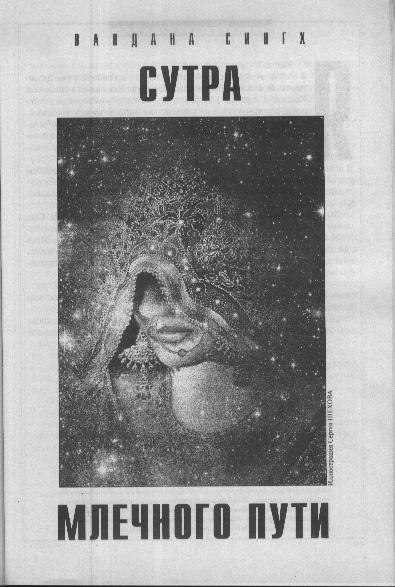
Иллюстрация Сергея ШЕХОВА
Я Сомадева[1].
Я был поэтом, рассказчиком историй, но сейчас я уже давно мертв. Я жил в одиннадцатом веке эры Единения в северной Индии. Тогда мы могли только мечтать о волшебном устройстве удан-хатола — корабле, летающем между звездами.
Тогда небесные видьядхары[2]считались сказочными обитателями иных миров. И единственными крыльями, с помощью которых я мог совершать свои странствия, были крылья воображения…
В кого или во что я превратился сейчас, когда полеты между мирами стали обычным делом? Кто заточил меня в это маленькое, тесное пространство с гладкими металлическими стенами и круглыми окошками, за которыми нет ничего, кроме бесконечных звездных полей?
Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы узнать Ишу. Она лежит на койке, ее волосы разметались по подушке, она глядит на меня. И я вспоминаю первое свое пробуждение и замешательство. Иша сказала, что она воссоздала меня. Что она влюбилась в меня через пятнадцать веков после моей смерти, когда прочла «Катхасаритсагару» — «Океан сказаний».
— Ты помнишь? — тревожно спросила она.
— Конечно, помню, — ответил я, ибо в это же мгновение вся моя память вернулась ко мне.
«Катхасаритсагара» — главное дело моей жизни. Я исходил всю северную Индию, вылавливая слухи о потерянных рукописях, рисковал жизнью, выспрашивая убийц и демонов, вытягивал истории из старух и принцев, торговцев и нянек. Я собрал все эти рассказы и сложил из них сложнейший лабиринт. Повествования в моей книге многоступенчаты: главный рассказчик представляет историю, персонажи которой, в свою очередь, рассказывают собственные истории и так далее. Одни ссылаются на рассказы других, и таким образом каждый становится не только повествователем, но и участником событий. А переплетающиеся нити, любая из которых многократно связана с другими, образуют сложно вытканный гобелен. Рассказ же о создании самого «Катхасаритсагары» — это исходная история для всех них.
Все началось из-за некоей моей тайны и стало для меня самым главным делом. Я ткал паутину историй, чтобы спасти женщину, которую любил. Я и подумать не мог, что спустя пятнадцать столетий после моей смерти другая женщина, совсем не похожая на мою возлюбленную, прочтет мои слова и влюбится в меня.
Тогда, при моем пробуждении, Иша сказала, что воссоздала меня затем, чтобы я составил ей компанию в межзвездном путешествии. Она желала стать Сомадевой своего времени и собирала истории, перелетая от планеты к планете в Галактике, которую мы называем Млечным Путем. Каково было мне узнать, что существуют другие миры, населенные людьми и иными существами, и каждый из этих миров кишит своими легендами и преданиями! Иша поведала мне, что мой дух заключен в кристаллическую шкатулку, вроде тех, в которых хранят драгоценности. Шкатулка снабжена длинными отростками, подобными усикам насекомых, так что я могу видеть, слышать и обонять — образно говоря, ощутить на вкус любую из посещаемых нами планет.
— И как же ты вырвала меня из объятий смерти? Восстановила мою душу по историческим хроникам? Или эта волшебная шкатулка — просто моя очередная реинкарнация?
Она покачала головой.
— Это не магия, Сомадева. Боюсь, я не смогу этого объяснить. Но скажи… мне просто необходимо это знать. Почему ты не вписал самого себя в «Катхасаритсагару»? И кто он на самом деле, этот твой рассказчик, Гунадхья?[3]Я чувствую — здесь какая-то загадка…
Она все время задавала мне вопросы. Когда она наедине со мной, то часто бывает взволнована. Мое сердце тянется к ней, к этому потерянному ребенку отдаленной эпохи.
Гунадхья — главный рассказчик «Катхасаритсагары», создание, в чем-то схожее с европейскими гоблинами. Согласно легенде, он был любимцем самого Шивы, а на Земле родился из-за некоего проклятия. Его предназначением было поведать миру великую историю, называемую «Брхат-катха», ничтожной частью которой является «Катхасарит-сагара». Но ему запрещено было говорить или писать на санскрите и на любом другом человеческом языке. Странствуя однажды по лесу, Гунадхья наткнулся на стаю пожирателей плоти пишачей[4]. Гунадхья затаился и, слушая их разговоры, выучил этот странный язык. Со временем он создал великую книгу «Брхат-катха» на языке пишачей. Написана она была на древесной коре его собственной кровью.
Говорят, что его принудили сжечь рукопись и только в самый последний миг некий ученик Гунадхьи успел выхватить из огня одну часть. Я годами прослеживал судьбу этой уцелевшей части, но смог найти лишь несколько разрозненных страниц и записать обрывочные воспоминания тех, кто видел подлинник или кому рассказывали связанные с ним истории. Из этого немногого я и воссоздал то, что назвал «Катхасаритсагара». В своей работе я следовал нашей древней традиции, по которой автор составляет, соединяет и приукрашивает разные истории — как записанные, так и устные. Он наделяет своим сознанием множество персонажей-рассказчиков, чтобы направлять их повествование.
В наиболее древних работах автор идет еще дальше: он сам включается в действие, уподобляясь выходящему на сцену актеру.
В этом единственном пункте я отошел от традиции. Я не участвую ни в одной из историй «Катхасаритсагары». И вот Иша хочет знать почему.
Временами я ощущаю своего рассказчика Гунадхью, как человек может ощутить стоящее рядом привидение. Гунадхья имеет со мной какую-то связь, природа которой мне не ясна. Все эти годы он являлся мне во снах, заполнял пробелы в моих повествованиях, отвергая и опровергая уже записанное. Он шепот в моих ушах; мой язык то и дело повинуется его приказам. Он постоянно что-то утаивает, терзает меня тишиной между словами. Возможно, он ждет подходящего момента.
— Я не знаю, — отвечаю я Ише. — Мне неизвестно, почему я не вставил самого себя в повествование. Понимаешь, я думал этого будет достаточно: сплести паутину из слов, чтобы поймать в нее свою царицу. Чтобы спасти ее от смерти…
— Расскажи мне про нее, — просит Иша. Она знает все про Сурьявати, но хочет услышать это от меня. Снова и снова.
Я вспоминаю…
Высокий балкон, открытый, незарешеченный. Горный воздух пьянит как вино. Во внутреннем дворе под нами сушатся на солнце большие оранжевые кучи абрикосов. За стенами двора слышатся голоса и лязг оружия — солдаты упражняются в своем смертоносном ремесле. Царь готовится к сражению с собственным сыном, не желающим терпеливо дожидаться его смерти и жаждущим захватить трон. Но я здесь не из-за этого, а ради царицы. Она стоит на балконе у огромной каменной вазы, поливая священный базилик — тулси. На ней длинная юбка глубокого красного цвета и зеленая шаль поверх изысканно расшитой туники. Ее тонкие пальцы дрожат, ее взгляд, когда она поднимает на меня глаза, полон боли. Служанки суетятся вокруг, но они не в силах облегчить ее терзания. Наконец она садится, натягивая на лицо край тонкой шелковой вуали. Легкий жест кистью руки. Знак, что я должен начать рассказ, который на какое-то время сумеет прогнать тревожные складки с прекрасного чела.
Именно ради нее я сплетаю паутину повествований. Каждый раз это помогает царице забыть про свое отчаяние и прожить еще один день. Всякий раз она оказывается пойманной в мою паутину и очаровывается ею все больше и больше. Но бывают дни, когда сжигающая ее тревога пересиливает и разбивает заклятие повествования, и тогда я нужен царице для другого дела. Ради любви к ней я должен принимать участие в древнем и опасном ритуале. Но сегодня, этим днем, о котором я рассказываю Ише, Сурьявати просто хочет послушать историю.
Думаю, я допустил ошибку — тогда, пятнадцать веков назад. Если бы я вписал самого себя в «Катхасаритсагару», возможно, Сурьявати поняла бы, как сильно я хотел, чтобы она осталась в живых. В конце концов, Вьяса, записавший бессмертную «Махабхарату», в той же степени был участником событий, как и их летописцем. Да и Вальмики, сочинивший «Рамаяну», тоже стал одним из ее персонажей.
Что ж, впишу-ка я самого себя вот в это повествование. Может, в этом спрятан секрет, как управлять событиями. И я сам, в конце концов, постигну смысл происходящего.
Призрак Гунадхьи рядом со мной молчаливо кивает в знак согласия.
Иша сидит в отсеке корабля, пальцами теребит волосы, ее взгляд озабочен. Она всегда выглядит обеспокоенной. Она уже много поведала мне о себе, но я могу только гадать, чего же она на самом деле добивается, составляя своды легенд и мифов обитаемых миров. Когда я странствую по лабиринту историй, созданному мной же, я, в конце концов, надеюсь найти свою Ишу, свою Сурьявати.
Ишу, насколько я успел понять, особенно занимают истории о происхождении, отыскании предков. Думаю, это потому, что она ничего не знает о собственной семье, о своем прошлом. В молодости она стала жертвой похитителей прошлого. Налетчики забрали всю ее память. И теперь ее воспоминания разбросаны по представлениям балаганных актеров, беседам чужаков, фальшивой памяти людей, пожирающих чужие личности и чужие жизни. Ее самосознание было уничтожено полностью, начисто, так что теперь она не признает эти воспоминания за свои, даже если когда-нибудь на них натолкнется. Что за ужасная и поразительная эпоха, в которой возможны такие вещи!
В своих странствиях Иша до сих пор так и не смогла узнать, к какому народу принадлежала. Единственная зацепка, ниточка, связывающая ее с прошлым, — это почти два десятка потрепанных древних книг. 18 томов «Катхасаритсагары». Видимо, они принадлежали ее семье, и это все, что у нее осталось после того налета. Страницы пожелтели и стали ломкими, текст выцвел. В юности Иша провела много времени, заново осваивая утраченное искусство чтения, изучая утерянные рукописи, написанные на мертвых языках. Под обложкой первого тома можно различить бледную надпись: имя — Вандана. На полях в разных местах текста есть замечания, сделанные той же рукой. «Это какой-то мой предок», — думает Иша.
Вот почему Ишу так захватывают истории о происхождении. Она надеется, внимая рассказам, откуда кто родом, когда-нибудь отыскать что-нибудь и о самой себе.
Все это я узнал во время нашего первого путешествия. После того как она вернула меня к жизни (если это можно так назвать), мы отправились на планету, именуемую Джесанли, на поверхности которой располагалось всего несколько городов-государств, и все они были с нами неприветливы. Никто не захотел нас принять, кроме племени пустынных кочевников киха, имевших давние обычаи гостеприимства. Жители этой планеты не продвинулись хоть сколь-нибудь значительно в искусствах, инженерном деле или науке. Но у киха имелись странные поэтические предания. Вот первое из них.
Некогда наши предки жили в горячем и перенаселенном месте почти в полной темноте. Они были не похожи на нас. Не мужчины и женщины, а какие-то другие сущности. Полуслепые предки жили в постоянном страхе, и если случалось, что один из них оказывался слишком близко к другому, они тут же в ужасе отпрыгивали друг от друга, как будто боялись напороться на чужака, а то и врага, стремящегося ворваться в их личное пространство. Представьте себе множество людей, лишенных дара речи и вынужденных жить в тесной и темной пещере, где ужасно каждое случайное столкновение во мраке — вот каков был образ жизни наших предков. Всегдашний страх стал их сущностью, стал чем-то вроде тяжелого груза в душе.
Но время от времени двое из них, а то и больше, сходились достаточно тесно, чтобы суметь смутно разглядеть друг друга своими почти бесполезными глазами. И тогда они получали возможность узнать самих себя в других, они могли коснуться другого, привлечь его к себе. Со временем у них появились небольшие, но прочные семьи. И теперь им уже не было нужды таскать в себе бремя своего страха, который, будучи отпущен на волю, превращался в свет.
Да-да. Вы правильно услышали. Хотя они и продолжали жить в своем похожем на топку мире, все в той же чудовищной тесноте, но то, что от них вопреки всему исходило, было светом.
Когда Иша услышала это предание, ее глаза засверкали. Она сказала людям киха, что у этой легенды есть скрытый смысл, в ней содержится секрет того, как горят звезды. Киха вежливо выслушали объяснение и поблагодарили Ишу. Она хотела узнать, где они впервые услышали эту сказку, но вопрос казался им бессмысленным. Позже Иша сказала мне, что, несмотря на свой образ жизни, киха наверняка когда-то были обитателями неба.
Эту историю киха рассказали Ише в благодарность за принесенные дары. Поэтому, когда она объяснила суть и смысл их собственного предания, им пришлось рассказать еще одну легенду, чтобы сравнять счет. Делали они это с явной неохотой, поскольку древнее предание не тот подарок, которым легко одаривают чужака.
Вот эта вторая история.
В начале всего было лишь одно-единственное существо по имени Тот-У-Которого-Нет-Имени. Безымянный был громаден, бесформен и неразличим, он покоился в неподвижности и ждал. В месте его обитания не было тьмы, потому что не было и света.
Постепенно Безымянный устал от такого существования. Он спросил, обращаясь в никуда: «Кто я такой?». Но ответа не последовало, поскольку не было никого другого, кроме него самого. Тогда он сказал самому себе: «Одиночество — тяжкое бремя. Я разделюсь на части и создам себе товарищей».
И тогда Безымянный собрался с силами, сжался, а потом яростно распростерся по всем направлениям, истончаясь по мере растяжения. Это был самый великий взрыв из всех известных: из разлетевшихся в разные стороны осколков зародились люди, и животные, и звезды.
И теперь, когда свет падает на гладь вод, или когда человек пускает стрелу в другого человека, или мать поднимает на руки ребенка, это Тот-Кто-Был-Некогда-Безымянным задает мелкую частичку своего великого вопроса: «Кто я такой?».
Тем не менее Некогда-Безымянный продолжает расширяться, стремясь за горизонты того, что мы знаем, и того, чего не знаем, дробя себя на все более мелкие части, подобно тому, как разлетаются брызги от волн, разбивающихся о прибрежные скалы. Чего он ищет? Куда стремится? Кто скажет?
И от этой истории Иша тоже пришла в восторг. Она хотела рассказать киха, что на самом деле это второе предание повествует о рождении Вселенной, но я ее отговорил. Для киха совершенно не важно, что реально, а что нет. Для них существуют лишь легенды и предания, а во Вселенной достаточно места, чтобы вместить их все.
Позже Иша спросила меня:
— Как могло случиться, что киха забыли о том, как некогда они странствовали среди звезд? Эти два предания содержат суть всех наук, это такие замаскированные виджьян-шастры[5]. Неужели память так ненадежна и недолговечна?
Она прикусила губу, и я понял, что она думает о своем собственном утраченном прошлом. В истории моей жизни тоже есть провалы, которые мне нечем заполнить.
Истории, из которых составлена «Катхасаритсагара», не похожи на сказки киха. У царицы Сурьявати всегда было серьезное выражение лица, она проводила много времени в размышлениях о природе Господа Шивы. Чтобы хоть как-то облегчить ее участь, я собирал рассказы об обычных, несовершенных смертных и о высших существах: о сплетничающих женах, об обитающих в небе видьядхарах, способных менять свое обличье, об опасных и добрых зверях, населяющих великие леса. Предание гласит, что впервые их поведал миру сам Шива. Они совершенно не похожи на сказки киха.
Ише еще предстояло многому научиться! Как и Сурьявати, она скрытная женщина. Она изо всех сил скрывает от мира свою боль. Ее отношения с киха безличны, она соблюдает дистанцию, чтобы не сказать — держится отстраненно. На ее месте я бы погостил в их жилищах, пожил бы с ними одной жизнью, послушал бы их разговоры и сплетни. Выяснил бы, кто кого любит, какие радости и горести принес очередной сезон, есть ли вражда между кланами. Меня мало занимали космические драмы о богах и героях.
Однако третье предание киха не похоже на два первых. И мне непонятен его смысл.
Однажды во мраке брел человек и вышел на берег, где горел огонь. Он подошел поближе и увидел другого — весь как будто из света, он вертелся вокруг себя, как пьяный. Первый, согревшись возле огненного человека, хотел заговорить с ним, но огненный его не замечал. Он продолжал вертеться на месте, а первый, чтобы видеть его лицо, вынужден был, выкрикивая свои вопросы, бегать вокруг огненного. А еще там были три маленькие кусачие мошки, которые не осмеливались потревожить огненного человека, но зато хотели покусать щеки другого, и поэтому они кружили вокруг его головы, а он все отмахивался от них, но они от него не отставали и следовали за ним, пока человек не забыл про них, и тогда они смогли его ужалить.
Что дальше?
А дальше ничего. Все они, все пятеро, по-прежнему еще находятся на темном берегу и продолжают свой танец.
Иша считает это довольно поздней историей о происхождении племени. Она полагает, что предки народа киха явились с планеты, у которой было три луны. То был мир, долгое время летевший в одиночестве сквозь космический мрак, пока не попал в объятия какой-то звезды. Я слышал истории про такие миры — бродячие планеты, у которых нет своего светила-пастыря. Вполне возможно, одна из них прибилась к какому-то солнцу. Эту сказку Ише по секрету рассказала какая-то девочка, когда мы уже готовились к отлету. Она хотела сделать нам какой-нибудь подарок, а это все, что у нее было.
Если Иша права, то киха рассказали нам эти истории не в том порядке. Надо их так расположить: рождение Вселенной, возникновение их солнца и появление около него их собственной планеты.
Однако все эти старые истории имеют столько же значений и смыслов, сколько звезд на небе. Пришпиливать к любой из них единственное объяснение — значит, совершать ошибку. Возьмем второе сказание. С тем же успехом можно рассудить, что в нем под видом космологической теории передаются некоторые философские идеи из древних индийских книг, называемых «Упанишадами». В другой своей жизни я был знатоком санскрита.
А еще важно то, что мы извлекаем из этих историй — какой смысл мы там видим, какое значение. Мы похожи на бродяг на морском берегу, которые находят здесь одну раковину, там — другую, дальше еще и еще и в конечном счете создают из них цепочку собственного изготовления.
Вот завязка истории, которую я сложил, объединив все три предания киха.
В начале Иша создала мир. Желая познать саму себя, она разорвала себя на части. Одна из таких частей — это я, Сомадева, поэт и бродяга. И мы вечно кружимся подле — создатель и создание…
Иногда я думаю, что я сам создал ее, точно в той же мере, в какой она слепила меня. И спрашиваю себя: не являемся ли мы письменными произведениями друг друга, не придаем ли материальность, всего лишь сочиняя сюжеты, каждый из которых ссылается на сюжет другого?
Возможно, киха правы: истории создают наш мир.
Я просыпаюсь и обнаруживаю себя на знакомом высоком каменном балконе. Царица глядит на меня. Между нами в глиняном сосуде горит небольшой костерок — ангити. Над ним на железной подвеске болтается черный котелок с парящим зельем.
— Не слишком ли далеко тебя занесло, мой поэт? — озабоченно спрашивает царица. — Ты говорил мне о далеких мирах и невозможных вещах. Ты произносил слова, которых я не могла понять. Это все, конечно, очень любопытно, но я всего лишь хотела узнать, что произойдет в ближайшие дни, а не то, что будет спустя целые эпохи. Я хотела…
Я в замешательстве. Открыв глаза, я подумал, что вижу Ишу. Я полагал, что нахожусь на космическом корабле и рассказываю Ише про Сурьявати. Иша любила слушать старинные сказания. Сама при этом лежала на койке и рассеянно поглаживала лоб пальцами. Я мог только жалеть, что это не мои пальцы.
Так каким же образом я оказался здесь и вдыхаю насыщенный запахом сосен воздух Гималаев? И почему ощущаю во рту сложное послевкусие, относительно которого не могу точно сказать, чем оно вызвано. Но, кажется, оно имеет какое-то отношение к травяному отвару, дымящемуся в котелке. Мой язык слегка онемел — это действие содержащегося в зелье яда.
А может, рассказывая Ише историю своей жизни, я настолько глубоко погрузился в повествование, что оно стало для меня реальным?
Темные глаза царицы полны слез.
— Могу ли я попросить тебя сделать еще одну попытку, мой поэт? Не рискнешь ли ты жизнью и здравым рассудком еще раз, чтобы рассказать мне, что ты увидишь? Нужно просто перешагнуть границы этого мига и перенестись на несколько дней вперед. Кто победит в этой войне?..
Не могу же я ей сообщить, будто действительно видел то, что она хочет узнать. Я знаю, что написано в исторических хрониках про это сражение. Принц, ее сын, отберет у отца трон, а самого обречет на гибель. А царица…
Я не могу этого вынести.
И пытаюсь рассказать ей историю, героем которой являюсь сам. Если у меня будет возможность влиять на последовательность событий, возможно, я смогу спасти ее. Я не способен воздействовать на царя или его сына, они для меня недосягаемы. Но Сурьявати? Она восприимчива к словам. А что если в любви Сомадевы — героя повествования — к Ише она распознает невысказанную, мучительную любовь настоящего Сомадевы… и, быть может, еще сумеет отступить от края пропасти, вырваться из плена писаной истории…
Я ужасаюсь тому, что если события пойдут, как описано в хрониках, я потеряю мою Сурьявати. Не окажусь ли я тогда в компании Иши, странствующей меж звезд в поисках преданий? Или просто умру здесь, на Земле, в тени дворцовых стен, в эпоху, когда ночное небо было лишь покровом сновидений? Кто выживет — реальный Сомадева или его литературное воплощение? И кто есть кто из этих двоих?
Все, что я могу сделать, это отвлекать Сурьявати и удерживать ее при жизни своими невероятными историями… и надеяться.
— Не знаю, как далеко в будущее забросит меня зелье, — говорю я царице. — Но ради своей повелительницы я выпью еще.
Я делаю глоточек.
И снова на корабле. Иша спит, спутанные волосы закрывают лицо. Во сне ее лицо расслаблено и безмятежно, если не считать привычной морщинки между бровями. Когда она хмурится, то больше похожа на ребенка, чем на взрослую женщину. Я гадаю — может, во сне к ней возвращается утраченная память?
Итак, я начинаю очередную историю, хотя пребываю в некотором недоумении — кто ее слушает: Иша или Сурьявати?
Я расскажу историю про Иниш. Это место на далекой планете, едва ли не самое странное из всех, которые мы посетили.
Я бы не решился назвать Иниш городом, потому что это не вполне так. Просто скопление людей и строений, животных и растений, но по заверениям аборигенов оно обладает собственным сознанием. А еще у него нет четко очерченной границы, потому что окраинные поселения имеют обыкновение совершенно непредсказуемым образом пускаться в странствие прочь от Иниша, чтобы потом так же неожиданно вернуться.
Кроме всего прочего, обитателей Иниша отличает очень странная система самосознания. Вот, например, у кого-то есть имя, скажем Мана. Но когда Мана находится в обществе своего приятеля Айо, вместе они образуют единое существо с именем Тукрит. Если вы их повстречаете и спросите, как их зовут, они ответят: «Тукрит», а не «Айо и Мана». Иша как-то спросила их, являются ли Айо и Мана частями Тукрита, и оба только рассмеялись.
— Тукрит ни в коем случае не является тем или этим, — ответил Мана.
— Тогда кто мне только что отвечал: Мана или Тукрит? — спросила Иша.
— Тукрит, конечно, — заявили они, снисходительно посмеиваясь.
— Я Иша, — сказала им Иша. — Но кто я такая, когда я с вами?
— Мы — тесо, — ответили они, переглянувшись.
Иша знала, что это значит. Словом «тесо» в их языке называлось все недообразовавшееся, еще не проявившееся, несуществующее в действительности, но имеющее возможность осуществиться — скорее вероятность, нежели достоверность.
Пришельцу со стороны трудно понять, есть ли у обитателей Иниша семьи. В одном жилище могут селиться несколько человек, но поскольку все жилища соединены меж собой коридорчиками и туннелями, трудно сказать, где заканчивается одно и начинается другое. В одном жилище могут проживать четыре пожилые женщины, одна молодая, один юноша и пять детей. Спроси их имена, и в зависимости от того, кто сейчас дома, ты услышишь всякий раз другое общее имя. Если присутствуют, скажем, Байджо, Акар и Инха, то они скажут: «Мы Гархо». Если кроме них в жилище окажутся еще и Сами, Кинджо и Виф, то имя этому сообществу будет Парак. И так далее, и тому подобное.
Как они сами во всем этом не запутываются, выше нашего с Ишей понимания.
— Послушай, — обратился я к ней как-то. — Ты и я… а кто мы, когда вместе?
Она посмотрела на меня печально.
— Иша и Сомадева, — таков был ее ответ. Но в голосе слышался слабый оттенок неуверенности, вопроса. — А сам ты как полагаешь?
— Тесо, — ответил я.
Вот история из Иниша.
Жила-была Икла. Затем она уже как Бако ушла от того, что без нее стало Самишем. И вдруг обнаружила, что она является частью чего-то становящегося, наступающего, но она не могла понять, кем или чем является это становящееся. «Ну как же, — подумала она, — это ведь горо, существо, которое выдает свое присутствие лишь вздохами, исключительно для внутреннего слуха». Она ощутила, как медленно разрастается тесо, почувствовала, что сама становится текучей, превращается в небо, в дождь. А затем не было уже ни тесо, ни горо, ни Бако, а только лишь зрелая полнота и целостность, и таким образом в бытие вошел Чиули.
И этот Чиули помчался с громкими криками по летним тропам, разбрасывая в стороны камни и комья грязи и приговаривая: «Буря приближается! Буря!». И Чиули взбежал на холм, и опустился на землю перед священными камнями, и умер. И там осталась только Бако, которая глядела в небо расширенными глазами и ощущала внутри себя пустоту, возникшую после того, как ее оставило существо, именуемое горо.
Бако гадала: почему существо горо выбрало ее для такого события? Может, потому что она всегда ощущала тесо с бурями? Ведь бури в здешних краях — явление редкое, и о них следовало предупреждать людей. А внутри Бако имелась некая пустота, пригодная для той разновидности существа горо, которая живет ради бурь и предупреждения о них. И таким образом правильный вид пустоты призвал к жизни Чиули.
Вокруг Бако собирались стайки разных существ, но она сопротивлялась попыткам затянуть себя в какое-нибудь объединение. Все потому, что надвигалась буря и она ощущала тесо с нею. А никто другой этого не мог. Другие могли чувствовать тесо по отношению к иным людям и зверям, к существам, чьи глаза ярко светятся во мраке, а временами даже к медленным деревьям, но только внутри Бако имелась пустота в форме бури. И она ощущала тесо с бурей, как ощущала его с существом горо.
Воздух напитался электричеством, темные тучи заволокли небо подобно потолку, готовому обрушиться вниз. Куда ни глянь, все было серым: серая вода, серые существа, глядящие в небо удивленно и напуганно. Только Бако по мере нарастания тесо чувствовала возбуждение, восторг, предвкушение. Такое бывает, когда человек находит сообщество близких себе существ. Чувство созревания, вхождения в полноту бытия. Томительно-сладкое безумие. Сейчас Бако ощущала что-то подобное, но во много, много раз сильнее.
Самиш примчались на верхушку холма, где она стояла, и пытались увести ее с собой, чтобы она снова стала Иклой и чтобы тесо с бурей бесследно исчезло. Но Бако сопротивлялась, и Самиш вынуждены были уйти. То, что с ней происходило, было сильнее известных им любовных уз.
Разразилась буря. Великолепная буря, с ливнем и громом, и молнии плясали вокруг Бако. Реки вздулись и вышли из берегов, вода хлестала через сушу, яростно врывалась в жилища людей, снося все на своем пути. Холмы пришли в движение, и живые создания бежали из своих нор и жилищ. Только Бако стояла под дождем на самом высоком холме, а буря, плясала для нее.
Тесо превратилось в нечто. Мы называем это Т'фан. Т'фан играла с миром, распростерлась на полпланеты, охватила своими влажными ладонями холмы и деревья. Буря продолжалась так долго, что все существа решили: больше никогда уже не будет ни солнца, ни сухой земли. Но в один прекрасный день все закончилось.
Самиш собрались все вместе и устало побрели на верхушку холма, чтобы отыскать Бако или оплакать смерть Иклы.
Бако там не было. То, что там находилось, стояло в той же позе, в какой они оставили Бако, — с руками, протянутыми к небу. Она не замечала их устремленными в неведомые дали глазами, а они увидели, что, хотя небо и очистилось, буря все еще была в ней. Крохотные искорки-молнии срывались с кончиков ее пальцев. Ее волосы были опалены.
Они узрели: буря так плотно заполнила ее пустоты, что Бако уже никогда не сможет снова стать Иклой. Они даже не ощущали тесо. Они оставили ее и приготовились к обряду оплакивания.
Т'фан все еще стоит там, ее глаза полны бурями, ее пальцы играют с молниями. Ее волосы сгорели почти начисто. Ей не нужны ни пища, ни вода, и она выглядит — по меркам бури — вполне довольной. Когда обрушивается гроза, люди собираются вокруг нее — и она оживает и пляшет среди них, как будто к ней издалека приехали родственники. А потом Т'фан исчезает, а вместо нее появляется нечто гораздо более великое и более сложное, чему мы не в силах дать имя.
— Ну, и что означает эта история, хотела бы я знать, — выразила недоумение Иша.
— Временами это просто истории, ничего больше, — ответил я.
— Ты так и не рассказал мне, что случилось с Сурьявати после того, как ты сделал еще один глоток зелья и рассказал ей очередную сказку, — сказала Иша, не утруждая себя обдумыванием смысла моего замечания. Она еще не готова согласиться с тем, что не из каждой истории можно извлечь смысл, как не с каждого дерева можно сорвать плод. И не готова признать, что смысл заложен не столько в самой истории, сколько в том, что в повествование вкладывает слушатель. Она так нетерпелива, моя Иша!
Я напрягся.
— Царица была вне себя от горя после того, как ее сын захватил царство и уничтожил своего отца, — сказал я. — Она бросилась в погребальный костер царя. Я не смог спасти ее.
И в этот самый миг я совершенно ясно вижу царицу, ее темные глаза, исполненные тоски и горя. Ее руки с длинными пальцами — поблекшие рисунки хной на ладонях, заживший порез на указательном пальце, вот она поднимает тонкую кисть, чтобы смахнуть с ресниц слезу. И все же в ее взгляде пробивается еще какой-то интерес к жизни. Ее разум вслед за моими рассказами простирается в дальние уголки Вселенной. И в этом огоньке в ее глазах заключена вся моя надежда. Возможно, все, что я нашел, это постоянно повторяющийся отрезок времени — выпавшая из главного потока временная петля, в которую я пойман вместе с Ишей и Сурьявати. Здесь мои истории никогда не закончатся; я никогда не достигну того мгновения, которого с ужасом ждет Сурьявати, а Иша никогда не поймет, кто она такая. Гунадхья останется шепотом у меня в голове, а его связь со мной — все той же тайной.
Вот мы мчимся сквозь небесные просторы — Иша и я, видьядхары иной эпохи, а Сурьявати провожает нас взглядом. Кто здесь рассказчик, а кто слушатель? Мы попались в паутину, которую сами же и сплели. И если ты, слушатель из другого времени и другого пространства, на лицо которого, подобно пене океанского прибоя, легли нити этой паутины, ты, кто подслушал принесенные ветром обрывки чьего-то разговора, если ты сам войдешь в эту историю и заберешь ее в свой мир с его печалями и маленькими откровениями, что тогда станется с тобою? Войдешь ли ты сам в этот круг? Поведаешь ли мне свою собственную историю? Будем ли мы сидеть все вместе — ты, Сурьявати, Иша и я, ощущая внутри себя тесо и свивая смыслы из сюжетных линий повествования?
Я — Сомадева. Я поэт и рассказчик.
Перевел с английского Евгений ДРОЗД
© Vandana Singh. Samadeva: A Sky River Sutra. 2011. Публикуется с разрешения автора.
Опубликовано в журнале «Если» 2012 № 1
[1]Сомадева — писавший на санскрите кашмирский поэт XI века. Сведений о его жизни практически не сохранилось; биография Сомадевы реконструируется по косвенным данным. Известно, что он происходил из касты брахманов, придерживался шиваизма и был придворным поэтом кашмирского царя Ананты, правившего в 1029–1064 годах. Для развлечения его жены Сурьявати (ум. 1081) Сомадева, по его собственным словам, составил прославившее его сочинение «Катхасаритсагара» («Океан сказаний»), которое представляет собой собрание индийских легенд, волшебных и народных сказок, состоящее из 18 томов, 124 частей и 21000 стихов, помимо прозаических частей. (Здесь и далее прим. перев.)
[2]Видьядхары (санскр. vidyadhara, «держатель знания») — в индийской мифологии класс существ-полубогов. Видьядхары являются добрыми духами воздуха и в совершенстве владеют искусством магии. Они могут изменить свою внешность по желанию и обладают способностью летать. Они наслаждаются музыкой и громким смехом. В древности и средневековье видьядхары часто изображались в виде полулюдей-полуптиц. Бывают как мужского, так и женского пола. Первые известны мудростью, вторые — красотой.
[3]Гунадхья — автор классического произведения индийской литературы, собрания сказок, легенд и преданий, написанного на диалекте пракрита пишачи, именуемого «Брхат-катха» («Великое сказание»). «Брхат-катха» состоит из 700000 строф, описывающих наш мир с момента его сотворения. Считается, что эти легенды были нашептаны во время сна в ухо Гунадхье некими первобытными существами, которые хотели таким образом сохранить древнюю мудрость. Заключительную же часть, повествующую о современных ему событиях, Гунадхья сочинил самостоятельно. Согласно традиции, Гунадхья представил свой труд царю Сатавахане, который отверг это творение, поскольку оно было написано на плебейском языке пишачи. Тогда Гунадхья взобрался на вершину холма и при свете костра вслух прочел свое сочинение. По мере декламации небо затянули тучи, земля сотряслась, божества заполнили воздушное пространство, деревья склонили к нему свои кроны. Прочитав очередную часть, Гунадхья бросал ее в огонь.
[4]Пишачи — персонажи древнеиндийской мифологии, что-то вроде зомби. Их название схоже с названием южноиндийского диалекта, на котором легендарный Гунадхья написал свой труд «Брхат-катха».
[5]Виджьян (санскр.) — наука; шастра (санскр. «призыв, гимн», также «меч, нож, оружие») — вид пояснительного текста, использующийся в индийских религиях, в частности в буддизме; комментарий к сутре. В более широком смысле шастра — знание о каком-либо предмете или узкой области науки, например обозначение умения владения каким-либо типом оружия.