Блестело мартовское солнце. Щебетали птицы, которым было наплевать на новую стоимость хлеба. Взад и вперед по тротуару неслись люди с кульками. Одни бежали продавать свой старый хлам (бутылки, бумагу, тряпки), другие, уже продавшие, неслись покупать на эти деньги полфунта чего‑нибудь.
Покупать я неслась или продавать – уже не помню. Но помню, что на углу была остановлена громким возгласом.
– А! Здрассте. Как живете?
Не могла же я поступать по рецепту Тэффи! Не спеша взять человека за пуговицу и начать рассказывать ему, как я живу, долго, вдохновенно и подробно. Вот, мол, утром сегодня гляжу: на новом чулке опять дыра! А с чулками, знаете, нынче трагедия! Затем вышли неприятности в мясной. Этот нахал‑продавец… После чего, описав невзгоды материальные, поделиться с человеком, легкомысленно задавшим мне этот вопрос, своей духовной жизнью. Читаю, мол, сейчас то‑то. Думаю по этому поводу то‑то.
Сделать этого я, конечно, не могла. К тому же торопилась.
А потому, прокричав «спасибо», «хорошо», – я сделала попытку промчаться дальше.
Но знакомый мой эту попытку немедленно пресек.
– Что?! – вскричал он возмущенно. – Вы сказали хорошо? Разве сейчас живут хорошо? Сейчас живут хорошо только спекулянты! Честные люди с высшим образованием выброшены за борт…
Я никак не ожидала подобного взрыва на мои невинные слова. Грозное лицо, с вращающимися от злобы глазами, надвигалось на меня. Я прижалась спиной к столбу.
– За борт! – вопил он. – Понимаете? За борт! Жрать каждый день не имеют возможности честные люди с высшим образованием. Вы слышали о новой цене на хлеб?
Какая‑то дама с кульком заинтересованно остановилась. Вскоре к ней присоединилась другая.
– В общем, конечно… – пробормотала я примирительно, – трудно, это верно… Так как‑то, знаете… вообще…
И сделала попытку вырваться из окружения.
Попытка ничем не кончилась. Я вынуждена была отступить под прикрытие телеграфного столба.
А он все наступал, яростно крича:
– Разве это жизнь? – спрашивал он меня тоном прокурора во время последней речи, – жизнь это или нет, я вас спрашиваю? Это – растительное, животное существование, когда интересы сосредоточены только на еде. Честные люди с высшим образованием…
К двум дамам с кульками присоединились еще три. Заложив руки в продранные карманы, стоял, с любопытством прислушиваясь, какой‑то безработный. Стоял китайский ребенок, засунув палец в нос.
Человек с высшим образованием, тем временем, перешел к военному обзору. Выяснилось, что в ранней молодости он провел две недели на фронте. А потому считал себя военным специалистом и страшно издевался над способом ведения современной войны. Особенно доставалось от него немцам, но и русских он не больно жаловал.
– Это ж курам на смех, – кричал он и неестественно хохотал «смехом водевильного генерала», по выражению Чехова.
Число китайских детей росло на глазах. Они уже окружили нас плотным кольцом.
Не помню, каким образом мне удалось бежать, но я бежала.
Завернула за угол, тяжело дыша.
– Вот, – думала я, – до чего дошел человек. Ведь едва меня знает, а как кричит! Воображаю, какая страшная жизнь у несчастной женщины – его жены. Она, конечно, отвечает за все. И за действия союзников, и за неприятности в трамвае, и за речи Геббельса, и за цены на базаре. Ужас!
Есть такие люди, на которых военное время подействовало озлобляюще. Они пылают яростной ненавистью ко всем. Они презирают всех. Они учат, как жить и как воевать. Они пишут письма в редакции газет. Их жены – преждевременно состарившиеся женщины с тусклым и безразличным взглядом. Эти люди так глубоко все презирают, что ничего не хотят читать. Они вооружены полным невежеством, несмотря на свое «высшее образование». Невежество им помогает рассуждать обо всем с видом знатока, а желчь сообщает их речам силу и темперамент. Все это медленно, но верно укорачивает жизнь их близких и отпугивает от них знакомых.
Есть и другой тип людей. На них военное время подействовало иначе. Они отупели и потускнели. Это произошло от развеселой жизни, которая с дьявольской настойчивостью бьет по головам ценами. Они ничему более не удивляются. У них безразличные глаза и бледные лица. Говорят они быстро, монотонно и все больше насчет цен и насчет трамваев. Характерным для них признаком является вопрос, который они неизменно задают в конце каждого разговора:
– … Скажите, а вы не знаете, когда война кончится?
Впрочем, ответа на этот вопрос они не ждут. Бледно и виновато улыбаются, говорят «пока», добавляют по привычке, – «заходите» и скрываются со своим кульком в зловеще надвигающихся сумерках.
Но есть люди, которых война, наоборот, оживила. В них неистощимым ключом бьет энергия и говорят они отрывисто и лаконично и главным образом о цифрах:
– … Миллион. а я ему говорю: а что такое сегодня миллион? Это, по‑вашему, деньги? Я говорю – не деньги!
И к войне они относятся по‑своему: они все больше держат пари. Это у них называется «игрой на города».
– Сначала, – говорят они, – я сделал неплохие деньги на Москве. Один идиот говорит: Москву возьмут! Что? – говорю я. А он говорит: пари на 50 голд. Ну и я, конечно, выиграл. Ну заработал таким образом еще на нескольких городах. У меня нюх!
Есть еще люди, на которых военное время подействовало опьяняюше.
То есть, попросту говоря, они все время пьют.
Одна дама рассказывала:
– Ах, это ужасно, мы здесь живем, ничего не видим. Там совершаются такие события… Там поэзия боя… Как это говорит один поэт? Как его фамилия? Не помню! Еще вчера помнила, а вот забыла. Ах ты, Боже мой, какая память стала! Как‑то на букву… Даже не помню, на какую букву. Не помню там о чем, но есть такие слова: «во имя»… вот, во имя чего – забыла. Ну, в общем: «Во имя чего‑то встретить ветер боя». Именно, именно: ветер боя. Как красиво! Я сама иногда мечтаю. Сидеть на пригорке и стрелять, стрелять!.. Барабан гремит, труба поет… А тут… Все время хочется забыться. Вот мы и собираемся. То у нас, то у Глупевич… У них премиленькая квартирка. Очень славно проводим время. Устраиваем то литературные собрания, то музыкальные. Потом, вскладчину, маленький ужин, выпивка. Так хочется, знаете, забыться…
Эти люди, которым хочется забыться – тоже патриоты. Они встают, пошатываясь, во время ужина и предлагают громкие тосты за победу. Пьяные встают, поддерживая друг друга и у некоторых, то ли от чувств, то ли от скверной нынешней водки, на глазах появляются слезы.
– В‑выпьем… – говорят они.
После чего продолжают забываться дальше…
Иногда кто‑нибудь из присутствующих с пафосом что‑нибудь декламирует. Пьяные проникаются торжественностью момента, стараются не шуметь, не падать со стульев и держатся за стены и друг за друга.
Да. Так и живут!
Озлобляются, тупеют, «играют на города», как будто это «свип‑стэкс»[5], а в мире в это время происходят великие события.
Есть, конечно, люди, которые живут иначе.
Они не пьют, с растроганными улыбками о «пафосе боя» не декламируют, но работают, чтобы понять, почему сейчас наша родина идет к победе. Они стараются не опускаться душевно в нашей серости и тине, стремятся стать истинными гражданами своей великой страны, чтобы быть хоть немного достойными тех людей, которые идут сейчас вперед по дорогам Германии.
Чтобы не стыдно было взглянуть тем людям в глаза, когда приведется встретиться.
Все пройдет
Одна китайская газета грозно предлагает, – с целью прекратить спекуляцию, – выслать из города всех людей неопределенных занятий.
«Слова, слова», не без горечи повторяем, вслед за Гамлетом, мы, люди определенных занятий.
Мы ведь знаем, что «люди неопределенных занятий» – настоящие баловни судьбы. И хотя все газеты нас хвалят и называют нас «страдающим населением», и клянутся заботиться о нашем благополучии, а их, людей без занятий, ругают и грозят, вот, даже выселить, все равно, мы знаем:
Они – баловни судьбы. Мы – ее пасынки. И ничему тут не поможешь, и ничего не исправишь!
Газеты их ругают, а вы этих людей, конечно, презираете. Вы говорите вашей приятельнице:
– Иванюк‑то, подумайте! Одну квартиру продал за три миллиона, другую купил за два… Жене – кольцо, себе часы… Такой жулик!
И добавляете: – Ну, наши мужья, милочка, конечно, так не сумеют.
Это значит: наши мужья честные и мы ими гордимся. И вы улыбаетесь друг другу улыбкой, показывающей, что вы довольны судьбой и просто не хотите, чтобы, несмотря на все эти миллионы, ваши честные мужья занимались разными темными иванюковскими комбинациями.
И, утешая себя честностью, вы с гордо поднятой головой входите в свою холодную комнату, где ваш муж уныло сидит на корточках, пытаясь разжечь печку и, хотя вы глубоко цените его честность, но (о, человеческая натура!) вы садитесь на край продранной кушетки и начинаете деловито пилить мужа:
– … Нет, я, конечно, не хочу, чтобы ты занимался спекуляцией, но надо что‑то придумать. Надо делать запасы, например. Вот Петровы купили двадцать фунтов сала и сахар, когда он еще был по 100 долларов. Продали велосипед или пишущую машинку, уж не помню что, и купили. Вот! Они говорят, что на этой машинке уже сто процентов заработали. Это не спекуляция. Это умение жить! А мы не умеем. На жалованье надо сразу что‑то покупать. А денег в доме не иметь. А то они падают. Это все говорят. Надо продавать и покупать… Ах, Боже мой, да оставь ты эту печку! Уголь никуда не годится. Надо было что‑нибудь продать и купить уголь еще летом…
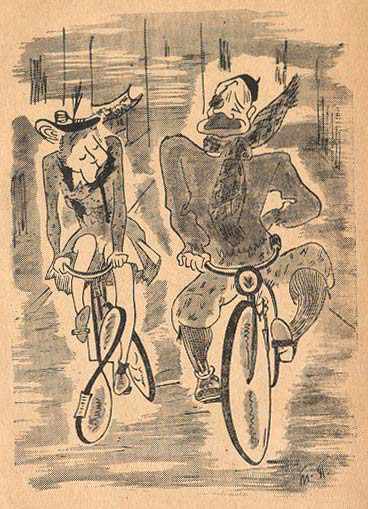
И всю ночь вы ворочаетесь. Завтра вот он получит жалованье и на это жалованье все равно не дотянешь до конца месяца. Надо что‑то купить. И продать. И заработать вдвойне. Но что, что? Ах, почему у этого беззаботно храпящего рядом человека нет светлой головы Иванюка?
Назавтра вы расстраиваетесь еще больше.
Вы едете на своем скрипящем и шипящем старом велосипеде. Передняя покрышка уже лопнула и вы думаете разные невеселые думы. Вас догоняет ваш знакомый Фукс – человек неопределенных занятий. На шее Фукса развевается роскошное, зеленое с красным, кашне, и сидит Фукс на изумительном велосипеде, блестящем, новеньком и сияющем, как молодой месяц в морозный вечер.
– Обратите внимание на мой велосипед, – говорит Фукс и гордо шмыгает носом (на улице холод).
– Уже обратила, – говорите вы.
– Так он мне достался даром.
Вы тоже шмыгаете носом, взволнованно и вопросительно. Фукс рассказывает. Его рассказ напоминает старую добрую сказку о мужике, который все занимался менами. Кусок золота он променял на коня, коня на овцу и доменялся, в конце концов, до иголки. В рассказе Фукса – все наоборот. После долгих и упорных мен в его руках, вместо иголки, очутился кусок золота.
Он купил старый велосипед. Отремонтировал. Продал. Купил другой. Продал. Заработал. Опять купил… Опять продал… Заработал. И т. д.
На прощанье Фукс таинственно шепчет:
– Дам хороший совет. Закупайте керосин. Скоро не будет.
И, заворачивая за угол, скрывается на своем сияющем велосипеде в голубой дали. Скрывается как «мимолетное виденье, как гений чистой красоты».
Дома вы садитесь на край продранной кушетки и начинаете пилить мужа:
– Ты даже не умеешь продавать велосипедов, – с горечью говорите вы, – вот Фукс. Он, конечно, жулик! Он даже как‑то в тюрьме сидел. Но, в конце концов, в продаже велосипедов ничего криминального нет! Ты бы тоже мог…
Нет, мы просто не умеем жить! Немедленно поезжай за керосином. Фукс был в хорошем настроении и дал совет… Фуксу надо верить. Он‑то уж знает! Он даже в тюрьме сидел. Непременно надо керосин…
А ночью вы видите во сне Фукса и его блестящий велосипед, сияющий, как молодой месяц, и роскошное, зеленое с красным, кашне…
Утром замерзли окна, в комнате мороз и за окном уныло покачивается ваш единственный съестной запас: копченая колбаса подозрительного вида.
И вы грустно думаете: наступит ли когда‑нибудь время, когда люди определенных занятий, такие честные работяги, как ваш муж, смогут жить прилично? И долго ли будут веселиться Фуксы?
Святая профессия
Больного положили на операционный стол, и ассистент вопросительно взглянул на доктора. Но доктор не подходил к столу. Он вопросительно взглядывал на часы.
Текли минуты. Больной тихо стонал. На улице пронзительным голосом закричал китаец‑разносчик. Доктор смотрел на часы и нога его нервно постукивала об пол.
– Геннадий Николаевич, – сказал ассистент, – начать бы, а?
– Я не начну, – сказал доктор, не отрывая взгляда от циферблата, – я не начну, пока эта женщина не принесет мне обещанные 800 тысяч. Как будто вы сами этот народ не знаете. Сделаешь операцию, больной вне опасности, и тут начинается: «Доктор, голубчик, мы сейчас так стеснены… ах, подождите немного… мы заплатим»… Она мои условия знает: деньги вперед.
Минуты текли. Где‑то со звоном пронесся трамвай.
– Если мы сейчас не начнем, – сказал ассистент, – то, может быть, будет уже слишком поздно…
К обеду доктор вернулся усталый и раздраженный.
– Геночка, – хлопотала жена, – почему ты не ешь супа? Какой ты бледный! Тебя замучили эти больные. Ну что, принесла эта женщина деньги?
– На 20 минут опоздала. Я ей прямо сказал: мадам, это опоздание может стоить жизни вашему мужу. Опять этот суп пересолен!
– Не может быть! Несчастье с этим поваром. Но откуда у нее все‑таки деньги? Они, кажется, очень нуждаются. Помнишь, как она плакала и просила тебя о скидке?
– И хорошо, что не согласился. Она все‑таки раздобыла. Обручальное кольцо продала. Но почему у них все в последнюю минуту – неизвестно! Мы ждем. Время дорого. А она кольцом торгует.
После обеда доктор отдыхал, а жена ходила на цыпочках и шепотом говорила младшей сестре:
– Подумай, бедный Геночка ждет, волнуется, больной весь посинел, а эта идиотка побежала кольцо продавать! Раньше она, оказывается, не могла этого сделать. Ей, видите ли, кольца было жалко! Ей оно, видите ли, дорого как память! До последней минуты надеялась, что ей какой‑то дурак взаймы даст…
В приемной собирались пациенты и жена доктора волновалась, что доктору опять не дают поспать, и бегала в кухню смотреть, как у повара выходит торт с персиками по новому рецепту, и бегала в комнату сестры, которая, лежа на кушетке читала роман. И говорила возмущенным шепотом:
– В приемной опять какие‑то две бедно одетые сидят. И у одной лицо знакомое. Мне кажется, это та самая, которая просила мадам Фенкину устроить ее бесплатно в госпиталь. Несчастье с ними! Опять, значит, будут Геночке нервы трепать и просить лечить со скидкой. Какие теперь скидки! Ты знаешь, сколько я сегодня заплатила за персики? А сахар, а сливки! Этот торт нам ужас сколько обойдется. И вообще цены! А больным как будто до этого дела нет. То дай им рассрочку – а деньги падают, то скидку…
В это время в кабинете доктора переминался с ноги на ногу какой‑то худощавый человек и говорил:
– Доктор, мы должны неожиданно уехать из Шанхая. Так что жене придется рожать уже не здесь. Я вам за роды вперед заплатил, как вы просили, так нельзя ли…
– Нельзя! – твердо перебил доктор, – вы уезжаете – это дело ваше. Я тут не причем. Почему я должен возвращать деньги? У меня их даже и нет. Вам магазин тоже не вернет, если вы заплатили вперед, а потом от вещи решили отказаться. Почему…
– Некоторые магазины вернули бы, – сказал худощавый человек, – и, кроме того, я никогда не сравнивал доктора с магазином. Одну минутку. Я не кончил. Вы меня не поняли, возвращать ничего не нужно. Но у моей жены есть подруга. Очень нуждается. Она ждет через месяц. Так вот я хотел просить: может быть, вы у нее примете? Поскольку уже заплачено, а?..
– Он, конечно, наотрез отказал, – рассказывала жена, спустя несколько минут, в комнате сестры, – можешь себе представить, до чего дошли эти люди! Я подслушивала у дверей и думаю: если Геночка начнет соглашаться, я постучу и под каким‑нибудь предлогом его вызову. И просто запрещу ему. Но, слава Богу, он и сам сумел отказать. А то подумай: принимать у каких‑то бедных подруг! На каком основании? Побегу. Сейчас, кажется, очередь этих двух бедно одетых. Надо послушать, о чем они будут просить.
За дверью приемной слышался сухой голос доктора:
– Что ж я могу сделать, подумайте сами! Я, конечно, очень сочувствую. Но, знаете, если я всех начну лечить со скидкой и в рассрочку – посудите сами, что это будет. У меня определенная плата за курс лечения и деньги вносятся вперед. Не можете – очень жаль, но помочь не могу.
После чая доктора вызвали и он уехал, предварительно долго внушая по телефону невидимому собеседнику, что за выезд берет двойную плату.
К ужину были гости. Богачи Фенкины, которые недавно построили пятый дом.
– Фенкин – большая умница, – рассказывала жена доктора своим близким, – жили они раньше в комнатке в террасе, нуждались. А во время войны, смотрите, как он в гору пошел. Начал с комиссионерства, а теперь миллионер. Контору свою имеет.
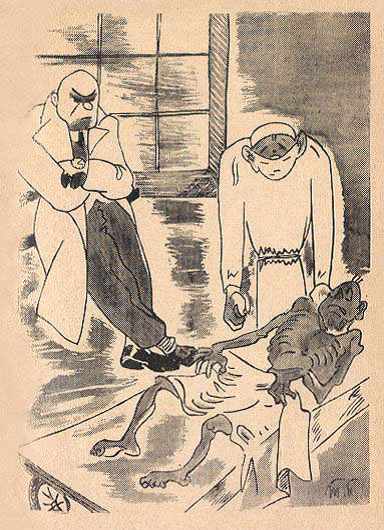
Не знаю точно, на чем он такие деньги сделал. Но голова у него замечательная. Такой нюх: всегда знает, что именно подорожает. Медикаменты, между прочим, прятал. Знаете, как патентика теперь вздорожала? Он и Геночке советовал, но вы знаете моего Гену: врач, говорит, святая профессия. Торговать не умею и учиться мне уже поздно. Ничего с моим Геной не поделаешь!
На столе были розы в хрустальной прекрасной вазе и после обеда мужчины пили коньяк: доктор был в хорошем настроении и открыл одну из своих заветных бутылок. Дамы оживленно щебетали о платьях, о маникюрах и о чем‑то легком, веселом и несложном. Раз говор мужчин был серьезнее:
– … И дает мне сто американских, – говорил доктор, – наличных местных денег, говорит, у меня нет, эти американские я вам даю, как залог, а в субботу принесу вам 500 000, тогда вы мне мои американские вернете. Но обидно возвращать, как вы думаете, Борис Абрамович? За эти два дня американский поднялся.
– Не возвращайте ни за что, – советовал Фенкин, – скажите ему, что уже продали. Наврите что‑нибудь, но не возвращайте. У меня был случай в этом роде: дает мне клиент на покупку товара голд‑бар…
– Как хорошо, что вы Геночке советуете, – перебила жена доктора, – он у меня такой не от мира сего в этих делах. Что поделаешь: врач, идеалист!
– Еще коньячку? – сказал идеалист.
– Можно, можно, – сказал Фенкин, – коньячок добрый! Так вот, насчет голд‑баров…
Потом разговор принял сумбурный характер и все время слышалось: продать… перекупить… голд… серебро… держать… спрятать… двадцать процентов… чеки…
Зазвонил телефон. Вызвали доктора. Он вернулся к столу минут через пять.
– Вызывают по какому‑то подозрительному адресу, – объяснил он, – но я отказал. Там одна беднота живет. А тут педикэб один сколько стоит.
Потом Фенкин с доктором выпили еще по рюмочке и Фенкин смеялся над непрактичностью доктора и говорил:
– Дорогой мой, с вашей профессией можно такие деньги сделать! Уметь надо…
А доктор, улыбаясь, говорил:
– Что делать! Не умею! Таким родился.
А жена доктора с упоеньем говорила мадам Фенкиной:
– Святая профессия. Геночка с детства мечтал быть врачом, облегчать страдания людей. Но, знаете, теперь так трудно! Сейчас столько бедноты развелось. Каждый норовит не заплатить. Ужас!
– А у нас служащие, – жаловалась мадам Фенкина, – каждый кричит, что ему жалованья не хватает. Один наглец так прямо мужу и сказал: у вас, говорит, голд‑бары, а мы с голоду дохнем. А при чем тут Боричкины голд‑бары?
– … Перекупить, – азартно говорил Фенкин и стучал кулаком по столу, – понимаете? Подержать и продать.
– Именно, именно, – соглашался представитель святой профессии.
Розы, стоявшие на столе в прекрасной хрустальной вазе, были такие бледные и усталые, как будто им было нестерпимо душно. И на самом деле было душно и что‑то давило и облака на небе были тяжелые и, кажется, собирался дождь.
Только справедливо
Когда, после электрической завивки, Ольга Петровна стала мыть платиновые, много раз крашеные волосы клиентки, она с ужасом увидела, что концы волос отваливаются.
«Я же ей говорила, – отчаянно запрыгало в голове Ольги Петровны, – я же ей говорила, что такие перекрашенные волосы опасно завивать. Я, я сама виновата. Зачем взялась!..»
И громко сказала, стараясь, чтобы голос звучал спокойно:
– Видите, я так и думала, что ваши волосы не выдержат завивки…
Вечером у себя дома Ольга Петровна плакала.
– Брось, – говорил муж, – ну что делать! Ты же, в конце концов, ее предупреждала…
– Чему это поможет, – всхлипывала Ольга Петровна, – раз уж я взялась завивать, выходит, что я виновата! Я ей теперь обещалась лечить волосы бесплатно и массаж головы и все… И за завивку, конечно, ничего не взяла. 'Гак это все неприятно. Будет она теперь всем рассказывать, что я ей волосы испортила.
– Брось, – сонным голосом сказал муж. Он понимал и сочувствовал, но ему страшно хотелось спать.
Хотя давно уже стало совершенно ясно, что в Шанхае ест как раз тот, кто не работает, а большинство работающих не ест, – Ольга Петровна с мужем работали с упорством маньяков, вставали на рассвете, возвращались домой в десять, не видели жизни, не успевали читать, и если бы кто‑нибудь их спросил, зачем они так много работают, и устают, и надрывают свое здоровье, они бы очень удивились и сказали:
– А как же иначе?
И действительно, иначе было нельзя. Заработанного едва хватало на жизнь. Ольга Петровна, несмотря на свое высшее образование, которое в этом городе оказалось никому не нужным, уходила из дому рано утром с чемоданчиком. Она маникюрила, выщипывала брови, завивала, красила и из экономии бегала всюду пешком, а когда возвращалась домой, ей не хотелось ни есть, ни разговаривать, ни читать, а только спать, спать и спать. Муж Ольги Петровны выезжал из дому в 5 утра и что‑то развозил на велосипеде, потом служил в какой‑то конторе, зарабатывая гроши.
– Спи, Ольга, – сонным голосом пробормотал муж, – ну что в самом деле?
– Да, да, – сказала Ольга Петровна, – сплю.
Но долго еще не могла заснуть.
Тем временем Джюн сидела в кресле, курила и время от времени ощупывала свои изуродованные волосы.
– Можно, конечно, коротко остричь, но мне же не идет, – думала она и в сотый раз вставала, подходила к зеркалу и вспоминала, как еще три часа тому назад ее выкрашенные перекисью волосы доходили до плеч. Глаза ее наполнялись злыми слезами.
– Бесплатный массаж головы, – думала Джюн, вспоминая растерянные глаза маленькой худенькой женщины, которая ее завивала, – нужен мне ваш массаж! Сначала изуродовала, а теперь – массаж!..
Последнее время Джюн вообще была в отвратительном настроении.
– Деточку надо бы замуж, – рассказывала мать близким друзьям, – но за кого теперь выдашь? За моей деткой ухаживал один англичанин. Довольно состоятельный. Но я ей говорила: Женичка, подожди, дружочек. Сейчас такое время. Откуда мы знаем, что будет с англичанами? Ну и мать оказалась права. Сел англичанин в лагерь. И какой толк с его денег!
Немец один предложение делал. Не молодой, но денег много. Мы с отцом радовались. Это, конечно, между нами. Мы тогда еще не знали, какой они народ. Это еще в начале войны было. Кто знал, что они такие негодяи. И Майданек и все такое. И главное, подумайте, войну проиграли! Ну разве тогда можно было все это знать? Уж совсем было замуж выдали, да судьба помешала. Им запрещали на иностранках жениться и разрешения все не выходило. И уехал наш немец. Прямо повезло нам, а?
Я говорю и тогда говорила и теперь повторяю: Женичка, найди себе швейцарца. Самое лучшее. Никаких неожиданностей. Всегда они нейтральные и люди положительные и денег много. Да швейцарцев‑то мало! А русские… вы знаете, мы хоть и патриоты и папочка наш на сталинградских детей каждый месяц жертвует, но вы поглядите на русских: все больше вочмана.
Вообще семья Джюн стала сознавать свою принадлежность к русской нации совсем недавно. До того Джюн по‑русски говорила только с матерью. И «Женичкой» она была только для матери.
– У нас Женичка в американской шкоде училась. Кому русский язык нужен! – с гордостью говорила мать, сама не знавшая ни одного языка, кроме русского.
Последнее время иностранцев в городе было очень мало, Джюн приходилось бывать среди русских и говорить по‑русски. Но ей было смертельно скучно. Закрыт был иностранный клуб, в котором она проводила все свое время, играя в теннис и бридж, а без этого клуба, без богатых иностранцев, без «аутов», жизнь иногда казалась Джюн невыносимой.
– Потерпи, деточка, – утешала мать, – кончится война, поедем в Америку. Папочка сделал большие деньги даже в переводе на американские.
Утром, после неудачной завивки, Джюн пошла в салон примерять новое платье. Но и это платье, – зелено‑голубое, полотняное, – не развеселило ее.
– Скучно, – думала Джюн, – а тут еще эти волосы. Скучно.
Потом она отправилась в парикмахерскую, где все долго сочувственно всплескивали руками и, хотя ее обкромсанные волосы после стрижки и укладки выглядели вполне прилично, парикмахер все вздыхал и с лицемерным сочувствием говорил:
– Не то! Не то! Мадам, с вашим овалом лица нужно что‑то другое. Мы можем вам продать дивные локоны. Ваш цвет. И с этими локонами у вас будет изумительная прическа. Изумительная!
Джюн шла домой и думала. Купить локоны или нет? Локоны стоят 80 тысяч. Просить опять у папочки? Но папочка только вчера дал на новую сумку. Мама так много не даст. Мама даст не больше, чем тысяч сорок. И вдруг у Джюн мелькнула блестящая мысль…
В четыре часа дня Джюн, пришедшая на массаж головы, сидела в маленькой комнате Ольги Петровны, курила, помахивала ногой в белой сандалии и говорила:
– Вы меня так обуродовали, прямо «shame»[6]. К моему овалу лица такая прическа не идет. Все говорят. В парикмахерской мне сказали, что нужны локоны и с ними можно будет делать vегу nice[7]. Пришлось заказать. Я завтра аут иду. А у меня волосы такие. Вы знаете, я не хочу говорить мамочке, она такая нервная. Она может вам такой trouble[8]устроить. Но она, thank Goodness[9], пока ничего не заметила. Знаете, я думаю, что вы должны за локоны заплатить. Я знаю, что вы a working woman and so on[10]и поэтому я с вас только половину. Это только fаiг[11], если вы мне заплатите половину за локоны. Sее?[12]Ведь это же ваша вина.
– Как? – не поняла Ольга Петровна.
– Всего 40 тысяч. Small amount[13]– примирительно сказала Джюн.
– Вы хотите, чтобы я вам заплатила 40 тысяч? – переспросила Ольга Петровна.
– Quite right[14], – весело согласилась Джюн. – Мне же из‑за вас приходиться локоны покупать.
Ольга Петровна подошла к письменному столу и открыла ящик. Там в жестяной коробке лежали деньги, которые она копила на ботинки для мужа. Его старые уже невозможно было чинить. Всего было 30 тысяч. Остальные десять Ольга Петровна вынула из своей сумки и отдала Джюн.
– Thanks[15], – сказала Джюн.
Лестница, по которой спускалась Джюн, была грязная и темная, и на повороте Джюн споткнулась и сказала «ауч». Внизу пахло чадом из кухни, было душно и рыдал чей‑то ребенок. Джюн с содроганием подумала: как могут здесь жить люди?
На улице ей в глаза брызнуло горячее солнце, небо было синее, а впереди были новая прическа и новое платье. На душе Джюн вдруг стало легко и весело.
Бабушкин рубин
В 1944 и в начале 45‑го года японцы производили массовые выселения, забирая дома для «военных надобностей». Спекулянты, пользуясь этим, брали громадные деньги за квартиры и комнаты.
Подойти к крану, открыть его, и потечет вода…
Удивили! Это не штука. К этому с детства привыкли.
Теперь привыкаем к другому: подойти к крану, открыть его, и вода не течет. Без воды живем уже вторую неделю. Ничего, привыкли. Таскаем ведра по двору. Некоторые вполне приспособились и поют что‑то на мотив «Дубинушки», а остальные хором подхватывают «Эй, ухнем», а сосед снизу говорит, что ему все нипочем, потому что его дедушка был бурлаком.
Последнее время он стал говорить с волжским акцентом и, видимо, это помогает ему таскать ведра. «Мы – привышные» – говорит он и поет все больше песни без слов, что‑то вроде «Ой да ой, эй‑да эге‑гей».
Воду, говорят, еще не откроют десять дней. Потому что перерасход. А перерасход произошел из‑за того, что в бывший гараж внизу, переделанный предприимчивым хозяином в квартиру, переехало очень много людей. Сколько именно – так до сих пор и не сосчитали. Кто говорит, 8 человек, а кто утверждает, что 10. Точно удалось установить только, что там четверо малолетних детей с их родителями и престарелой бабушкой. Но есть еще какие‑то таинственные личности.
Престарелая бабушка весь день греется на солнце. Ее выкатывают на двор в кресле, и она при виде процессии с ведрами ласково шамкает: «Бог в помощь». Но мы мрачно проходим мимо, позвякивая ведрами, как кандалами, и не оборачиваемся.
Мы считаем бабушку одной из виновниц нашего безводного жития. Именно после переезда в бывший гараж этой многочисленной семьи – потребление воды резко поднялось.
Восточная мудрость гласит: «Друг мой, делай так, чтобы чистоплотность твоя не была в тягость ближнему твоему». Впрочем, может быть, восточная мудрость тут не причем, но дело не в этом…

Престарелая бабушка тихо дремлет на солнце и, возможно, вспоминает свою далекую юность, когда цивилизация стояла на высшей ступени развития и не надо было бегать с ведрами за водой. Бабушкины внуки с воплями носятся вокруг. Они – очень веселые дети. Они пускают бумажные стрелы к нам в окна, а иногда, вместо стрел, бросают небольшие камни. По утрам они обычно ревут. Особенно выделяется тонкий фальцет старшей девочки и бас самого маленького. Причина их утреннего дурного настроения неизвестна… Сосед, у которого дедушка был бурлаком, в минуту откровенности признался, что иногда чувствует себя способным на детоубийство…
Зато хозяин дома очень веселится. Многочисленные обитатели гаража, которых откуда‑то выселили в короткий срок, в приступе отчаянья заплатили за свой гараж много тысяч. Откровенная бабушка шамкала что‑то насчет того, что пришлось продать ее последнюю уцелевшую фамильную драгоценность. Какую‑то брошь, которую подарила ее тетке, бывшей фрейлине, вдовствующая императрица. Бабушка тяжело переживает потерю своей фамильной драгоценности и все смотрит старческими слезящимися глазами в одну точку, нисколько не обращая внимания на резвящихся вокруг нее внуков. Она все останавливает нашу процессию с ведрами и все пытается подробно рассказать про свою родственницу‑фрей‑лину и про монаршью ласковость к ней вдовствующей императрицы, и про брошь, которая была не то в форме змеи, не то, наоборот, в форме сердца, и про рубин, который был в этой броши. Но мы тащим воду и нам не до рубинов.
Короче говоря, хозяин дома на бабушкином рубине и на выселении хорошо заработал, и теперь почти каждый вечер из его окон несутся веселые вопли гостей: там пьют водку и громко поют. В минуты просветления хозяин дома вспоминает про нас и набавляет нам на квартиры. Или посылает сказать, что мы должны сообща чинить крышу, которая разваливается. Или сарай, в котором стоит его автомобиль. Или забор. Вообще этому человеку трудно отказать в воображении. Мы чиним. И платим. Потому что сейчас с хозяином лучше не спорить… Потом он, успокоившись, продолжает пить и веселиться. Сосед, у которого дедушка был бурлаком, мрачно утверждает, что хозяин пьет не водку, а нашу живую кровь. Впрочем, надо заметить, что у соседа дурной вкус, выражающийся в любви к пышным фразам.
А бабушка иногда устремляет взгляд, горящий мрачным огнем, на хозяйские окна, грозит костлявым пальцем и бормочет, что ее рубин и чужие несчастья хозяину добра не принесут.
«На несчастьи других своего счастья не построишь», – бормочет бабушка, когда ее под вечер катят в кресле домой. И хотя ее седая растрепанная голова на фоне пылающего заката и гневные старческие глаза являют собой внушительное зрелище – слова ее, насчет чужих несчастий, сильно отдают хрестоматией, чем‑то очень отжившим и наивным, и им никто не верит.
Всем ясно, что бабушка – человек старого воспитания и отстала от установок современной жизни.
Обитатели гаража рассказывают, что их бывшие соседи все еще живут в доме, откуда всех выселяют. Переехать им некуда – у них не нашлось бабушки с рубином. Поэтому кто‑то предложил раскинуть шатры на каком‑нибудь пустыре. Идея многим выселяемым понравилась. Те, которые жили на то, что сдавали комнаты со столом и, следовательно, лишаются заработка, решили зарабатывать тоже чем‑нибудь цыганским: гадать или ходить по дворам с медведем. Пока еще вопрос находится в стадии обсуждения…
А газеты, тем временем, радостно сообщили, что скоро будут выдавать по карточкам пять фунтов угольной пыли.
Это известие очень взволновало бабушку, которой внучка по вечерам иногда читает вслух газету. Бабушка все останавливает нас и просит объяснить, почему надо радоваться, получая пыль.
– Нынче такие странные вещи пишут, неспа, мешерзами?[16]– шамкает бабушка.
Объяснить это трудно. Да мы и не пытаемся.
Иногда она в забывчивости поет дребезжащим голосом старинные цыганские романсы. Особенно она любит один, с которым у нее, по‑видимому, связаны какие‑то воспоминания:
«Все сметено могучим ураганом, и нам с тобой свобода кочевать…»
Мы представляем себе шатры и горящие в ночи костры выселяемых и думаем, что вот этот романс нисколько не устарел…
Снизу доносится лязганье ведер и в окно влетает небольшой, но острый камешек. Это веселятся бабушкины внуки.
Сосед, у которого дедушка был бурлаком, затягивает какую‑то заунывную песню.
Надо брать ведро и идти за водой…
Хозяин
(С натуры)
– Ниночка, уложите даму…
– Мадам, вы еще не высохли. Потерпите минут пять…
– Вас только окрасить или пощипать тоже?
Была обычная атмосфера парикмахерской… Маникюрша громко требовала воды, а раздраженный дамский голос произносил:
– Я же вас просила покрыть мне цикламеном!
Все было как водится… У мастериц уже с утра вид был усталый.
– Встала в пять, – доносилось из угла, где шептались две «свободных», – постирать надо было. Вчера вернулась в 10 – по домам еще бегала на завивку – и заснула как мертвая. Пока постирала, пока ребенка накормила…
За кассой возвышался мощный бюст хозяйки. Хозяйка сидела весь день неподвижно, но работы у нее было по горло. На ее пухлом и красном лице лихорадочной жизнью жили маленькие злые глаза. Этим глазам не было ни секунды покоя. Надо было все видеть, все замечать. Давеча, не уследи она, дама ушла бы, не заплатив за сетку. Она ясно видела, что дама спросила у Нины сетку, а когда расплачивалась, про сетку – ни слова. Ну сетка, конечно, грош стоит, но сегодня сетка, завтра сетка… Хозяйка сидела неподвижно, только глаза ее шмыгали по сторонам и иногда по бюсту проходила волна; хозяйка раздражалась.
– Куда, – шипела она так, чтобы клиентки не слыхали, – куда тянешь полотенце?
– Как куда? Надо! Старое совсем грязное. Вытирать клиентку неудобно.
– Положь. Положь на место! Тебе известно, сколько мыло стоит? Не на твои деньги мыло покупается, тебе и все равно. Положь! Обойдешься!..
У хозяина и хозяйки была «отеческая» манера обращаться к служащим на «ты». Каждую новую мастерицу, поступающую на работу, они рассматривали как свою крепостную. Время военное, «девочкам» деваться некуда, а тут они работают, зарабатывают, правда, немного, но таким дурам и этого хватит…
– ДРРРР, – верещал телефон.
– Положь, положь мыло, – шипела хозяйка, и по бюсту ее проходила волна, – там еще омылок остался…
– Я извиняюсь, – раздраженно кричала какая‑то дама под сушилкой, – вы сказали, что через 20 минут будет готово, а я сохну чуть не час.
– У вас, ма