В два часа пополуночи — за час до рассвета — барабаны забили сбор. В селенье застучали ставни, послышался лязг отпираемых замков, и из всех дверей стали выходить федераты, на ходу оправляя за спиной ранец и одевая на плечо ружье. В ту минуту, когда первые лучи солнца позолотили верхушки тополей и ранние птички начали свою утреннюю перекличку, наш батальон тронулся с места, чтобы совершить торжественное вступление в Париж.
Барбару, Дантон и несколько других депутатов Национального собрания шли во главе отряда. За ними барабанщики, выбивающие дробь: «На приступ!», две пушки и походная кузница и, наконец, весь батальон в походном строе, с саблями наголо и заряженными ружьями наизготовку.
Клянусь свободой, встреться нам в эту минуту тиран со всей своей свитой, гвардией, швейцарской стражей и жандармами — мы разорвали бы его в клочья!
Я нашел в карманах две ягоды ежевики. Быстро-быстро я сделал себе подобие усов — обидно будет, если парижане примут меня за ребенка.
Вот и первые дома столицы… Какие громадины! Самые маленькие из них поднимались выше шпиля нашей деревенской колокольни. Нужно было закидывать голову назад так, что шейные позвонки хрустели, чтобы увидеть их крыши.
Долговязый Сама´ не преминул, конечно, поднять над головой плакат «Права человека», а весь батальон, словно по команде, грянул «Марсельезу».
Навстречу нам шли толпы парижан. Ребятишки кружились вокруг нас, плясали, пели, перекликались, женщины из народа с сине-бело-красными кокардами в волосах, ремесленники, рабочие, солдаты — все хлопали в ладоши, все кричали: «Да здравствуют марсельцы» и расступались по краям дороги, оставляя нам свободный проход. Радостные возгласы и клики с каждой минутой становились все громче. В воздухе мелькали поднятые для приветствия руки. Сразу видно было, что парижане — это добрые патриоты…
Но по мере приближения к центру города скромные дома предместий сменялись дворцами аристократов, и вместе с обликом зданий менялся и облик толпы. Все чаще навстречу нам попадались роскошные кареты с лакеями в шелковых чулках на запятках. Всякий раз, когда Сама´ видел в толпе лощеную физиономию, пудреный парик и холеные белые руки в кружевных манжетах, он, расталкивая встречных, кидался к аристократу и заставлял целовать свой плакат «Права человека», не взирая ни на какие протесты.
За спинами толпы, расступающейся в стороны, чтобы освободить нам проход, мы видели несколько раззолоченных носилок, обитых внутри шелком и бархатом. Два лакея в треугольных шляпах и расшитых золотом ливреях — один спереди, другой сзади — несли такие носилки. За стеклянными дверьми мы видели то разодетую даму, всю в кружевах и лентах, то высохшее личико какого-нибудь старого аристократа, то одутловатые щеки толстого прелата в нарядной рясе. Но беда, если у лакея, дамы или вельможи не было трехцветной кокарды! Мгновенно несколько федератов бросались к носилкам и заставляли испуганных аристократов тут же прицепить кокарду, которую со смехом и шутками жертвовали рабочий или женщина из народа.
Все это делалось на ходу, наспех, не задерживая ни на секунду торжественного марша батальона, прокладывавшего себе дорогу среди взволнованной, шумящей толпы. Пропустив батальон, народ бежал вслед за ним.
Пятьсот охрипших от усталости глоток пели припев «Марсельезы». От мощных звуков дрожали стены высоких зданий.
К оружью, граждане! Равняйся, батальон!
Марш, марш вперед, чтоб кровью их
Был след наш напоен!
Теперь этот гимн поют уже не пятьсот, но пять, десять, двадцать тысяч человек. Не только стены дрожат — дрожат сердца, замирает дыхание, мурашки пробегают по спине, и слезы навертываются на глаза при виде десятков тысяч поднятых вверх рук, сверкающих взоров и раскрытых ртов, поющих одни и те же незабываемые слова!
Я охрип от криков и пения. Обессиленный и изнеможенный, скрючившись от усталости и почти касаясь руками земли, я продолжал тянуть телегу с походной кузницей. Время от времени я оборачивался, чтобы поглядеть на взволнованное и грозное людское море, катившее свои волны вслед за нами. Казалось, позади нас все пришло в движение: бегут деревья, дома, мостовые и самые улицы. В воздухе стоял оглушительный шум, как будто верхушка горы сорвалась с своего места и с грохотом катилась вниз по склону, круша все и вся на своем пути и сотрясая землю.
Бурная лавина докатилась до площади Бастилии. Не отделимый от окружающей его толпы, батальон шагал по площади. Развалины Бастилии были усеяны тысячами кричащих, жестикулирующих, аплодирующих парижан. На гребнях разрушенных стен, на кучах камня, на выломанных из мостовых плитах, на вывороченных балках, на взорванных фортах, в окнах камер, открытых всем четырем ветрам, — всюду теснились люди, плечо к плечу, голова к голове…
Не переставая ни на минуту петь и тянуть телегу, я глядел на это сборище приветствующих нас людей, и голова у меня шла кругом.
И вдруг что я увидел! Там, наверху, на выступе стены, стояла Лазули, держа на плечах маленького Кларе. Она смеялась и плакала и вместе со всей толпой кричала: «Да здравствуют марсельцы!» Сердце мое вдруг перестало биться: рядом с Лазули я увидел бледную, красивую, молодую девушку. Она прижималась к Лазули, словно искала у нее защиты. Это была мадемуазель Аделина, моя спасительница!

Глава одиннадцатая
В ПАРИЖЕ

Аделина рядом с Лазули?! Я хотел остановиться, чтобы удостовериться, что зрение не обмануло меня. Но толпа неудержимо увлекала меня вперед. Я попробовал обернуться, но тотчас же передок телеги толкнул меня. Прошло еще мгновение, и я потерял из виду дорогие лица.
Чтобы побороть волнение, я еще сильнее налег на ремень и во весь голос запел вместе с товарищами: «К оружью, граждане!..»
Но что произошло там, впереди?
В начале улицы Сент-Антуан, преграждая нам дорогу, стояли парижские национальные гвардейцы. Это был отряд Сантерра. Он вышел навстречу нам, но не с сорокатысячной армией, как обещал, а всего с двумястами гвардейцев.
Сантерр убеждал нашего командира не пытаться идти к королевскому дворцу: ничто, мол, не готово, и пушки, которые мы должны были мимоходом захватить у городской ратуши, надежно охраняются по распоряжению мэра Петиона. Петион сделал то, Петион сделал это, а в общем сегодня делать нечего! К тому же Национальное собрание не успело обсудить вопроса. Не помню, какие еще доводы привел Сантерр, чтобы удержать нас от решительных действий, да это и неважно…
Важно то, что мы пошли не к королевскому дворцу, а к отведенной нам казарме. Двести гвардейцев господина Сантерра стали во главе колонны, а мы, послушные, как стадо ягнят, последовали за ними.
Толпа, которая ждала от нас решительных действий, видя, что мы сворачиваем в сторону от дворца тирана, разочарованно вздохнула и рассеялась. Мы зашагали по кварталам, населенным аристократами.
На каждом шагу нам встречались теперь роскошные кареты, раззолоченные носилки, завитые и напомаженные франты, дамы в шелках, бархате и кружевах. Аристократы презрительно усмехались, глядя на нас. Это приводило в неописуемую ярость Сама´ и Маргана. Они бросались к дверцам экипажей и носилок, насильно заставляли седоков целовать плакат с «Декларацией прав человека и гражданина», срывали с них белые кокарды и требовали, чтобы они кричали: «Да здравствует нация!» Расфуфыренные дамы, надушенные франты пугались при виде этих дюжих молодцов с черными лицами, выгоревшими бровями, сверкающими, как угли, глазами с острыми белыми зубами и звонкими голосами. Аристократы понимали, что с марсельцами шутки плохи, и дрожащими голосами возглашали:
— Да здравствует нация! Смерть тирану!
Мы поняли, что Сантерр обманул нас. Обитатели этих кварталов не стояли у порога своих домов, не смотрели на нас из окон и с балконов, не аплодировали нам и не встречали нас приветственными кликами. Напротив, отовсюду до нас доносился стук закрываемых дверей, шум захлопываемых ставней и лязг запираемых замков.
И все-таки наши барабаны, не смолкая, били «На приступ!» и звуки «Марсельезы» не стихали ни на мгновенье.
Охрипшие и потные, взволнованные и возмущенные, мы, наконец, подошли к своей казарме, в самом центре Парижа, среди лабиринта домов и улиц, вдали от Национального собрания, вдали от дворца тирана, вдали от всего! Ах, негодяй Сантерр!
В казарме Сантерр обратился к нам с длинной речью. Но он говорил по-французски, и мы поняли не больше половины того, что он сказал. Мне кажется, он хотел объяснить нам, почему мы сразу не пошли ко дворцу тирана. Затем, чтобы задобрить нас, он сообщил, что вечером в нашу честь будет устроено празднество на Елисейских полях. Но Сантерр не принял в расчет Маргана, который, не дав ему закончить речи, закричал:
— Послушайте-ка, господин парижанин, извините, что перебиваю вас. Но вам не мешает накрепко вколотить себе в башку, что мы пришли в Париж не для того, чтобы обжираться на банкетах! Мы прошли триста лье по пыльным дорогам, под палящим солнцем не ради вашей пирушки на Елисейских полях. Мы пришли сюда, чтобы стащить короля с его трона и спасти родину. Ради этого мы пришли сюда, и ни для чего другого! Если вы думаете помешать нам в этом, берегитесь! Предупреждаю вас…
Но Барбару, видя, что Марган закусил удила и несется без оглядки, остановил его:
— Погоди, погоди, друг Марган! — сказал он. — Ты, конечно, прав. Но послушай, что скажет патриот Дантон. Ты увидишь, он быстро примирит нас!
Дантон вскочил на стол и заговорил. Полчаса его речь лилась, как водопад, не останавливаясь. Жалко было, что он говорил по-французски и мы, провансальцы, не все понимали. Но все же мы почувствовали, что он говорит хорошо. Ему мы от души кричали браво и хлопали в ладоши, не то что Сантерру! А когда Дантон кончил свою речь, Барбару бросился к нему в объятия, и они поцеловались перед всем народом. Коротко говоря, они обещали повести нас к королевскому дворцу не позже, как через три дня!
Тем временем нам роздали по хлебу, по куску ветчины и по бутылке вина. Было уже около двух часов пополудни, и нас терзал голод.
Воклеру, так же как и мне, не терпелось поскорей свидеться с Лазули.
Вооружившись саблями и пистолетами, мы вышли на улицу и пошли к дому столяра Планшо в переулке Гемене, возле площади Бастилии. Ружья и ранцы мы оставили в казарме.
Улицы напоминали взволнованное море. Двери и окна домов снова растворились. На мостовой стояли группы оживленно переговаривающихся людей. Когда мы приближались, разговоры смолкали, люди оборачивались и не спускали с нас глаз, пока мы не скрылись из виду.
Но мы ни на что не обращали внимания, так как очень спешили. Держа одной рукой рукоятку сабли, а другую засунув за кушак, поближе к заряженному пистолету, мы шли посредине улицы, готовые в случае нападения пулями пробить себе дорогу.
Я не решался сказать Воклеру, что видел Аделину рядом с Лазули: порой я сам начинал сомневаться, не привидилось ли мне это от голода, усталости, шума и нескончаемого движения толп.
После долгого хождения по площадям, улицам и переулкам мы без всяких приключений добрались до дверей дома столяра Планшо.
Воклер постучал в дверь. Слышно было, как внезапно за дверью перестала визжать пила, и на пороге дома показался сам Планшо. С первого же взгляда он узнал Воклера, но вместо того, чтобы пожать ему руку и поздравить с благополучным прибытием, Планшо вдруг повернулся и убежал в дом, крича во весь голос:
— Лазули, Лазули! Пришел компаньон[28]Воклер!
И тотчас же сверху послышался голос Лазули:
— Отец пришел, Кларе! Идем скорее!
Маленький Кларе закричал:
— Папа, папа!
Мы столкнулись на лестнице. Объятия, поцелуи!.. Кларе повис у отца на шее и не хотел его отпускать.
— А у нас прибавление семейства! — вдруг сказала Лазули. — Ты помнишь Аделину, Паскале? Она освободила тебя из подвала, неужели забыл? Так вот, она теперь живет у нас. Не хвастаясь, скажу, что я вырвала ее прямо из объятий смерти. Вы увидите, какая это несчастная и милая девушка. Потом я вам расскажу ее историю. Бедняжка! Мы ехали вместе с ней из Авиньона в Париж, и я вся измучилась, глядя, как жестоко с ней обращалась эта злюка Жакарас!
Неумолчно болтая, Лазули повела нас вверх по лестнице и, остановившись на пороге комнаты, улыбаясь, спросила мужа:
— Ведь, правда, Воклер, ты думаешь так же, как и я: где пищи хватает на троих, там прокормится и четвертый?
Слушая Лазули, я очень взволновался. Ноги у меня заплетались, я с трудом поднимался по лестнице, спотыкаясь на каждой ступеньке. А ведь я только что закончил двадцатисуточный переход! Под знойными лучами солнца, при ветре, при утренней росе и вечернем тумане я, как упряжное животное, тащил тяжелую телегу по плохим дорогам. Но стоило мне услышать имя пятнадцатилетней девочки, и у меня подкосились ноги!..
Вот, наконец, Аделина! Она бледна, как восковая свеча, ее большие красивые глаза заплаканы и глядят грустно-грустно…
Глядя на Аделину, я вижу родную деревню, нашу хижину в Гарди, мать, отца. Простенькое платье девушки пахнет не то гвоздиками, не то лютиками, растущими на склонах гор, которые окружают нашу деревню. Эта нежная ручка дала мне первый кусок белого хлеба в моей жизни; она же раскрыла передо мной двери подвала, который едва не стал для меня могилой…
Аделина была так же взволнована, как и я. Она обняла меня и нежно поцеловала. Но вдруг она дрогнула. Я едва успел подхватить ее — она была в обмороке.
Лазули живо взяла ее на руки и отнесла в темную каморку на постель.
— Ничего, ничего! — сказала Лазули. — Не пугайтесь! Оставьте меня с ней, и обморок сейчас пройдет. Бедняжка столько выстрадала!
Мы остались в кухне, не смея ослушаться приказания Лазули, и она унесла на руках девушку, словно охапку полевых цветов.
Бим, бам, бим, бам! — это стучат на лестнице деревянные сабо Планшо. Согласно уставу компаньонов старик побежал принарядиться: одел пудреный парик, воскресное платье и треуголку, чтобы должным образом приветствовать компаньона. Только теперь Воклер понял, почему Планшо раньше не поздоровался с ним. Бригадир сделал условный знак рукой и ногой, Планшо ответил другими условными знаками, и только после этого компаньоны обнялись.
— Как поживаешь, авиньонец?
— А ты как, старый друг?
И они наперебой начали рассказывать друг другу разные разности, вспоминали товарищей, делились новостями.
Но приход Лазули прервал излияния компаньонов.
Став спиной к Планшо, Лазули прижала палец к губам. Воклер понял, что нужно держать язык за зубами. Что хотела скрыть от старого друга Лазули? Воклер никак не мог догадаться, но решил быть настороже.
Лазули сказала:
— Теперь все в порядке. Видите ли, Планшо, нашей дочке стало дурно. Сами понимаете, толпа, жара, волнение при встрече с отцом… Но сейчас ей лучше, она уже пришла в себя…
— Дочка-то у вас слабенькая, — ответил Планшо. — Она такая худенькая, бедняжка!
И, похлопав по щеке Кларе, он добавил:
— А вот это — настоящий мужчина. Небось, он не последует примеру сестры и не упадет в обморок от страха при виде красных южан! Ты знаешь, что они добрые патриоты!
Лазули отчаянно моргала глазами во время его речи, чтобы мы не сболтнули чего-нибудь. Не замечая этого, Планшо обратился к ней:
— Послушайте, Лазули, не нужно ли вам чего-нибудь для дочки? Не стесняйтесь, ведь мы компаньоны с Воклером, и оба красные, к тому же. Ведь вы здесь у себя дома! Я не стал бы предлагать вам это, если бы вы были аристократами. Ненавижу прислужников тирана, которые мечтают о приходе немцев, австрийцев, черта, дьявола, только бы задавить революцию и погубить родину! Но я тут заболтался, а вы, верно, устали и хотите отдохнуть… Прощайте, я спущусь в мастерскую: уйма спешной работы, а помощников у меня нет!
И, отозвав Воклера в сторону, на площадку лестницы, он тихо добавил:
— Мне дали заказ на семь гильотин[29]. Я должен их сдать не позже, как через пятнадцать дней.
Бим, бам, бим, бам! — снова деревянные сабо Планшо застучали по ступенькам лестницы.
Лазули закрыла двери комнаты, поставила на стол бутылку муската и печенье и, усевшись напротив Воклера, начала свой рассказ.
— Помните, — сказала она, — в Сольё я вам говорила, что Жакарас везет с собой какую-то девушку? Когда барабаны забили сбор и вы ушли, я вернулась с Кларе в почтовую карету. Жакарас и девушка подошли несколько позже. Я заметила, что Жакарас мертвецки пьяна: она еле держалась на ногах, и от нее шел запах винного перегара. Поднимаясь в карету, она поскользнулась и растянулась на земле. Мы с трудом подняли Жакарас на ноги. Девушка следовала за ней, роняя крупные слезы. Бедняжка была напугана до такой степени, что не смела даже громко плакать. Мы все сочувственно глядели на нее и знаками старались ободрить ее. Это зрелище просто удручало нас, и все-таки никто не осмелился выступить в ее защиту.
«Я узнаю, кто эта несчастная девочка, — подумала я, — и постараюсь спасти ее от этой ужасной женщины».
Я уселась рядом с ней, напротив Жакарас. Пьяница захрапела, как только карета тронулась с места. Пользуясь этим, я приблизила в темноте губы к уху молодой девушки и шепотом спросила ее:
— Что с вами, малютка? Почему вы плачете? Какое у вас горе? Поделитесь им со мной; если я смогу, я постараюсь помочь вам.
— Спасибо, сударыня, — ответила она дрожащим голосом, — вы очень добры, но от моего горя нет лекарства. Эта женщина замыслила что-то дурное… Не знаю, что она со мной сделает, но предчувствую печальный конец. И подумать только, что моя мать поручила ей сопровождать меня в Париж!
— А кто ваша мать, милочка?
— Я дочь маркиза д’Амбрена. Меня зовут Аделина. Мой отец и брат Роберт поехали в Париж. Я была больна после пережитого испуга, и меня оставили на попечение этой женщины. Уезжая, мать поручила ей, как только я оправлюсь от болезни, отвезти меня в Париж. Не знаю только, довезет ли она меня живой до места… А если и довезет…
— То вы будете спасены, — сказала я. — Мать любит вас и…
— Конечно, мать любит меня. Но у нас в доме живет один злой человек, телохранитель отца… Эта женщина, Жакарас, и он уговорились погубить меня! А мои родные, мать в особенности, души в нем не чают. Она, обычно такая добрая и чуткая, однажды ударила меня, потому что я сделала замечание этому человеку. С того дня я боюсь его больше, чем Жакарас. Я не сомневаюсь, что Жакарас и он поклялись погубить меня. Что мне делать?
При этих словах бедняжка снова разрыдалась. У меня сердце защемило от боли, я сама не смогла удержать слез. Долгое время мы сидели, обнявшись, и вместе плакали.
Теперь я знала, с кем имела дело. Я знала, что это Аделина спасла от смерти нашего Паскале, и потому я решила во что бы то ни стало вырвать ее из лап Сюрто и Жакарас. Пьяная торговка продолжала храпеть, я тихонько сказала девушке:
— Вы сами видите, я простая женщина, и все мое богатство — это мои две руки. Но, как я ни бедна, я, не задумываясь, приютила Паскале, которого вы спасли от Сюрто. Хотите, я дам приют и вам? Мне жалко вас, бедняжку!..
Аделина бросилась ко мне на шею, горячо поцеловала меня и быстро-быстро зашептала:
— О да! Спасите меня! Я последую за вами, куда вам будет угодно… Эта женщина уже несколько раз грозилась зарезать меня!..
— Тише, — сказала я Аделине, — так вы разбудите ее!.. Давайте условимся, моя дорогая: я помогу вам спастись от этой женщины и выдам вас за свою дочь!
— Я сделаю все, что вы прикажете! Я верю вам и знаю — вы добрая женщина! Ведь вы приютили бедного Паскале!
— Тише, — еще раз сказала я. — Жакарас, кажется, просыпается. Кстати, и заря занимается. Не забудьте, что я вам сказала!..
Жакарас зевнула, и внутренность кареты сразу наполнилась противным запахом винного перегара. Пот струйками стекал по ее отвислым щекам на тройной подбородок. Торговка недоуменно озиралась, словно она не могла понять, где находится.
Аделина не плакала больше. Время от времени она украдкой бросала на меня быстрый взгляд, как будто спрашивая: «Правда, что вы меня вырвете из когтей этой ужасной женщины?»
Наша карета быстро катила вперед. Она останавливалась на почтовых дворах только для того, чтобы сдать и принять почту. Но, как ни кратки были эти остановки, Жакарас всякий раз успевала выпить кружку вина или большой стакан водки у стойки трактира. Чем ближе мы подъезжали к Парижу, тем больше и больше она пьянела. Случалось, что, возвращаясь из трактира, она подолгу не могла вскарабкаться обратно на свое место в карете.
— Это хорошо, что она так напивается, — говорила я Аделине. — Тем легче нам будет отделаться от нее в Париже!
Бедная девушка с благодарностью и надеждой смотрела на меня.
Я воспользовалась очередной отлучкой Жакарас на одной из остановок, чтобы посвятить кучера в наши планы. Этот славный малый, — вы видели его в Сольё, — ответил мне:
— Я рад, что вы решились на это! Я с большим удовольствием помогу бедной девочке. Вот как мы сделаем. В Париже я остановлю карету перед кабачком «Золотое солнце». Жакарас, конечно, побежит к стойке. Я пойду за ней и угощу ее лишним стаканчиком водки. Пока мы будем пить, вы выйдете из кареты и скроетесь. О вещах не беспокойтесь: я спрячу их, а на следующий день вы получите их у меня на почтовой станции.
Не прошло и двух дней после отъезда из Сольё, как вечером, перед заходом солнца, мы увидели Париж. На площади Бастилии, которую революция переименовала в «Площадь славы», почтовая карета остановилась перед кабачком «Золотое солнце». Кучер открыл дверцу и, мигнув мне глазом, громко спросил:
— Кто поднесет стаканчик водки кучеру?
— Я, я, — поспешно ответила Жакарас.
Она совсем охрипла от непрерывного пьянства. Шатаясь, она поднялась со своего места и, наступая на ноги другим пассажирам, пошла к выходу из кареты. Кучер помог ей спуститься на землю и, взяв под руку, повел в кабак.
Настал удобный момент. Я сделала знак Аделине, взяла на руки Кларе, и, оставив на месте все вещи, мы быстро вышли из кареты. Остальные пассажиры провожали нас удивленными взглядами. Через полминуты мы уже смешались с густой толпой, сновавшей по площади.
Бегство удалось. Теперь оставалось только узнать дорогу к дому столяра Планшо.
Спросив у первого встречного, как разыскать переулок Гемене, мы бросились бегом в указанном направлении, часто оборачиваясь, чтобы удостовериться, что Жакарас не следует за нами. Но, к счастью, ее не было видно.
Двери нам открыл сам Планшо. Я назвала себя и, указывая на Аделину и Кларе, сказала:
— Это дети Воклера.
Планшо и его жена Жанетон приняли нас, как родных. И не прошло и получаса, как мы сдружились с ними так, словно всю жизнь были знакомы. Мы не уставали рассказывать, а они — слушать о нашей родине, о тебе, Воклер, о марсельском батальоне, который должен был скоро прибыть… Теперь вы сами понимаете, что нужно сохранить тайну Аделины и продолжать выдавать ее за нашу дочь.
— Ты права, Лазули, — сказал Воклер. — Я хорошо знаю Планшо, — это добрейший человек. Но, если бы он узнал, что Аделина — дочь маркиза, он поднял бы невероятный шум и способен был бы выгнать ее из дому.
Обернувшись ко мне, Воклер добавил:
— Держи язык за зубами, мой мальчик! Для этой девочки вернуться в свою семью — значит сунуть голову прямо в волчью пасть! Мне кажется, что Жакарас, Сюрто и старая маркиза — одна шайка. Эта тройка, надо думать, решила извести маркиза д’Амбрена, Роберта и Аделину, чтобы завладеть наследством. Мне нет дела до маркиза и его сынка — пусть погибают, они это заслужили. Но Аделину мне жалко, и мы ее спасем!
В это время раздался стук в дверь, и в комнату вошла жена Планшо. Снова начались объятия, поцелуи, рукопожатия, расспросы. Затем Жанетон затараторила:
— Вот молодцы! Ай да наши красные южане! Они ничего не боятся! Не то, что эти дохлые парижане! У здешних холодная кровь, как у рыб. Они сами не знают, чего хотят. Вот языком они умеют молоть без устали! В этом деле они мастера. Надеюсь, вы не последуете их примеру, и, если вам удастся захватить Капета в его дворце, вы не удовольствуетесь тем, что покажете его народу из окна[30], как это сделали они! Да, вот о чем я хотела вас предупредить: ваши товарищи идут сегодня на празднество в Елисейские поля. Знайте, что там соберутся и аристократы; они будут задирать вас, чтобы вызвать скандал. Они вооружены до зубов и готовы на все. Следите за ними хорошенько, не спуская глаз. И не говорите мне потом, что вас застали врасплох!
— Жанетон говорит дело, — сказал Воклер. — Нам надо быть настороже. Если так, придется идти к товарищам сейчас же. Собирайся, Паскале!
Повернувшись к Жанетон, он добавил, указывая на свои пистолеты:
— Вот два добрых сторожевых пса. С их помощью мы прямехонько пойдем своей дорогой, невзирая ни на какие козни аристократов!.. Кстати, Жанетон, там, на празднике, должен быть Сантерр. Знаете ли вы его? Что вы думаете об этом парижанине? Надежный ли он человек?
Жанетон оглянулась и тихо заговорила:
— Поверьте, я не хочу запугивать вас, но советую прийти на праздник всем вместе и держать оружие наготове!.. Вы спрашиваете о Сантерре? Поговорите-ка о нем с Планшо, он его хорошо знает и может вам сказать, какая цена этому молодчику…
Голос Жанетон упал до шепота.
— Вчера, после захода солнца, он украдкой пробрался в королевский дворец. Наши видели это. Но не беспокойтесь: за ним следят в оба глаза. Мы с Планшо знаем все, что происходит в Париже, — недаром мой старик каждый вечер ходит в Якобинский клуб[31]. Вот это настоящие люди, якобинцы! Они-то не зарастут мхом! Якобинцы заказали нам семь гильотин… сами понимаете, к чему это…
Вдруг, спохватившись, она вихрем кинулась вниз и уже с лестницы крикнула:
— Я забыла, что должна сварить клей своему старику. Заказ-то ведь спешный: все семь гильотин должны быть сданы в две недели!
Когда стук ее шагов затих в первом этаже, я спросил у Воклера:
— А что это такое, гильотина?
— Понятия не имею, — сказал Воклер. — Якобинцы заказали гильотины для своего клуба, может быть, это скамьи для сидения или столы?
— Я не больше твоего знаю, что такое гильотина, — возразила Лазули, — но только это не скамья и не стол. Хотите посмотреть на нее? В маленькой комнате есть одна, — она заменяет Аделине кровать.
Любопытные, как дети, мы пошли в комнату Аделины. Здесь на полу лежал ящик шириной в четыре и глубиной в два локтя. К бокам его были приделаны две длинных доски с глубокими желобками. Концы досок были скреплены перекладиной, а к середине перекладины был прибит блок.
— Вы видите, гильотина должна стоять перекладиной кверху, — сказала Лазули. — У Планшо оказалась только одна лишняя кровать, а так как нас трое, он принес эту штуку. Он сказал, что между ящиком и перекладиной гильотины поместится не только маленькая Аделина, но даже самый высокий взрослый человек.
Воклер со всех сторон осматривал странное сооружение. На лице его было написано глубокое недоумение. В конце концов он разочарованно покачал головой, словно говоря: «Не могу понять, для чего служит эта штука!..»
Я осмелился высказать предположение:
— Может быть, это часть разборной триумфальной арки, которую готовят к празднику?
— Кажется, мальчонка прав, — ответил Воклер. — Весьма возможно, что эта штука действительно предназначается для поддержки арки. Однако, пора нам идти в казарму, Паскале!
Мы попрощались с Лазули, Аделиной и Кларе и вышли на улицу.
Я с большим любопытством смотрел на встречных пешеходов, коляски, носилки, восторгался позолоченными и разрисованными вывесками над дверьми лавок.
Скоро мы дошли до площади Бастилии.
Утром мы только мимоходом видели развалины огромного замка. Усеянные толпой, они казались очень живописными. Теперь же эти руины производили суровое и величественное впечатление.
Мы обошли кругом замка и затем направились к тому самому кабачку «Золотое солнце», куда кучер уводил Жакарас пить водку.
Войдя в кабачок, я сначала в ужасе отпрянул: посредине общего зала на поперечной балке висели генерал в полной форме и женщина с короной на голове. Только приглядевшись, я понял, что это не люди, а чучела.
— Знаешь, кто это? — спросил Воклер. — Генерал — это Лафайет[32], а женщина — королева. Каждый вечер патриоты этого квартала собираются в кабачке, срывают чучела с веревок, тащат их на самый верхний этаж дома и выбрасывают из окна при восторженных кликах толпы. Когда-нибудь они проделают то же самое в королевском дворце, но уже не с чучелами…
Выйдя из кабачка, мы пошли по набережной Сены. Сена — это река, протекающая по Парижу. Она значительно уже Роны, вода ее грязна и масляниста, и течение такое медленное, что нужно долго всматриваться, чтобы определить, в какую сторону течет река.
День был уже на исходе, когда мы добрались до отведенной батальону казармы.
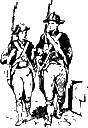
Глава двенадцатая