Акулоубежище служило лифтом для ныряльщиков; на дне оно играло свою обычную роль. Впрочем, его прутья с просветами в восемь дюймов не могли бы преградить путь морским змеям.
Правда, за первую неделю работ мы не встретили ни одной змеи. Зато когда пошли на следующую станцию, то по пути у самой поверхности гладкого моря увидели извивающиеся белые и желтые ленты. Змеи казались такими же нереальными, как их деревянные подобия, которые выскакивают из волшебных шкатулок индийских мастеров. Иные поспешили уйти от «Калипсо», но другие проплыли довольно близко. Ничего не стоило выловить их сетью, но почему‑то никто не решился этого сделать. К нашему удовольствию, геологическая станция находилась за пределами скопления змей.
Захватив кинокамеру, я вместе с Дюма и Кьензи спустился в клетке. Видимость под водой была скверная – пятнадцать – двадцать футов. Лифт лег на дно, Дюма смел пыль с твердого ложа и принялся выискивать щель для долота. Тем временем Кьензи и я отправились знакомиться с немногочисленными местными жителями. Вокруг небольших горгонарий сновали бесцветные коралловые рыбки, которых не стоило снимать. Внезапно из мглы возникла наша первая морская змея. Она извивалась над самым дном, и удивительно маленькая голова ее с крохотным ротиком вовсе не казалась грозной. Змея скользнула мимо, не обратив на нас никакого внимания. А вот вторая, уже покрупнее, футов семь в длину. Она вяло покружила около нас, но глаза в булавочной головке были настолько малы, что по ним ее мыслей не прочесть. Я занял позицию с камерой перед ней и подал знак Кьензи, чтобы он плыл в поле зрения объектива. Он не понял моего жеста и взмахнул кувалдой, собираясь размозжить змее голову. Потешное зрелище: человек пытается поразить животное, почти такое же текучее, как сама вода! И все‑таки Кьензи удалось нанести змее страшный удар чуть позади головы. Судорожно дергаясь, она, несмотря на смертельную рану, заскользила прочь. Я попросил ныряльщиков больше не трогать змей.
Прошел не один день, прежде чем мы снова увидели морскую змею. Они встречались довольно редко. Наши люди совершили в Персидском заливе несколько тысяч погружений, и ни один не подвергся нападению. Подозреваю, что это еще одно из незаслуженно оклеветанных «морских чудовищ».
Мы покидали Персидский залив, с гордостью глядя на черную доску, на которой было написано мелом: «Станция 400». Гравиметрических замеров сделано вдвое больше, чем нам заказали. На участке концессии во многих местах отмечены аномалии, подкрепленные свидетельствами образцов эоценовой эпохи. Опираясь на наши данные, «Британская нефтяная» отправила в этот район сперва сейсмографическую экспедицию, затем бурильщиков. А в июле 1962 года из Абу‑Даби вышел первый танкер, груженный нефтью «месторождения Калипсо». Ежедневная добыча достигала сорока тысяч баррелей.
Едва мы завершили эту экспедицию, как перед нами неожиданно открылись радужные перспективы. Пришла радиограмма: Государственное управление научных исследований и министерство просвещения согласились помочь финансированию океанографических экспедиций «Калипсо». Государство обязалось покрывать примерно две трети наших ежегодных текущих расходов; взамен мы девять месяцев в году будем выполнять научные задания.
Четыре года мы ждали министра, который продержался бы достаточно долго, чтобы добиться от правительства поддержки нашей группе.
Пройдя испытание подводной нефтеразведкой, «Калипсо» и наш исследовательский центр впоследствии не раз выполняли задания промышленности. Мы отклоняем рядовые поручения, которые могут быть выполнены обычными водолазами или аквалангистами; нам по душе неизведанное и увлекательное. Проверяли устройства, которым предстоит работать под водой, помогали прокладывать электрический кабель в Лионском заливе. В числе наших самых удивительных заданий были поиски воды… под водой.
Подобно многим населенным пунктам в наши дни, приморский город Кассис, лежащий восточнее Марселя, испытывал недостаток в питьевой воде. Между тем рыбаки и ныряльщики знали, что по соседству, возле Пор‑Миу, из‑под белого известнякового мыса вырывается в море поток пресной воды. Впервые это явление было отмечено еще в 1725 году. И «Эспадон», забрав тридцать пять ныряльщиков и техников, вышел в Пор‑Миу искать подкрепление для кассисского водопровода.
Подземная река вливается в море на глубине около сорока футов. Восемь двоек ныряльщиков попеременно уходили под воду, все дальше проникая в русло и укрепляя осветительную проводку вдоль свода. Пройдя сто пятьдесят футов, вдруг заметили дневной свет. Здесь был ход, который открывался на поверхности земли в пятидесяти футах над рекой. Это позволило намного укоротить электропроводку: генератор перенесли ко входу в шахту и оттуда спустили вниз провода.
Главная пещера простиралась дальше почти горизонтально, причем река оказалась двухслойной – вдоль дна пещеры бежал внутрь поток теплой соленой воды, над ним устремлялась в море холодная солоноватая струя. Плоскость соприкосновения двух противоположных потоков была отчетливо видна, она напоминала глицериновую пленку. Просунешь голову сквозь нее, и тебя тянет в противоположные стороны; вверху холодно, снизу тепло. Для изыскателей двухслойность была очень кстати: внутрь они плыли вдоль дна, возвращались по поверхности.
В трехстах футах от входа в своде оказалась небольшая полость, заполненная воздухом. А дальше опять – каменная труба с водой. Солемер все время показывал наличие соли в воде, но во многих местах ее было настолько мало, что не оставалось сомнения: поблизости есть пресноводные источники. Когда изыскатели ушли от входа на девятьсот семьдесят пять футов, ложе подземной реки резко опустилось, линия свода тоже пошла вниз. Глубина здесь достигала девяноста пяти футов. Дальше проникнуть было невозможно. Но анализ участков с наименьшей соленостью позволил нам подсказать властям Кассиса, где бурить сверху, чтобы добраться до пресной воды.
Другое необычное задание мы назвали «Операция Красный ил». Алюминиевый завод в Гарданне, по соседству с Марселем, грозил похоронить окрестности под горами отходов. Как всегда в таких случаях, заводские инженеры вспомнили про море. Они предложили смешивать отходы с водой и по трубам выводить на материковую отмель. Рыбаки и биологи решительно восстали: красный ил погубит все донные организмы! Я был вполне согласен с ними, но обещал все‑таки заводу придумать какой‑нибудь выход.
Сперва нужно проверить, как же выброс повлияет на дно шельфа. Будет ли пульпа оседать, или останется во взвеси, или ее унесет течением? Я нагрузил отходами тендер и вышел в море у Моргиу. Здесь чистая голубая вода, и на глубине пятнадцати футов типичное марсельское дно: песок и зеленое морское пастбище. Поместив под спущенный с тендера шланг кинокамеру с цветной пленкой, я распорядился выпускать отходы.
Вниз устремился темный столб. Течение увлекло в сторону легкие частицы, крупные зерна посыпались на дно. Получилось нечто вроде опрокинутого атомного взрыва. Рыбы бросились наутек. Красное облако поглотило аквалангистов. Наш опыт показал, что такой способ избавляться от отходов погубит места промысла на континентальном шельфе.
А если спускать их через длинную трубу в естественный контейнер – скажем, подводный каньон? В четырех милях от Кассиса мы отыскали заиленный каньон глубиной шесть тысяч футов. Здесь все равно не занимались ловом. Этот каньон мог вместить все отходы алюминиевого завода на сто лет вперед. Мы тщательно прощупали дно гидролокатором и наметили схему трубопровода с выходом на глубине тысячи футов; так глубоко трал не опускают.
Это решение неожиданно оказалось полезным и для наших научных изысканий: оно позволяло вести наблюдение за отложением искусственных осадков, судить о поведении течений и распространении ила по абиссальной равнине.
Самое крупное задание от промышленности «Калипсо» получила в 1958 году, когда буровые вышки обнаружили в Сахаре запасы природного газа. Месторождение Хасси Р’Мель оставляло далеко позади все известные до тех пор месторождения Европы и Африки. В отличие от США, где очень много природного газа, Европа зависит от коксогазовых комбинатов. Чтобы довести газ из Сахары до кухонь Стокгольма и заводов Триеста, его хотели транспортировать по трубам к Средиземному морю, там сжижать, на танкерах доставлять в европейские порты, после чего опять по трубам подавать потребителям. Но этот способ, влекущий за собой огромные расходы, все равно не мог ни использовать полностью возможности месторождения, ни обеспечить все потребности в газе.
Генеральный инспектор компании «Газ де Франс» Жак де ля Рюль высказал смелую мысль: проложить газопровод по дну Средиземного моря. Отпадала надобность в установках для сжижения газа и в танкерах. Трубы он предложил класть через самую мелкую часть Западного Средиземноморья. Здесь глубина несколько превышает восемь тысяч футов, кратчайшее расстояние между берегами 115 миль. Но де ля Рюля тревожила даже не столько глубина, сколько крутые уступы материкового склона у берегов Африки и Испании. Он попросил «Калипсо» изучить обширные районы вокруг предполагаемой трассы, чтобы найти лучший грунт. Мы на шесть месяцев отказались от научных исследований и занялись заданием газовой компании.
Пришлось применить все известные нам способы изучения дна и придумать немало новых. Трубопрокладчикам нужно было знать глубину с точностью до трех футов и географические координаты с точностью до пятидесяти футов. Требовалось замерить скорости течений в огромном вертикальном разрезе до самой поверхности моря, собрать множество проб грунта, определить содержание бактерий и процент кислорода, испытать материалы на коррозию, снять донную трассу на стереофото и кинопленку.
Чтобы обеспечить нужную точность, на кормовой палубе «Калипсо» смонтировали шестидесятифутовую радионавигационную антенну типа «Декка». На нее поступали импульсы с двух береговых станций в Алжире и Испании. Мы установили очень точный гидролокатор и картографический стол. Картографы, работая посменно, воплощали в чертежи данные «Декки» и гидроакустические профили. Получились карты, которые точностью могли бы поспорить с самыми крупномасштабными картами генштаба.
Через пять месяцев я смог представить де ля Рюлю объемный макет идеальной трассы для трубопровода от Мостаганема до Картахены. В качестве приложения следовал полный грузовик обработанных проб грунта, кипы карт, множество цифровых данных с объяснениями, тысячи фотографий и кинолент, привязанных к определенным точкам карты. Получив все это, генеральный инспектор вышел в море и в разных местах трассы опустил на дно несколько миль экспериментальных секций.
Первый межконтинентальный газопровод может сыграть для народов Африки и Европы не менее важную роль, чем сто лет назад сыграли первые трансокеанские телеграфные кабели. Вместе с де ля Рюлем я твердо верю, что прокладка трубопровода пройдет успешно; надсмотр и текущий ремонт можно осуществлять с подводных судов.

Глава двенадцатая
Морское дно

Мой отец Даниель заблаговременно пришел к инспектору таможни в Канне, чтобы уговорить его пропустить без задержки не подлежащее обложению пошлиной уникальное научное оборудование, которое должно было прибыть в тот день. Наконец появился лайнер, и с него на лихтере съехал на берег Гарольд Эджертон, везя с собой заветные ящики. Инспектор порядка ради указал на один ящик и спросил, что в нем лежит. Папа Флеш смущенно зарделся и поднял крышку. Внутри оказались банки с арахисовым маслом; без него наши американские друзья не могут жить.
Таможенник наугад ткнул пальцем в другой ящик. В нем лежал пищик – новое изобретение Эджертона. Желая убедить инспектора, что речь идет о самом настоящем научном приборе, профессор включил ртутный контакт, и пищик начал пищать. Инспектор решил, что это какая‑нибудь особенная бомба, и задержал обоих. Только через шесть часов они получили свое снаряжение.
Пищик воплощал стремление Эджертона взять реванш за наши прошлогодние неудачи, когда мы впервые пытались снимать дно на большой глубине его камерой, сопряженной с электронной вспышкой. Установив резкость на восемь – десять футов, мы опускали камеру в море, и каждые двенадцать секунд щелкал затвор. Вся беда в том, что мы не могли проследить, выдерживается ли заданное расстояние. Камеру погружали до тех пор, пока она не касалась дна, потом немного поднимали – авось хоть несколько кадров получатся резкими. В итоге иллюминатор частенько оказывался залепленным илом, который интересовал только специалистов по донным отложениям.
В разгар этой мало обнадеживающей кампании мы зашли в Тулон и выпросили в Военно‑морском арсенале магнитострикционный датчик – прибор, который крепят на корпусе судна, чтобы посылать и принимать акустические импульсы. Эджертон соединил его с герметичным осциллятором; получилось устройство, которое каждую секунду издавало звуковой сигнал. Этот сигнализатор установили на одном кронштейне с фотокамерой. От кронштейна вниз на трехжильном кабеле длиной восемь футов свисал ртутный выключатель.
Мы фокусировали объектив на восемь футов и погружали весь аппарат на дно. Надев наушники, я следил за сигналами эхолота. Как только они прекращались, я кричал машинисту лебедки «стоп!», и он поднимал камеру на несколько футов. Появление сигналов означало, что фотоаппарат поднялся на восемь футов над дном.
Однако на этом наши затруднения не кончились. Дно моря было неровное, аппарат задевал бугорки, а углубления оказывались не в фокусе. Сигналы прекращались и возобновлялись настолько неожиданно, что машинист лебедки не поспевал поднимать и опускать камеру.
Тогда Эджертон расположил источник звука на кронштейне так, чтобы импульсы шли не только вверх, но и вниз, где их отражало дно. Теперь можно было определить с корабля, на какой высоте над грунтом идет аппарат. Эта импровизированная конструкция, родившаяся на «Калипсо», и стала потом пищиком, который позволяет океанографам управлять приборами с точностью до одного фута.
С помощью пищика «Калипсо» сняла тысячи фотографий глубоководных ландшафтов в Атлантике, Средиземном море, Индийском океане. Аппарат смотрел вниз, как при аэрофотосъемке; в один заход экспонировалось до восьмисот кадров. Снимки, сделанные на глубине от полумили до трех миль, показали дно, изборожденное кратерами, конусами, извилистыми норами. И ни одного животного, которому можно было бы уверенно приписать авторство этих сооружений.
Папа Флеш собрал хитроумнейшую подводную камеру, а она, вместо того чтобы рассказать нам о жизни в царстве тьмы, только задавала новые загадки.
– Телеуправляемая океанография зашла в тупик, – сказал я ему.
Он улыбнулся. Эджертон из тех людей, которые способны выбросить в окно то, над чем работали всю жизнь, если будет предложено что‑то лучшее. Что именно? Мы оба знали: в этом случае фотокамеры не могут соперничать с человеческим глазом. И Эджертон первым из ученых проник в загадочную пучину на французском батискафе.
Только пытливый глаз наблюдателя может опознать жителей грунта; шарящим наугад подвесным приборам это не под силу. Профессор Жан‑Мари Перес ближе всех нас подошел к открытию обитателя океанского дна. Вместе с капитаном Жоржем Уо он погрузился на батискафе ФНРС‑3 на глубину десяти тысяч футов в море у берегов Португалии. Они сели на илистый грунт, вдруг на дне вздулся бугорок, и какое‑то животное, скрытое под илом, бросилось наутек, оставляя валик, словно крот.
В 1954 году мы решили с помощью камеры Папы Флеша исследовать у Коморских островов в Мозамбикском проливе обитель знаменитого «живого ископаемого» – целаканта. Среди известных нам рыб этот вид дольше всех сумел сохраниться неизменным. Современный целакант в точности похож на ископаемых, найденных в слоях, возраст которых определяют в шестьдесят миллионов лет. Его научное наименование – Latimeria chalumnae Smith. Коморцы выразительно называют целаканта «рыбина». Удивительный гость из прошлого, которого считали давным‑давно вымершим, был опознан в 1938 году по гниющему экземпляру южноафриканским ихтиологом, профессором Дж. Л. Б. Смитом. Открытие Смита называют «самым поразительным событием века в области естественной истории».
Только в 1952 году в Коморском архипелаге был пойман второй целакант. Профессор Джемс Милло из Парижского музея естественной истории назначил вознаграждение в сто фунтов стерлингов за каждый следующий экземпляр; это двухлетний доход коморского рыбака. За живого целаканта выплачивалось вдвое больше. И когда Милло отправился с нами на «Калипсо», островитяне уже забросили все другие виды лова ради рыбины.
Добытые тщедушными коморцами экземпляры – их насчитывалось к этому времени шесть штук весом от 64 до 127 фунтов – были взяты ночью на глубинах от 500 до 1300 футов с утлых аутриггеров, едва вмещающих одного человека. Нас познакомили с Хумади Хассани, которому посчастливилось вытащить целаканта номер три, весившего всего на двадцать фунтов меньше, чем сам рыбак. На толстый железный крючок, привязанный к хлопчатобумажной леске в 3/32 дюйма и наживленный усачом, Хассани поймал своего целаканта на глубине 650 футов. Полчаса длился поединок между человеком и рыбой.
Рыбина – сильный хищник с твердой чешуей и своеобразными, напоминающими конечности плавниками, о которых Милло говорит, что они «пролили дополнительный свет на важнейшую анатомическую загадку – как плавники древнейших рыб могли развиться в конечности наземных позвоночных, в том числе в человеческую руку». А профессор Смит писал, что целакант – «ближайший родственник давно вымершей рыбы, которую считают предком всех наземных животных. Целакант – едва ли не часть ствола родословного дерева человека».
Зная, что рыбину ловят близко от берега, мы обошли все острова, чтобы провести эхолотную съемку крутых подводных склонов. Увидев, как мы опускаем в море фотокамеру, островитяне подумали, что мы хотим сфотографировать рыбину. Но вероятность такой удачи равна одной миллионной, и мы это знали; нашей целью было снять среду, в которой обитает целакант. Объектив запечатлел черные вулканические ландшафты, а термометр показал, что на глубине, где живет целакант, вода на двадцать пять градусов холоднее, чем у поверхности.
Однажды ночью два рыбака, Зема бен Саид Мохамед и Мади Бакари, выйдя на пироге в море, в миле от берега опустили на глубину 840 футов крючки, наживленные усачом. Только взошла луна, как кто‑то резко рванул лесу. Похоже на рыбину… И друзья решили попробовать заработать двести фунтов, обещанные Милло за живой экземпляр.
Вот наконец добыча у поверхности. Это был пятифутовый целакант. Они подтянули отбивающегося здоровяка к пироге. Сунув руку в пасть рыбы, Зема убедился, что крючок сидит прочно. Все‑таки лучше закрепить успех… Зема продел сквозь пасть и жаберную щель целаканта вторую лесу. Взнуздав строптивого пленника, рыбаки взялись за весла и потащили его к берегу. Правда, иногда рыба оказывалась сильнее и тащила их.
Все‑таки люди одолели целаканта. На берегу его поместили в наполненный водой вельбот. Прибежавшие из деревни земляки Земы и Мади всю ночь пели и плясали вокруг рыбины. На всякий случай вельбот затянули сверху сетью. Впрочем, целакант явно смирился с заточением. Он медленно плавал, вращая грудными плавниками; второй спинной и анальный плавники играли роль руля. Окружившие лодку коморцы с почтением смотрели на светящиеся зеленовато‑желтым огнем глаза целаканта.
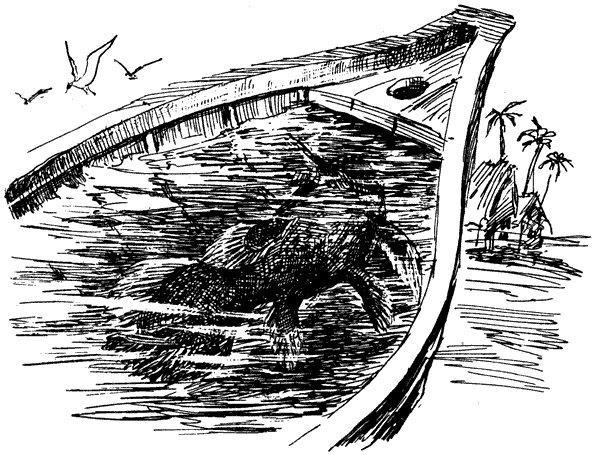
Когда взошло солнце, пленник стал прятаться в самых темных уголках лодки. Похоже было, что свет причиняет ему физическую боль. Вельбот накрыли брезентом. В полдень прибыл профессор Милло. Он залез под брезент и уставился как завороженный на живого целаканта. Рыба слабела у него на глазах и плавала все более вяло. Наконец она перевернулась брюхом кверху, судорожно забила плавниками и умерла. Милло с грустью заключил, что целакант погиб из‑за фотофобии, то есть чувствительности к свету; вероятно, сыграла роль и резкая перемена температуры[9]. Зема и Мади получили двойное вознаграждение, и к местной целакантовой аристократии прибавилось еще два богача.
Пищик Эджертона преподносил нашим ученым немалые сюрпризы. Так было, в частности, с профессором Пересом, когда он изучал биологию шельфа между Сицилией и Тунисом. Подводные пловцы доставали ему образцы с доступной глубины; дальше приходилось опускать обыкновенную драгу. Мы подняли липкую желтую грязь с глубины двух тысяч футов, и Перес погрузил в нее руки по локоть, отыскивая признаки органической жизни.
– Кажется, ничего нет, – заключил профессор и стряхнул ком грязи в банку.
Потом понюхал ил, попробовал на вкус кончиком языка, не обращая внимания на наши гримасы. И продиктовал своему помощнику:
– Станция десять, желтый ил. Грунт азойный – никакой жизни.
Я давно уже с недоверием относился к драгам.
– Как вы смотрите на то, чтобы проверить дно фотокамерой? – спросил я Переса.
– Пожалуйста, – ответил он. – Да только лучше бы отойти в сторонку, здесь же ничего нет.
Мы не стали никуда уходить, а опустили камеру Эджертона на «азойный» грунт. И получили на редкость живописные снимки богатой донной жизни.
Перес немедленно потребовал, чтобы время пользования лебедкой, отведенное его группе, было увеличено вдвое. Он хотел на каждой станции, кроме драги, опускать фотокамеру. Наши матросы‑аквалангисты безропотно работали на лебедке в любое время суток. Спуск и подъем океанографических приборов – нуднейшее занятие для матросов кораблей, где царит кастовый дух, где ученые обедают и спорят отдельно ото всех. На «Калипсо» исследователи сидят за столом вместе с матросами, и те не стесняются расспрашивать их. После десяти лет сотрудничества с учеными многие калипсяне стали неплохими подручными биологов и недурно разбираются в подводной геологии.
Подводные пловцы добывают ученым достаточно полные коллекции в верхней, двухсотфутовой зоне, но дальше мы зависим от всяких подвесных приспособлений, которые причиняют нам немало мучений. Океанографы (дай им Бог здоровья!) – слепые нищие, ковыляющие на костылях из тросов. Все, что в наших возможностях – иногда бросить случайную монетку познания в их ладонь. Ведь мы сами бродим вслепую в этом мире чудес.
Вот уже двадцать лет я пытаюсь избавиться от тросов и линей в подводных исследованиях. Акваланг позволил отказаться от воздушного шланга и сигнального конца, к которым привязан обычный водолаз, и «Калипсо» была оборудована как площадка для подводных пловцов. На смену подвешенным батисферам пришли независимые батискафы, и я всячески поддерживал развитие новой конструкции. И уговаривал океанографов перейти на приборы, свободно погружающиеся и автоматически возвращающиеся из пучины.
Когда я получил «Калипсо», на ней была только одна якорная лебедка и катушка фортепьянной проволоки для замера глубины. Для подъема археологических находок и швартовки пришлось поставить вторую лебедку. Это был ненадежный, сильно потрепанный одноцилиндровый дизель, который мы по фамилии изготовителя называли «ломбардини». Чтобы завести его, мы бросали в цилиндр горящие сигареты и отскакивали в сторону, меж тем как два героя крутили ручку. «Ломбардини» долго изрыгал облака жирного черного дыма, разгоняя людей, прежде чем начать работать.
Потом пришли ученые и принесли с собой свои драги и иные подвесные снаряды. Мощность «ломбардини» оказалась недостаточной, и мы выбросили его, а взамен поставили электролебедку. Но гидрологи потребовали себе персональную лебедку. И в итоге каждый раз, как «Калипсо» становилась зимой на ремонт, на палубе появлялись все новые лебедки и бухты троса; одновременно увеличивалась осадка судна. Из врага тросов я незаметно превратился в их раба. Главным правонарушителем был Гарольд Эджертон – он изготовлял все более хитроумные глубоководные камеры, против которых я не мог устоять.
Как‑то летом он явился на «Калипсо» с огромными мотками блестящего белого линя из нейлона. Линь был меньше четверти дюйма толщиной, а длиной три мили.
– Сдается мне, это будет получше стальной проволоки, – сказал он. – Нейлон почти ничего не весит в воде. А этот к тому же покрыт воском, так что у него положительная плавучесть. Прочность на разрыв полторы тысячи фунтов, эластичность – около двадцати процентов.
Испытывая синтетический линь у мыса Матапан (Греция), мы опускали на нем глубоководные камеры, даже использовали его как якорный трос для катера в точке, где под килем было четырнадцать тысяч футов. И тут родилась смелая мысль: что, если сделать из нейлона якорный трос для «Калипсо»? Бросим якорь на большой глубине и сможем, не сходя с места, получить сотни снимков, которые расскажут нам, что происходит на определенном участке. Вдруг нам удастся подсмотреть загадочных обитателей морского дна…
Мы рассчитали прочность, толщину и упругость нейлонового якорного тросика длиной шесть миль и сдали заказ одной фабрике в Новой Англии. Каждая ступень длиной в тысячу шестьсот ярдов была окрашена в другой цвет; это помогало следить, сколько вытравлено.
И вот настал самый постыдный для меня день в моей войне с тросами. Стоя на пристани в Абиджане (Берег Слоновой Кости), я смотрел, в какое чучело превращается моя изящная белая «Калипсо». Что нос, что корма – сплошная путаница блоков, проволоки и кожаных ремней, с помощью которых наматывали на тяжелые барабаны шестимильный разноцветный трос. Не корабль, а прядильная фабрика! Мы готовились бросить якорь на рекордной глубине.
«Калипсо» вышла к самой большой в экваториальной части Атлантического океана впадине Романш. Ее глубина двадцать пять тысяч футов, ширина несколько миль; открыта она в 1883 году французским гидрографическим судном «Романш». От побережья Африки до впадины восемьсот миль, но мы не очень полагались на карту, потому что в этих широтах экваториальный облачный пояс затрудняет определение места по небесным светилам. И мы, идя ко впадине, приготовились не один день прощупывать дно эхолотом.
На третий день «Калипсо» пришла в район впадины. Юго‑восточный пассат гнал небольшие волны. В половине пятого утра я встал с койки и поднялся на мостик. Саут доложил, что из‑за облачности не смог ночью определить позицию по звездам. Я заглянул в штурманскую рубку. Лабан уткнулся носом в самописец эхолота, точно надеялся уловить обонянием первый скачок глубины. Возле него стояли Симона и Филипп. Я принялся распутывать ярды бумажной ленты, уже прошедшей сквозь прибор. Позади остались однообразные просторы Восточной абиссальной равнины с глубиной тринадцать тысяч футов. Теперь мы шли над предгорьями Атлантического хребта; под килем было 9 тысяч футов.
– Так! – воскликнул Лабан. – Пошла вниз.
– Это впадина? – спросил Филипп.
– Не спеши, – ответил мастер точной механики, – это была бы невероятная удача… Гляди‑ка, продолжает идти вниз!
Скрытое в абиссальном мраке дно продолжало опускаться. Одиннадцать тысяч футов… пятнадцать тысяч… На отметке двадцать четыре тысячи футов самописец остановился. Не определив позиции, Саут с первой попытки попал в игольное ушко. Мы ходили над впадиной шесть часов, промеряя эхолотом, пока окончательно не убедились, что находимся над центром.
Настал час попытаться сделать то, чего до нас еще никто не делал: забросить якорь на глубину около пяти миль. Тридцатью годами раньше немецкое океанографическое судно «Метеор» опускало якорь на глубину 18 тысяч футов. С помощью нейлона мы собирались побить этот рекорд на одну милю. Синтетический материал привлек нас потому, что металлический трос такой длины пришлось бы делать очень толстым сверху, иначе он не выдержал бы собственного веса. Нейлон невесом, но это достоинство, в свою очередь, рождало новую проблему. Чтобы лапы якоря крепко зарылись в грунт, надо тащить его горизонтально. Обыкновенная якорная цепь ложится на дно и обеспечивает горизонтальную тягу. А нейлоновый трос будет висеть так, что якорь не зацепится.
Здесь очень кстати пришлись знания, которые мы приобрели, раскапывая виновоз у Гран‑Конглуэ. Ведь пеньковые канаты тоже были очень легки в воде. Древние мореплаватели крепили к верхней части деревянного веретена тяжелый свинцовый брус, и якорь ложился как нужно. «Калипсо» почтительно испила из источника древней мудрости. К стандартному двухсотфунтовому якорю мы добавили сто футов якорной цепи, чугунную чушку на триста пятьдесят фунтов и сто футов стального троса; только потом шел шестимильный нейлоновый линь. Дополнительный груз должен был дать продольную тягу.
Чтобы нейтрализовать упругость нейлона, мы придумали двухступенчатое устройство для подъема якоря. Если прямо травить и наматывать линь, наш легкий барабан, сделанный кузнецами с Берега Слоновой Кости, может не выдержать сжатия всех витков. Мы установили здоровенный блок, сопряженный с главным валом лебедки. Пройдя через блок, линь вернется на барабан уже ненапряженным.
Я стоял возле африканского барабана вместе с кудесником эджертонской магии. Ветер дул с кормы. Дежурный на эхолоте крикнул в рупор: «Двадцать четыре тысячи шестьсот футов!» – и мы начали. Саут взобрался на кормовой кран, пропустил через блок конец нейлонового линя и срастил его с ведущим стальным тросом. Пошел в воду якорь с грузами. Управляя стопором лебедки, Октав Леандри вытравливал нейлоновый линь. В голубую толщу уходили разноцветные секции. Трение воды тормозило грузы и трос, и Леандри было все легче на лебедке. Когда якорное устройство опустилось на две мили, оно с трудом тянуло линь. В микрофон я отдавал команды на мостик. При таком сильном течении и ветре в пятнадцать узлов приходилось все время маневрировать, чтобы якорь погружался отвесно. Через два с половиной часа после начала спуска стрелка динамометра застыла на месте. Якорь лег на дно. Он еще не зацепился за грунт, но нейлон уже доказал свою пригодность.