ПЕРВОГО ПАРТИЗАНСКОГО БАТАЛЬОНА!
А в городе, притаившемся, тихом, горели редкие фонари, твердым шагом мерил улицы патруль, но тишины не было – сейчас Федя явственно услышал далекую канонаду и увидел зарницы там, на юге, где темная земля переходит в бледное небо. И понял Федя всем своим существом, что приближается решительная схватка с ненавистным Деникиным, и понял Федя, что никогда‑никогда его рабочий город не склонит красные знамена перед белым генералом. О том же пели красноармейцы в казармах за рекой Упои, и песня эта победно реяла над низкими крышами домов, над всем миром:
…На бой кровавый, святой и правый
Марш, марш вперед, рабочий народ!..
Уже целую неделю отряд типографских рабочих готовится к отправке на фронт. На плацу за городом обучаются рабочие стрельбе, штыковой атаке, рукопашному бою. Командует отрядом Федин папка, а дядя Петя – по партийной линии руководитель.
Федя на эти занятия приходит вместе с Мишкой‑печатником. Так, посмотреть. И грустно немного Феде. «Не попаду я на фронт», – думает он. Ничего, зато есть Мишка, и Федя тут будет обучать его разным штукам и, может быть, научит делать сальто.
Однажды, когда отряд занимался на плацу, прибыло пополнение из крестьян, восемнадцать человек.
Стали знакомиться. Дмитрий Иванович расспрашивал, кто каким оружием владеет. И вдруг один мужик, худой, длинный, в мохнатой шапке, увидел Мишку‑печатника и, удивленно всплеснув руками, заорал:
– Гля, святая богородица! Ведмедь нашего барина!
– Это какого такого барина? – спросил Яша Тюрин.
– Какого! – Мужик возбужденно сверкнул белками глаз. – Известно какого, Бахметьева. Ведмедь‑то небось из Ошанинского имения?
– Ну, оттуда.
– И мы ошанинские! Я, к примеру, Трофим Заулин. – Мужик захлебнулся словами. – Считай, доподлинно историю ведмедя ентого знаю.
– А не врешь? – усомнился кто‑то из рабочих.
– Да вот те крест святой! – Он истово перекрестился.‑ Сам ведмедя вот такоичким, махоньким совсем, считай, робеночком, из лесу барину принес. Думал, помягчает ко мне барин‑то, должок скинет.
– Скинул? – ехидно спросил Яша.
– Дожидайся!‑Трофим насупился.
– Так расскажи про Мишку, – попросил Федя.
– Ета можно. Как дело‑то было? Положили мы ведмедицу. С трех выстрелов. Крупная попалась. А у нее три ведмежоночка. Два в лес утекли. А третьего я за холку – цоп! А куда девать? В деревне ребятишки замордуют али собаки сгрызут. Ну и отнес барину нашему – не к ночи будь помянут. Лютый был, самосудный. Взял Вахметьев‑то ведмежонка. Говорит – для потехи. И точно. Кормили они его всласть. Но и дурить выучили: вино пил, а когда распалится, на гостей травили. И скажу я вам – был у ведмедя враг ненавистный…
– Кто ж такой? – выдохнул Федя.
– А сыночек барина, барчук окаянный. Как с Москвы приедет – а он там на юнкера обучение проходил… Так вот. Приедет и ну над ведмедем изголяться – и кнутом его стегает, и по‑всякому. Это он ему кольцо‑то в ноздрю продел. Говорила мне Марфа – она у них в усадьбе за зверем ходила, – три дня вед‑медь после сумной был, считай, чуть не помер. А потом, когда из имения‑то баре утекать начали, это он, барчук, ведмедя‑то в комнате запер, на голодную смерть его приговорил. Без сердца барчук наш родился.
– Где ж тот юнкер теперь? – спросил Федя, и ненависть закипела в нем.
– Иде? – Трофим присвистнул. – Небось у Деникина служит, в нашего брата из нагана бьет.
– Попался бы мне этот юнкерок… – сказал Яша Тюрин, и глаза его потемнели.
ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА
Федя посмотрел в окно: переулок тонет в белом густом тумане, а перед калиткой – все‑таки видно – в луже пляшут дождинки, пощипывают воду и надувают пузыри. Серое‑серое утро. И вот в такую‑то погоду отряд типографских рабочих отправляется на фронт.
Федя сопит сердито, портянку старательно крутит на ногу, надевает новые сапоги – только вчера их отец принес. Сапоги, правда, великоваты, но ничего, Федя скоро вырастет, и будут сапоги в самый раз.
У стола гремит посудой бабка Фрося, соседка. Теперь она здесь хозяйничает. А мама в больнице. Тиф у нее. Врачи говорят, что она крепкая и обязательно поправится, но к ней не пускают. Выдумали какой‑то карантин.
Бабка Фрося старательная и любит Федю. А все дома не как при матери. И отец посуровел, молчит больше. Конечно, тяжело ему на фронт уезжать, не попрощавшись с женой.
В часах‑ходиках открылись дверцы, вылезла заспанная кукушка и прокуковала девять раз.
– Садись, что ли, завтракать.
Бабка Фрося поставила на стол миску с толченой картошкой, положила ломоть хлеба около стакана с молоком. У нее своя корова есть. И эту корову кормят сейчас все соседи – а то она давно бы сдохла. Бабка Фрося всем молоко дает. Бесплатно.
Ест Федя картошку, выскребает старательно миску. Вдруг бабка Фрося как заплачет… Обняла Федю за шею, притянула к своему большому тугому животу.
– Один ты теперя тут останешься, – причитает она. – С отцом поехал бы. Все лучше было б. Да нельзя. Война. Убили б тебя там, непоседу.
– Не убили б!‑говорит Федя, а у самого слезы подступают, и в носу защипало.
И Федя на миг представил, как он едет на фронт, и его убивают, и он бездыханный лежит в чистом поле, и кружит над ним ворон. Феде ужасно жалко стало себя: такой молоденький, а уже погиб за революцию.
Бабка Фрося вздыхает:
– Когда им выступать‑то?
– Папка сказал – сегодня. Или завтра утром… И тут у Феди по щекам потекли слезы. Просто ему стало тоскливо: и оттого, что мама в больнице, и оттого, что отец уезжает на фронт, а он остается. И вообще как‑то мутно на душе.
Они поплакали вдвоем.
Потом Федя оделся, а бабка Фрося сказала:
– Я приду провожать‑то их. Все соседи наши придут. Ты там передай. На вокзале увидимся. Вместе потом домой.
– Ладно, – сказал Федя басом, потому что ему было стыдно: разревелся, как маленький.
Сделавшись серьезным и важным, он вышел во двор.
Дождь, оказывается, перестал. И туман редеть начал. Посветлело, и Федя теперь видел противоположную сторону переулка: покосившиеся домишки, мокрые заборы, а за заборами пустые сады. Федя шагал прямо по лужам – на то они и сапоги, чтобы по лужам ходить. Но только уж больно обидно: никто не видит. И Любка‑балаболка не сидит на заборе. А то увидела б его в новых сапогах, удивилась, а он так небрежно посмотрел бы на нее ну и сказал бы что‑нибудь такое… Например, он бы сказал: «Это что! Мне скоро хромовые сапожки дадут».
Но нет Любки‑балаболки. Понятно – холодно. Середина октября все‑таки. Наверно, Любка дома печку топит, и от огня волосы у нее прямо красные сделались. Идет Федя по лужам и все почему‑то о Любке думает. Вчера она шепнула ему: «Если бы не дед… У‑у, вреднющий! Я на фронт пошла бы». А что? Она пошла б. Любка отчаянная. Она санитаркой была бы, в такой белой косынке с красным крестом, и рыжие волосы под косынку ту спрятаны. Федя, конечно, тогда тоже бы на фронт подался. Его бы ранили на поле сражения в правую руку, нет, лучше в левую, а Любка его перевязала бы. И он – ни одного стона. Смотрел бы в Любкины глаза и хладнокровно улыбался. Или, может, сказал бы: «Да здравствует мировая пролетарская революция!»
– …А ну, сторонись! – закричали сзади.
Федя отскочил и вовремя: чуть не положила ему на плечо голову костлявая лошадь – он заметил, что глаза у нее чернильные, глубокие, и в них такая тоска…
Медленно идет лошадь, ноги ее разъезжаются на мокрых булыжниках. Мимо Феди плывет крытый черный фургон, и на нем белыми буквами: «Тиф». Рядом шагает старик в грязном халате поверх пальто, вожжи легонько подергивает. Глянул сурово на Федю, зашевелил сухими губами:
– Не смотри, сынок, не надо тебе на ее, безносую, смотреть.
Но уже не может Федя оторвать взгляда: из задка фургона торчат ноги, две босые, посиневшие, с грязными пятками, и две в разношенных лаптях.
«Мертвяки. От тифа померли, – догадывается Федя.‑ А вдруг и мамка помрет?..» – И ужас наполняет его, и сердце так начинает стучать, будто оно перебралось в голову. Тоскливо, страшно, невыносимо становится Феде, и он бежит по переулку, расплескивая холодные лужи. Какой он тихий, пустынный, этот переулок, ни одного человечка не видно, будто все, кто живет тут, поумирали от тифа.
Вот, наконец, и Киевская. Тут всегда шумно – народу полным‑полно. Знакомая улица, однако изменилась она. Или погода виновата: серое низкое небо над крышами, ветер сердито хлопает плакатом, что натянут над мостовой. Новый плакат. С трепетом читает Федя грозные слова: «Враг у ворот. К оружию, товарищи!» Наверно, поэтому так хмуры лица людей, так молчаливы они. И еще вся улица курится дымом – буржуйки из окон повысовывались, вот и дымят, и от этого Киевская на себя не похожа, как будто насупилась.
– …Чтоб зенки у тебя повылазили! Чтоб подавился ты своей картошкой! – истошно кричит женский голос.
– Расстрелять его, гадюку!
– На беде нашей наживается, змей!
Рев нарастает из переулка, по которому на базар ходят. И видит Федя: выводит оттуда солдат с винтовкой наперевес растрепанного бледного человека, толстого, с отвислыми щеками. На его засаленном ватнике болтается дощечка, и на ней написано: «Спекулянт!!» А вокруг солдата и человека с дощечкой женщины в клубок свились, размахивают руками, и стоит над ними рев.
– На месте его кончить надо было!
– Ишь, на горюшке‑то нашем ряшку отожрал! А у солдата лицо каменное, застывшее, только
мускул шариком катается под щекой.
– Спокойствия, граждане, – говорит он хрипло.‑ Соблюдайте революционную дисциплину. – Но голос его тонет в гвалте и выкриках.
Нарастает гул над Киевской. Видит Федя: отряд рабочих идет. Большой отряд, даже земля чуть вздрагивает под его мерным шагом. Винтовки, винтовки, винтовки… Суровые лица – молодые, старые, безусые, заросшие. Винтовки, винтовки…
– Большевики, – говорит кто‑то тихо за спиной Феди.
– Какие большаки? – удивляется старушка, похожая на засушенную воблу. – Во, гляди: и большие есть и маленькие.
Идет и идет отряд. Винтовки, винтовки, винтовки‑ над головами. Суровые лица у рабочих – враг у ворот…
«Да ведь это на фронт, наверно! – догадался Федя.‑ Значит, точно, нашим выступать сегодня!»
Федя уже бежит по улице. Конечно, выступать! Вон когда отец сказал, что недельки через две, а уж два месяца прошло. Эх, если б не Мишка‑печатник, обязательно Федя тоже поехал бы на фронт. Уж он бы придумал, как это сделать.
Вот и типография, и два каменных льва стеклянный подъезд охраняют. Мокрые львы, холодные, наверно, совсем замерзли.
«Прямо к Мишке пойду», – решил Федя. И тут он увидел, что на воротах типографского двора нет замка. Странно. Всегда он висел, огромный, ржавый, и попасть к Мишке‑печатнику можно было только через дежурку деда Василия, по внутренней крутой лесенке.
От нехорошего предчувствия сжалось Федино сердце… Он подошел к воротам, толкнул их – ворота легко открылись, пробежал через двор и замер: сарай, в котором жил Мишка, открыт. И пусто было в нем.
– Мишка! Мишка! – в отчаянии закричал Федя. – Где же ты, Мишка? Выходи! Ну, пожалуйста!..
Федя обыскал весь маленький двор. Медведя не было ни за штабелями мокрых, с подтеками, дров, ни за пустыми ящиками, – нигде не было.
«Может быть, он убежал? – думал Федя, и слезы уже катились по его щекам. – Но ведь ворота открыты. Значит… украли?»
– Мишку украли! – Федя влетел в дежурку.‑ Дедушка Вася, нашего Мишку украли!
Федя так закричал, что кошка Ляля, спавшая на столе у керосиновой лампы, сердито зашипела и опрометью метнулась в открытую дверь, а дед Василий схватил винтовку и загремел ею.
– Что‑то ты глупости говоришь. Как это украли?
– А так. Нету Мишки‑и…‑ Федин голос дрожал от слез.
Вместе с дедом Василием они поднялись в наборный цех, и в типографии началась паника: «Мишку‑печатника украли!»
Федю обступили рабочие, были тут дядя Петя с папой, прибежал из своей комнаты Давид Семенович и, узнав, в чем дело, сразу уронил пенсне. Со всех сторон кричали:
– Не может быть!
– Разве медведя украдешь!
– Али подшутил кто?
– Когда его последний раз видели?
– Я вчера вечером корми‑и‑ил… – Федя никак не мог сдержать слезы. – Жмых мы с ним е‑ели…
– А ну пошли во двор! – сказал дядя Петя.
На месте происшествия выяснили: кто‑то сбил с ворот замок, потом открыл сарай и… Дальше было трудно что‑либо представить. Было ясно одно: медведя погрузили в телегу – две колеи в мягкой земле уходили от самых ворот. Но как ворам удалось это сделать? Это оставалось тайной. И когда произошла кража?
– Скорее всего ночью, – предположил Давид Семенович. – Или рано утром. А то бы хоть кто‑нибудь да видел.
Но никто ничего не видел: ни рабочие типографии, ни дед Василий («Я что? Я тута в дежурке сидю, можно сказать, в проходной»), ни жители дома, окна которого выходили к воротам.
Весь день Федя, Яша Тюрин и другие рабочие бродили по городу – искали Мишку‑печатника. Но все было напрасно: медведь и его похитители как сквозь землю провалились.
Измученный, вконец расстроенный, вернулся Федя в типографию. Ну что теперь делать? Мама в больнице, отец на фронт уезжает, и Мишка‑печатник пропал… Останется Федя в городе один‑одинешенек, все его забудут, и умрет он от тоски…
Федя так себя расстроил, что уже не мог сдержать слез, когда открыл дверь с табличкой «Коммунист».
Смотрит, а в комнате папа, дядя Петя и Давид Семенович: неясные они, расплываются – слезы смотреть мешают. Вошел Федя, и все замолчали враз.
«Обо мне небось говорили,‑ догадался Федя.‑ Ишь, улыбаются».
– Ну, чего? – спросил Федя, сел на диван и насупился.
– Смотри, какой сердитый! – Давид Семенович взял и подмигнул Феде.
И тут отец подошел к Феде, обнял его за плечи, заглянул в глаза. Добрые у него глаза. И внимательные.
– Был я сейчас в больнице. Пустили меня…
– К маме? – встрепенулся Федя. – Чего она? Плохо, да? – И голос его вдруг стал тоненьким, как будто не его, а Любки‑балаболки голос.
– Да нет, Федюха! Лучше нашей мамке. Перевели ее в барак для выздоравливающих. Однако еще, говорят, недельки две‑три продержат. И вот договорились мы с ней… – Отец помедлил, улыбнулся.
– Ну? – прошептал Федя.
– Возьмем мы тебя с собой, на фронт.
– Ура‑а! – закричал Федя и бросился к отцу на шею.
– Только будешь ты во втором обозе. Повару помогать. И из второго обоза – ни на шаг. Матери я обещал. Понял?
– Да… – И тут Федя заплакал вдруг и уткнулся в жесткую отцовскую щеку.
Потом трое взрослых, таких хороших мужчин, посмотрев друг на друга и с облегчением вздохнув, ушли из тесной комнатки с табличкой «Коммунист» на двери, и Давид Семенович сказал уже через порог:
– Там на столе есть кое‑что. Закуси. Дядя Петя добавил:
– И поспи немного. Перед дорогой необходимо. Федя услышал, как Давид Семенович весело запел в коридоре:
Я люблю вас, Ольга!
На столе под газетой с большой статьей «Картофельный фронт» лежал на тарелке кусок холодной вареной баранины с прожилками, похожими на стекло, две серые лепешки, в стакан с откушенным краешком был налит домашний квас, и в нем плавала крохотная соломинка. Давно Федя не ел такого вкусного обеда. Поев с аппетитом, он лег на диван и закрыл глаза.
У Феди было и грустно, и легко, и как‑то ново на душе, наверно, потому, что ждала его неизведанная жизнь, дальние дороги и испытания.
ПРОВОДЫ
Когда Федя проснулся, на столе уже горела керосиновая лампа, темнота безлико прильнула к окну, Давид Семенович что‑то быстро дописывал за столом, а перед диваном стоял отец.
– Одевайся, Федюша,‑ сказал он. – Отряд уже весь на улице. На вокзал идем.
– Выступаем? – Федя пружиной вскинулся с дивана.
– Выступаете, брат. – Давид Семенович перестал писать. – Торопиться, Дмитрий, надо. Вон уже больше часа ночи.
– Да, пора, – сказал отец. – Быстрее, Федор.
Идет по ночным чутким улицам отряд. Морозную тишину будит тяжелый шаг. Где‑то впереди крикнет иногда отец:
– Левой! Левой! Левой!
И Федя старается шагать левой, но никак не попадает в общий ритм – ноги у него все‑таки еще маленькие. Потом он ведь рядом с художником Нилом Тарасовичем пристроился, а у него вон шажищи какие – два Фединых, это уж точно.
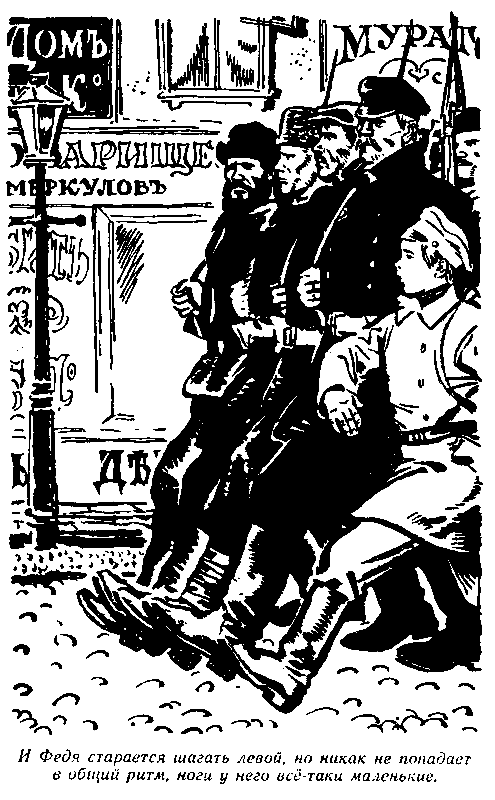
Идет по городу рабочий отряд. Ночь. Еле‑еле светится небо над крышами. Первый легкий мороз бодрит кровь. Идет отряд защищать пролетарскую революцию, насмерть стоять за первое в мире государство рабочих и крестьян. Идет отряд…
– Левой! Левой! Левой!..
И Федя Гаврилин тоже в этом отряде. И хоть нет у него винтовки, он тоже будет сражаться с беляками.
– Левой! Левой!..
Киевская; белоколонный дом имени Карла Маркса, в котором раньше жил губернатор; площадь Свободы; длинная, грязная, тесная улица – ее так и не успели переименовать, и она называется Ездовой. И вот – вокзал.
Он встречает отряд шумом, суетой, свистками паровозов. Где‑то далеко играет оркестр. И костры горят в разных концах Вокзальной площади, у костров сгрудились люди с винтовками, люди в солдатских шинелях, в гражданских пальто, в ватниках, перепоясанных пулеметными лентами. Косматые огромные тени мечутся по площади. Пахнет дымом, паровозной гарью, конским теплым навозом. Кто‑то орет истошно:
– С Оружейного! С Оружейного! В третью залу и дитя‑а!..
Где‑то поют:
Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног…
Федя видит, как на молоденьком парнишке в шинели не по росту висит красивая растрепанная девушка, и не кричит она, а воет:
– Не пущу‑у… Не пущу‑у…
Парень с пьяным лицом играет на гармошке, и около него в странном танце, пронзительно повизгивая, кружится несколько женщин.
– Товарищ Гаврилин! – кричат откуда‑то. – Где вы?
– Тут! – откликается впереди отец. – Тут мы!
– Пришли? – обрадованно кричат опять. – Золото вы мое! Немедля прямо через вокзал и на первый путь. Эшелон уже подан.
– Есть! Товарищи, не отставайте! Через вокзал на первый путь!
– Давай, Федор, руку. – Нил Тарасович до хруста сжимает Федины пальцы. – Потеряешься здесь в этой каше, дьявол их расшиби!
Они идут к широким дверям, и вокзал поглощает их…
Вокзалы, вокзалы неповторимого девятнадцатого! Как бы ни сложилась Федина жизнь, что бы ни было в ней яркого, необычайного, удивительного, он никогда не забудет вас, вокзалы грозного девятнадцатого года…
Зал ожидания теряется в голубоватом махорочном дыму, и потолка не видно в нем; только там, высоко, как бледные бессильные луны, светят слабые лампы. Сначала здесь невозможно дышать, и Федя мучительно кашляет.
– Ты ртом, ртом воздух хватай! – кричит Нил Тарасович.
Он кричит, потому что иначе Федя не услыхал бы его: зал туго набит голосами, песнями, руганью, плачем, храпом, всевозможными шумами. Кругом люди, люди, люди. С мешками, с узлами, с чемоданами, с корзинами. С мешками, с мешками, с мешками… Люди сидят и спят на лавках, на полу, на подоконниках. Усталые, изможденные, бессмысленные, озабоченные, задумчивые лица…
И вдруг Федя видит: спит на лавке, уткнувшись в угол, человек в ватнике, и по ватнику ползают вши, серые, омерзительные, кажется, с какими‑то хвостами. Липкая тошнота подступает к горлу.
Отряд пробирается среди тел, мешков, скамеек. Федя осторожно шагает по грязному заплеванному полу, который бурым покровом устилает шелуха от семечек. Кругом шум, обрывки разговоров, выкрики.
– Куды, куды прешь, скаженный? Видишь, дите спит!
– Прощения, гражданочка!
– Родимые! Роди‑имые! – голосит баба с потным красным лицом. – Мяшок уперли‑и… О‑ой… По‑могитя, родимы‑и…
У буфетной стойки очередь. Через головы виден пузатый самовар невероятных размеров. Он шипит, булькает. Табличка на нем: «Морковный чай».
– Буфетчица, слышь! – кричат из очереди. – По одному стакану лей. Чтобы всем…
У окна сгрудились пацаны, коричневые от грязи и тряпья, в которое они одеты. Федя видит, как один из них, постарше, с сильным, красивым лицом, показывает глазами другим на мужика, который заснул у своего мешка…
– Не отставай, Федор!
Почему у Нила Тарасовича такое взволнованное и веселое лицо?
– Натура, Федор, какал, тысяча дьяволов, натура!
«Что за натура такая?» – недоумевает Федя.
– Ай! Ведмедь треклятый! Сапожищем руку отдавил!
– Деникин‑то уж в Ефановском уезде…
– Не могет быть!
– Я что? Люди говорят.
– А ты уши развесил – «говорят».
Внезапно люди молча, толкая друг друга, шарахаются в стороны, образуется коридор, и по нему два санитара с зеленоватыми безразличными лицами несут носилки. На носилках – молодой парень. Федя видит его покрытое густым потом лицо с остро задранным подбородком; безумные, непонимающие глаза блуждают по потолку, по толпе. Одна рука парня свесилась с носилок, касается пола, но никто не кладет ее на грудь больного – люди испуганно жмутся, уступая дорогу.
Тиф… И беспокойная, острая, тревожная мысль о матери пронзает Федю: а вдруг и она вот так же, и никто не подходит к ней?.. Федя даже останавливается, пораженный этой картиной. Но нет, ведь отец сказал – поправляется.
– Идем, идем!‑тянет его Нил Тарасович.
– Товарищи! Поезд на Древск с запасного пути…
Шум, гвалт, все куда‑то ринулись, толкаются, кричат друг на друга, летят через головы узлы. И так удивительно: на чемодане сидит благообразный старик с белой бородкой клинышком и невозмутимо читает толстую книгу. Федя видит корешок: «Анна Каренина». И старика почтительно обтекают люди. Нил Тарасович толкает Федю в бок:
– Представляешь, сюжетик: «Толстой и революция». А? – Он блестит глазами. – Какая натура пропадает!
Наконец они пробились через зал. Отряд проталкивается в дверь на перрон.
А на перроне – ветер, пахнущий паровозной гарью; бегут куда‑то солдаты, громыхая винтовками и котелками; костры горят в разных концах – мечутся по ветру языки пламени, как красные знамена; рвется над путями, над темными теплушками плакат: «Да здравствует революционная оборона!» Проводят мимо Феди* лошадей под седлами, лошади испуганно косятся на костер, храпят, и в их глазах отражается огонь. На путях – длинный эшелон из теплушек, и в них уже солдаты, рабочие; из черных провалов вагонов торчат лошадиные морды. Теплушки обступили женщины, девушки.
– Типографские! Третий и четвертый вагоны! – слышит Федя уже знакомый голос.
И они бегут вдоль состава.
Мимо костров,
лошадей,
ящиков с патронами…
Мимо кучек людей…
Мимо песен и плачей…
Мимо разлук и надежд на встречи…
Уже виден паровоз, большой, жаркий, в красных флагах. Впервые Федя так близко видит паровоз. На третьей и четвертой теплушках написано мелом: «Отряд губ. типографии».
И Федя видит, что у вагонов стоят бабка Фрося, Любка‑балаболка, Сашка‑цыган из Задворного тупика и другие их соседи, и еще много людей, родных типографских рабочих. И Давид Семенович тут. И все они шатнулись им навстречу. Сразу смешались все, перепутались. Возгласы, плач, смех…
Федю обнимает Давид Семенович, и в глазах у него‑ так странно! – слезы. А отец быстро говорит:
– Так я прошу, Давид… Дашу не забывай.
– Ну зачем ты! Зачем лишние слова! – Давид Семенович стал суетливым, маленьким, и Феде почему‑то жалко его.
– Ты навещай ее, как разрешат.
– Конечно, конечно… – Давид Семенович вздыхает порывисто. – Если бы не болезнь проклятая… С вами бы сейчас ехал!
Федю кто‑то дергает за рукав. Смотрит – Любка‑балаболка. Красивая, очень красивая Любка. Густые рыжие волосы из‑под платка торчат, глаза глубокие, тревожные. Чаще забилось сердце Феди. Однако он зачем‑то насупился.
– Чего тебе?
– Федь… – опускает Любка глаза.
– Ну?
– Значит, ты тоже едешь? – В Любкином голосе прямо раболепное уважение.
– Ну, еду. Чего тут особенного!
– Ты напишешь мне письмо?
Теплеет Федина душа. Конечно, напишет. Про все. Про фронт, про то, как он будет сражаться с белыми.
– А зачем? – спрашивает Федя.
– Так… ‑Любкины ресницы вздрагивают.
– Ладно.
– Правда, напишешь? – счастливо улыбается Любка.
– Правда. И еще знаешь что?
– Чиво?
– Ту мою книжку про разные чудесные страны возьми себе. На память.
– Вот спасибо, Федя! А это тебе. – Она протягивает ему вышитый кисет.
– Спасибо… – Федя смущенно мнется. – Только не курю я…
– Ничего. Ты в него паек ложи.
– Ага. Где ж ты такой взяла?
– У деда стащила!
– Небось побьет теперь?
– Не… убегу.
– Люба, ты еще, когда разрешат, мамку мою проведай.
– Конечно! Как разрешат, каждый день ходить буду. – Любка взглянула на Федю, и в ее глазах и тревога, и нежность, и еще что‑то, от чего холодок скользнул по Фединому сердцу. – Федь…
– Ну?
– Ты осторожно там. Чтоб тебя не убили. Я тебя, Федя, ждать буду… – И потупила Любка глаза.
Так разговаривают они, а вокруг шум, сутолока, кто‑то под гармошку лихо пляшет «русскую», кто‑то плачет…
Вдруг рядом раздался оглушительный рев. Смотрят Федя и Любка‑балаболка, а это соседский Андрюшка заливается. Понятно: маленький, пять лет всего. Однако Федя спросил строго:
– Ну? Чего ревешь?
– Ма‑аму‑у бабкина‑а Фросина‑а корова‑а заб‑рухала‑а…
Видать, нет ничего страшнее в жизни для Андрюшки бодливой коровы бабки Фроси.
– Да вон твоя мамка! – Любка повернула Андрюшку к высокой женщине в цветастом платке. – Обезглазил?
Увидел Андрюшка свою мамку, бросился к ней и заревел еще громче.
Вдруг покатилось по перрону:
– Тише, товарищи! Будет говорить Иваныч!
– Тише! – эхом откликнулось несколько голосов.
– Будет говорить Иваныч!..
Затих перрон, только слышно, как отдувается паровоз и где‑то лошади позванивают удилами.
Дядя Петя стоял на столе, вынесенном к вагонам, и, хотя далеко было от стола до отряда типографских рабочих, Федя ясно видел высокую фигуру дяди Пети, освещенную костром.
– …Враг уже отброшен от южных границ губернии,‑ летел над перроном голос дяди Пети. – Но он не оставил надежду захватить наш город. Пусть же знает Деникин: мы никогда не отдадим ему город оружейников!
– Не отдадим! – катилось над теплушками.
– Не отдадим!..
– …потому что здесь, на наших заводах, – красная кузница пролетарского оружия. Здесь куется победа над врагом!
Дядя Петя повернулся в сторону паровоза, и показалось Феде, что глаза его светятся живым огнем‑ костер отразился в них.
– Поклянемся же, товарищи, что не отступим ни на шаг!
– Клянемся!‑пронеслось вдоль состава.
– Клянемся!‑И вверх взметнулись винтовки, матово поблескивая штыками.
– Клянемся! – закричал Федя, и голос его сорвался от волнения.
– …Пусть изведает злобный классовый враг силу и ненависть пролетариата! ‑Дядя Петя на миг умолк, и стало слышно дыхание толпы, и паровоз отдувался вроде бы осторожнее, и по‑прежнему позванивали удилами лошади. – Победа или смерть! – гневно и страстно крикнул он.
Шквал разразился над перроном: люди кричали «ура», неистово аплодировали и перекатывалось из конца в конец:
– Победа или смерть!..
И тут в людские сердца, окрыленные самыми высокими чувствами – порывом к свободе и самопожертвованию во имя других, – ударила песня, заиграл оркестр, и запел весь перрон:
Вставай, проклятьем заклейменный.
Весь мир голодных и рабов…
Тысячи людей пели, объединенные песней. Казалось, вся эта ночь с ее тревогой, движением, кострами, ожиданием грозных событий поет:
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!..
Густой длинный гудок паровоза заглушил песню. Смолк гудок, и на разные лады закричало несколько голосов:
– По вагонам!
– Товарищи, по вагонам!
– По вагона‑ам!…
И опять все смешалось, перепуталось…
Последний раз Давид Семенович обнимает Федю и что‑то говорит ему.
Сильные руки подхватывают Федю, и вот он уже в теплушке, а под ногами начинает стучать, и Федя не сразу понимает, что это колеса.
Тронулся поезд.
Сдвинулась и поплыла назад платформа с толпой провожающих. Там, на платформе, люди машут руками и шапками,
плачут,
что‑то кричат…
Последний раз мелькнуло лицо Любки‑балаболки…
Все дальше, дальше костры на перроне,
оркестр,
красные знамена.
И тот плакат: «Да здравствует революционная оборона!»
Быстрее, согласнее стучат колеса, искры огненным хвостом взметнулись над теплушками…
ПРОИШЕСТВИЯ В ДОРОГЕ
Федя проснулся и сразу не мог понять, где он, что с ним. Чуть покачивало, мерный перестук слышался внизу: так‑так‑так, так‑так‑так. Федя лежал на спине, и перед глазами был потолок из серых досок; откуда‑то сбоку сочился неяркий свет.
«Да где же это я?» – Федя повернулся на бок и сразу все вспомнил.
Он едет на фронт! Неужели это правда?!
В теплушке топилась буржуйка и было жарко. Люди занимались каждый своим: отец сидел на ящике и что‑то записывал на листке бумаги, слюнявя карандаш. Дядя Петя чистил винтовку, и лицо у него было суровым. Кто спал на нарах, кто так сидел, думал о чем‑то своем, покуривая козью ножку. Яша Тюрин брился, пристроившись у маленького окошка. Трофим Заулин с сердитым лицом чистил картошку. Он первый заметил, что Федя уже не спит, и просветлел:
– А, помощничек разбудился! Приступай хозяйствовать, значица.
Отец оторвался от бумаги, улыбнулся Феде.
– Давай, Федюха, действуй, – сказал он. – По кухне у нас дежурные будут, пока повара подберем. Ну, а ты подручный у всех. Идет?
– Ладно уж, чего там. – Федя насупился. – Нож где?
Он чистил картошку и пасмурно думал: «Поваренок. Занятие тоже мне. И отказаться нельзя. Сам согласился. А что было делать? Отказался – не взяли б. Ничего. Я еще повоюю. Вот только бы на фронт приехать».
Они с Трофимом приготовили обед, и все обед в общем‑то хвалили. А потом Федя подошел к маленькому окошку и замер от неожиданности: насколько хватал глаз, медленно плыла назад белая земля. Белая‑белая. Оказывается, ночью выпал первый снег, и все было им покрыто – поля, перелески, крыши деревенек. Но не это поразило Федю. Ведь он первый раз ехал в поезде, первый раз видел он такие огромные пространства земли из окна вагона.
– Смотри, Федор! – говорил Нил Тарасович.‑ Пристально смотри, примечай. Смекаешь, какую жизнь можно организовать здесь, на нашей земле, если очистить ее от всякой мрази?
Федя согласно кивал головой, хотя смутно понимал, о чем говорит художник.
Необыкновенный человек этот Нил Тарасович! При всякой возможности художник быстро рисовал карандашом в альбоме с толстыми гладкими листами. А возможностей таких было много: эшелон больше стоял, чем ехал. Стоял на маленьких разъездах, у семафоров, просто в открытом поле, и в таких случаях паровоз виновато отдувался. И вот тогда, на этих стоянках, Нил Тарасович открывал альбом, шел с ним вдоль состава, а потом уже на ходу влезал в теплушку потный, запыхавшийся, счастливый. Садился на ящик, подзывал Федю..
– Ну‑ка, Федор, оцени. – И смотрел на Федю с ожиданием.
В альбоме были нарисованы красноармейцы у колодца, паровоз в клубах пара и дыма, мужики, вышедшие к эшелону, стрелочник с флажком трубочкой, лошади и кавалеристы, деревенские девчата, обступившие рабочего с винтовкой. Все эти рисунки казались Феде необыкновенными, живыми, и он только вздыхал:
– Хорошо…
Нил Тарасович больно хлопал его по плечу, метко плевал в самый угол теплушки, смеялся:
– Натура, Федор, редкостная натура. Сама руку подталкивает. Вот отвоюем и напишем мы с тобой галерею картин и назовем ее… Ну, как?
– Не знаю…
– Назовем просто: «Народ в революции».
– А разве это не картины? – Федя смотрел на альбом.
– Нет, брат. Сырье. Заготовки. Мы все это маслом потом напишем.
– Маслом? – недоумевал Федя.
И начинался длинный разговор о картинах, о живописи, о художниках, и Федя слушал, боясь пропустить хоть слово…
А поезд медленно шел сквозь белые бесконечные поля навстречу фронту, который где‑то за хмарным горизонтом невнятно рокотал артиллерийской канонадой.
В середине дня надолго застряли в каком‑то большом селе. Железнодорожные пути забиты составами, но село все равно было хорошо видно – оно лежало на холме: избы в садах, сейчас серых, сквозных, широкие улицы, старые лозины на окраинах и в конце села большая белая церковь со сверкающими куполами.
Под вечер случилось происшествие. Федя как раз чистил картошку, и пальцы стыли от холода, когда послышался нарастающий шум, возбужденные голоса.
– Иде тута главный начальник? – долетел простуженный злой голос. – Нам главного подавай!
Прибежал Яша Тюрин, закричал:
– Дмитрий Иваныч! Мужики попа ведут! Федин отец выпрыгнул из вагона.
– Вот тебе раз! Это зачем же?
Попрыгали из теплушки и другие рабочие, и Федя тоже плюхнулся в притоптанный жиденький снежок.
В самом деле, из‑за вагона появился поп. Его вели два свирепого вида мужика, а третий, тоже свирепого вида, только щупленький, подталкивал попа сзади. Поп был странный: большой, толстый, в грязной длинной рясе, в огромных валенках, с губчатым красным носом и спутанной черной бородой, а глаза у него были умные и быстрые,
– Ну, что у вас стряслось? – спросил отец, и по его голосу Федя понял, что отцу чем‑то понравился этот поп.
– Безобразия, гражданин начальник! – загорячился один мужик, высокий, с длинной сухой шеей. – Разве для этого мы революцию воевали?
– В чем дело‑то? Говори толком.
– А в том. Вот он, отец Парфений, весь наш приход, можно сказать, объедает.
– Это как же?
– Оченно просто. – Мужик яростно сверкнул на попа глазами. – Надысь оброком за молебен нас обложил.
– Оброком? – ахнул кто‑то.
– Оброком! – выкрикнул мужик. – За молебен с каждого двора по два яйца и по фунту ржаной муки берет. Во!
Кругом захохотали. Мужик обиделся:
– Чаво гогочете? Ета ж беда. Не дадим оброку‑ не служит молебен, а бабы у нас какие? В слезы. Не могут без бога. Он и пользуется, бесстыжий.
Поп все это слушал спокойно, только его глаза остро поблескивали.
Дядя Петя стал суровым.
– Как же так, отец святой? – повернулся он к мужицкому пленнику. – Нехорошо получается.
Поп развел руками, и Федя увидел, что они у него натруженные, крестьянские.
– Чего же делать‑то? – проговорил он нутряным басом. – Охоч я до еды мирской. Кормиться надо. А как? Хозяйства нету, попадья померла, детишек бог не дал. Рублики сейчас – один звук пустой, да и не богат я ими. Яко благ, яко наг, яко нет ничего. Куда деваться? Сначала так у мужиков просил. «Возлюби ближнего, как самого себя», толкую. Не возлюбливают. Вот и пришлось…
Опять вокруг захохотали, и громче всех, как в трубу, хохотал сам поп. Только мужики были суровы и несколько озадачены. Снова тот, с длинной сухой шеей, выдвинулся вперед:
– Так что мы по всей, ета самая, революционной строгости требуем. Заарестуйте его и – судить.
Стало тихо.
– Что делать с ним будем, Петр? – спросил отец Феди.
Задумался дядя Петя.
– На самом деле арестовать надо, – сказал он не совсем уверенно. – А в Васильевске сдадим, куда надо.
И тут поп сам полез в теплушку, подняв полы рясы, под которой оказался добротный овчинный полушубок. Уже в теплушке, повернувшись к толпе, сказал:
– Чего там! Берите под стражу. Сознаю себя виновным.‑ А глаза его по‑прежнему были веселыми и хитрыми. – Все одно пропадать. Не арестуете – мужики из села выпрут. Они у нас лютые. – Он прочно сел на ящик, и по позе его было видно, что сидеть так он намерен долго.
Федин отец и дядя Петя переглянулись, и оба не удержали улыбки.
– Ладно! – решительно махнул рукой отец.‑ Арестовали. В