Джонатан Кэрролл
По ту сторону безмолвия
Рондуа – 5
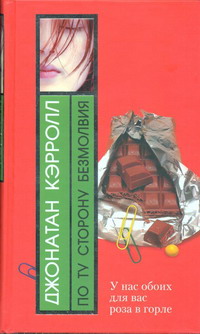
Джонатан Кэрролл
По ту сторону безмолвия
Каролине Зах, Габриэль Флоссман,
Катлин Уэтс, Герт Арёр – настоящим ангелам‑хранителям
Множество благодарностей Монике Салливэн
Доусон, дипломированной медсестре, без которойэта книга не достигла бы
финишной линии
В любой подробности мира запечатлены наши черты:
Мы отражаемся даже во мраке самой темной ночи.
Э. М. Чоран. «Уроки распада»
Часть первая. РОЗА В ГОРЛЕ
С тобой я та, кем все меня считают.
Джеймс Солтер
Сколько весит жизнь? Как это сосчитать? Сложить наши добрые и достойные дела и разделить на дурные? Или просто опустить человеческое тело на весы – и получить жизнь весом двести фунтов?
Я приставил пистолет к голове сына. Сын весит примерно сто тридцать фунтов, пистолет – не больше двух. Можно сказать и по‑другому: жизнь моего сына Линкольна весит не больше, чем пистолет в моей руке. Или пуля, которая его убьет? И после выстрела жизнь – осязаемая, весомая – исчезнет?
Он улыбается. Мне страшно. Я нажму на курок, и он умрет, а он улыбается, словно смертоносное дуло у его головы – всего‑навсего вытянутый палец дорогого, любимого человека.
Кто я? Как могу так поступать с собственным сыном? Слушайте.
Большой пробег на спидометре означал «небесные ушки». Когда день выдавался удачный, с дальними поездками и разговорчивыми пассажирами, отец частенько угощал меня у Ли, в китайском ресторанчике напротив нашего дома. Два доллара за все, включая блюдо грибов «небесные ушки» с рисом. Мама с папой терпеть не могли это заведение и никогда туда не ходили: на их взгляд, вся тамошняя еда отдавала «топленым салом». Но отец, добрая душа, давал мне два бакса, а я за это всегда обнимал и целовал его. Я был кругом в выигрыше, потому что мне нравилось обниматься с отцом. Ни отец, ни мама не скупились на ласки, не то что многие родители, считающие это тяжкой повинностью или неизбежным злом, которое приходится терпеть, раз уж у тебя есть дети.
Мне повезло. Отец научил меня щедрости, умению ужиться с уравновешенным человеком, даже если сам не таков, а также чревовещанию. Он наслаждался искусством управлять своим голосом и вкладывать в чужие уста слова, которые они не произносили.
Моей матери очень шло ее девичье имя, Ида Дакс. Невысокая, честная, строгая. К ее смятению, отец с первых же свиданий прозвал ее Дейзи и иначе звать отказывался. Он утверждал, что она и ее имя похожи на Дейзи Дак. Вообразите, чего ему стоило после этого покорить ее оскорбленное прозаическое юное сердечко. Но он смог, ибо, несмотря на серьезность, мама обожала посмеяться, а Стэнли Фишеру больше всего на свете нравилось ее смешить. Увы, делец из отца получился средний, чтоб не сказать никудышный. К тому времени, когда я как следует его узнал, он перепробовал множество профессий, и все неудачно, поэтому их с мамой вполне устроило, что отец стал единственным в городе (и потому «преуспевающим») владельцем такси. Мама, хоть и не такая терпеливая и добродушная, как папа, по счастью, не слишком беспокоилась о богатстве и материальных благах. Если семье хватало на еду и одежду, а после оплаты счетов кое‑что оставалось на «разврат» (мне – на китайские кушанья, родителям – на покупку телевизора или еженедельный поход в кино), считалось, что жизнь идет как надо. Не помню, чтобы мама когда‑либо пилила отца за то, что он не добился в жизни большего. Оглядываясь назад, я понимаю, что она не гордилась отцом, но любила его и считала, что поступила мудро, выбрав в мужья человека, с которым ей нравится разговаривать и который с неподдельным восторгом улыбается при виде ее каждый вечер, приходя домой.
Мои детские воспоминания туманны, наверное, оттого, что по большей части я был здоров и всем доволен. Помню, как сижу в ресторанчике Ли и смотрю в окно на наш дом. Помню, как играю в мяч с папой. Когда белый мяч плыл ко мне по воздуху, отец заставлял его пищать: «Прочь с дороги! Я лечу!»
Отец всегда находил время поиграть со мной, мать покупала мне только самые лучшие цветные карандаши и бумагу с тех пор, как поняла, как важно для меня рисовать. Они любили меня и хотели, чтобы я вырос цельным человеком. Чего еще можно пожелать?
Когда родился мой брат Сол, мне уже исполнилось двенадцать, и папа с мамой были мне ближе, чем он. В результате он вырос с двумя родителями и одним скорее полуродителем, чем настоящим братом, который дает подзатыльники или с наслаждением отравляет младшему жизнь. Когда я поступил в колледж, Солу стукнуло всего шесть и он только‑только пошел в школу. И, лишь десяток лет спустя, когда он стал уже подростком, а я работал в Нью‑Йорке, между нами установились какие‑то отношения.
Одна моя знакомая, писательница, недавно опубликовала автобиографический роман, который разругали критики. Она сказала мне: «Я злюсь не из‑за провала книги, а потому, что истратила на нее все свое детство».
Идея сама по себе занятная, но мне не верится, чтобы кто‑то мог «истратить» детство, сколько лет он ни проживи. Подобно некоему личному Олимпу, наша юность – тот край, где живут только боги, которых мы сами создали. Тогда наши воображение и вера были сильны, а сами мы – невинны; только потом мы стали легковерны, а затем циничны. Не важно, помним ли мы детство в подробностях или лишь обрывочно, оно неисчерпаемо.
К счастью для отца, наш городок стоял на холмах. Те, кто ездил на работу, по вечерам, сходя с поезда, бросали взгляд на лестницу в двести ступеней, ведущую к центру, и устало плелись к черному четырехдверному папиному «Форду». Многих своих потенциальных пассажиров – измученных, в помятых костюмах – он знал по именам и приветствовал похлопываньем по крыше машины и словами: «Давай, Фрэнк. Тебе сейчас только по лестнице лезть не хватает».
Я часто ездил с отцом; мне поручалось выскакивать, когда мы прибывали на место, и открывать перед клиентом заднюю дверцу. Иногда мне давали десять или двадцать пять центов на чай, но куда больше денег меня радовали разговоры по дороге. Пассажиры были людьми солидными, владельцами больших домов с видом на реку, двух машин, иногда даже теннисного корта или бассейна. Я знал по школе их детей, но те, как правило, держались заносчиво и замкнуто. Родители же – потому ли, что устали, или им хотелось немного поболтать, или они просто плыли по течению своей благополучной и упорядоченной жизни, – говорили с отцом о многих удивительных вещах. Он был хорошим слушателем, порой необычайно проницательным. Спустя все эти годы я вспоминаю их внезапное молчание, кивки и думаю, что, возможно, его совет многим помог.
Однажды на каникулах – я уже учился в колледже – я тоже поехал с отцом, когда он подвозил со станции женщину по имени Салли О'Хара. Ее муж был притчей во языцех – переспал чуть ли не с каждой женщиной в городке. К несчастью, миссис О'Хара принадлежала к числу тех, кто посвящает в свои горести каждого встречного и поперечного. Тот день не стал исключением, но между делом она сказала нечто, что запало мне в память и впоследствии привело меня к успеху.
– Стэнли, я поняла, что больше всего на свете мне нужен сыщик сути.
Отец, привычный к философствованиям пассажиров, умел прикинуться простаком.
– Расскажите, что это за зверь, Салли. Может, отдам Макса в этот бизнес.
– Все просто. Нужно только отыскать людей, которые знают «главные» ответы, Макс. Найти того, кто сможет сказать, зачем мы живем. Должен же кто‑то знать. Или того, кто скажет, отчего мой муж предпочитает провести вечер с Барбарой Бертранд, а не со мной.
Я тогда уже рисовал комиксы для студенческой газеты и придумал для хлестких комментариев и жалоб на жизнь в колледже персонаж, который назвал «Скрепкой». Комиксы были забавны и пользовались успехом, так что редакторы позволили мне рисовать все, что вздумается. Но, вернувшись с каникул, я потихоньку стал превращать «Скрепку» в нечто совершенно новое.
Прежде то была просто геометрическая фигура, стоящая посередине рисунка, рядом – еще один‑два предмета, внизу – подпись. Теперь же мой странный персонаж сместился на одну сторону композиции, а на другой появился новый – человек. Между ними располагался большой, очень реалистичный рисунок. Казалось, они оба смотрят на «фотографию» и комментируют ее. В первом комиксе серии они смотрели на гигантскую руку, наносящую тушь на ресницы огромного глаза. Подпись гласила: «Почему, когда женщины красят глаза, они открывают рот?». Которая из фигур это говорит, неизвестно, неизвестен и ответ.
Постепенно я усовершенствовал свою затею. Фотографическая часть комикса становилась все реалистичнее и в то же время загадочнее. Иногда зритель не сразу мог понять, что там изображено. Например, окурок сигареты, воткнутый в надкусанный пончик; он дан таким крупным планом, что, лишь спустя несколько секунд, соображаешь, что к чему. Очевидно, в этом заключалась одна из изюминок новой «Скрепки» – зрители сначала разгадывали «фотографию», а уж потом читали подпись.
Иногда обе фигуры помещались по одну сторону рисунка, иногда – позади, так что торчали только головы, иногда – входили или выходили из него. Они могли висеть на ниточках, как ангелочки в кукольных спектаклях, или сидеть в креслах спиной к нам и смотреть на «фотографию», как на киноэкран. Им случалось плыть мимо картинки на лодке, бегать трусцой над ней и под ней, пускать друг в друга стрелы, стоя по разные стороны. Но принцип был неизменен – две очень непохожие фигуры и все более реалистичная, но все более загадочная «фотография» между ними.
Я часто вспоминал миссис О'Хара и ее «сыщика сути»: по нескольку месяцев обдумывая новую серию комиксов, я понимал, что ищу ответы на вселенские, хотя и частные, вопросы – вроде тех, что интересовали ее. Я не предлагал решений, но, судя по реакции зрителей и письмам, которые я получал, мои работы чаще попадали в цель, чем мимо.
Итак, вот кто я такой. «Скрепка» принесла мне зрелость, статус знаменитости и обеспеченность. Автор комиксов должен уметь изъясняться кратко и емко. Если можешь сказать тремя словами лучше или смешней, чем четырьмя, – отлично. Я мог бы сколько угодно болтать о том, как жил дальше, но дальше в моей жизни была лишь одна по‑настоящему важная полоса, и началась она в тот день, когда я встретил Лили и Линкольна Ааронов. Так что тут я остановлюсь и дважды быстро «перемотаю» свою историю вперед: сначала – до тридцати восьми лет, а потом – до сорока пяти.
Представьте себе мужчину, направляющегося ко входу в Окружной музей Лос‑Анджелеса. Он черноволос, коротко стрижен, носит пижонские очки в синей оправе, небрежно одет: брюки цвета хаки, старый серый свитер и дорогие кроссовки. Обычно он так одевается для работы дома – удобно и неярко. Вам кажется, что вы уже видели его раньше. И вы правы: о нем несколько раз писали в журналах. Но известность ему принесли не внешность или характер, а работа. Сам он думает, что похож на школьного учителя химии или продавца электронной аппаратуры, который свысока смотрит на покупателей.
Это произошло спустя три недели после его, то есть моего, тридцативосьмилетия. У меня была отличная работа, кое‑какие деньги и не было девушки, что, впрочем, не слишком меня печалило. Оглядываясь назад, могу сказать, что в моей жизни то была пора спокойствия и успеха. Мне хотелось бы иметь жену и детей, которых я мог бы повести в музей, хотелось бы, чтобы «Скрепку» публиковало больше газет. Но и то и другое казалось вполне достижимым. Да, в то время исполнение всех моих желаний было не только возможно, но и вполне реально.
Ааронов я увидел почти сразу же, как вошел в здание. Женщина стояла ко мне спиной, и мне сперва показалось, что они брат и сестра. Оба невысокие, в джинсах и футболках. Лили, ростом примерно пять футов и два‑три дюйма, была выше мальчика, но ненамного. Волосы она зачесала назад и стянула хвостом, как девочка. Они спорили. Лили говорила громче, чем ей казалось: ее голос, очень женственный и взрослый, ясно доносился до другого конца вестибюля, где стоял я.
– Нет. Сначала музей, потом ленч.
– Но я есть хочу!
– Очень жаль. Есть надо было раньше. Женщина повернулась, и я увидел, что она хороша собой, но у меня уже сложилось нелестное мнение: вот одна из тех претенциозных и поверхностных мамаш, что всюду таскают своих детей, приобщая их к «культуре» посредством тыканья носом, как нагадившего щенка в дерьмо. Я отвернулся и прошел на выставку.
У меня злое, порой грубое воображение. Возможно, без этого не станешь заниматься комиксами. Так или иначе, в тот день оно нарисовало мне картину: стерва‑мамаша и голодный ребенок. Я не мог отделаться от воспоминания о хнычущем мальчике, о том, как женщина прикрыла глаза, когда громко отчитывала его. Почему просто не купить мальчишке хот‑дог – он, как все дети, проглотит его за пару минут, – а потом уж идти на выставку? Я не слишком‑то разбираюсь в вопросах воспитания, но у некоторых моих подружек были дети, и я с ними отлично ладил. Иногда даже лучше, чем их мамы. Мой опыт свидетельствовал, что ребенка надо водить как рыбу, попавшую на крючок. То чуть отпустить леску, то снова потихоньку выбирать. Ты знаешь, что ты хозяин положения; фокус в том, чтобы вываживать рыбу так, чтобы ей казалось, что все наоборот.
Этой выставки я ждал давно. Называлась она «Ксанад» и была посвящена фантастическим городам. Там были работы живописцев, архитекторов, дизайнеров… Даже нескольких рисовальщиков комиксов вроде Дейва Маккина, Массимо Йозы Гини и меня. Двумя днями раньше меня приглашали на торжественное открытие, но на открытии толком ничего не посмотришь, потому что вынужден толкаться в толпе сияющих хищниц и строящих глазки девиц, старающихся выглядеть невозмутимо, но при этом покрасоваться новыми платьями, посплетничать или присоседиться к какой‑нибудь кинозвезде. А я любил не спеша бродить от картины к картине, делать для себя заметки и ни с кем не разговаривать.
– Привет, Макс Фишер! «Скрепка», верно? Я обернулся с непроницаемым лицом. Молодой человек и его подружка, довольные, улыбающиеся.
– Привет. Как поживаете?
– Отлично. Я не стану вам докучать, Макс. Только хотел сказать, что нам очень нравятся ваши комиксы. Мы смотрели все выпуски до единого. И здесь видели вашу работу. Потрясающе! Верно, милая? – Молодой человек взглянул на жену, та энергично закивала.
– Что ж, большое спасибо. Вы очень любезны.
– Не за что. Это вам спасибо! – Они застенчиво махнули мне рукой на прощанье и отошли.
Как мило. Я постоял, глядя, как они исчезают в толпе. «Скрепка» давалась мне так легко, что в глубине души я всегда немного стыдился такого везения. Другие вкалывают как проклятые, а в награду получают крохи. Я уж не говорю о тех, кто родился уродливым, больным, неполноценным. И почему мой бутерброд столько лет падает маслом кверху?
Размышляя об этом, вместо того чтобы улыбаться комплименту, я услышал детский голос:
– Мам, знаешь, чего я по‑настоящему боюсь? Тощих статуй.
Я вытащил из кармана ручку и записал на ладони: «Тощие статуи». Надо будет потом использовать в комиксе. Интересно, что ответит мать?
– Я понимаю, о чем ты.
Тут уж я не выдержал и обернулся. Стерва‑мамаша и ее голодный сын. Она увидела, что я смотрю на них, и со следующей фразой обратилась уже ко мне:
– Тощие статуи, тощие люди. Тощему доверять нельзя. Он или тщеславен, или наркоман со стажем.
– Никогда не смотрел на худобу под таким углом. Она почесала в затылке.
– Потому что такое уж у нас общество. Мы превозносим худобу, потому что нас так учили, а сами наслаждаемся всем жирным: жирной едой, роскошными домами, распухшим гардеробом. Какую машину вы купите, если разбогатеете? «Роллс‑ройс». Маленький дом? Ну нет. Не важно, что денег у вас мало, дом надо купить как можно больше. А почему? Да потому что в глубине души мы обожаем жир. Люди приходят в ресторан, где я работаю, и притворяются, что им нравится «новая французская кухня», но это неправда. Когда они смотрят на счет, видно, что они чувствуют себя обманутыми, потому что должны столько заплатить за такие маленькие порции. А в этом‑то и состоит вся «новая французская кухня» – новый умный способ вытянуть из клиента деньги. Подайте ему парочку ростков спаржи, красиво их оформив, и вы сможете содрать больше, чем если бы подали пять. Господи, я слишком много болтаю. Я – Лили Аарон, а это мой сын Линкольн.
– Макс Фишер.
Пока мы обменивались рукопожатием, парень, который только что восторгался моими комиксами, вернулся с каталогом выставки в руках.
– Извините, что снова беспокою, но вы не подпишете? Надо было раньше спросить, но я как‑то постеснялся приставать. Ничего? – Решив, что Лили со мной, он переводил взгляд с нее на меня и назад, словно спрашивая разрешения у обоих.
Ну, стерва она или нет, а нет ничего приятнее, чем публичное признание на глазах у хорошенькой женщины.
– Конечно, конечно. Как вас зовут?
– Ньюэлл Куйбышев. Повисло молчание.
– Простите?
– Ньюэлл Куйбышев.
Я беспомощно посмотрел на Лили. Она улыбнулась, и улыбка ее, казалось, говорила: «Выпутывайтесь с честью, мистер важная шишка».
– Боюсь, вам придется диктовать по буквам, Ньюэлл.
Он медленно продиктовал, я записал. Мы пожали друг другу руки, и он ушел.
– Вот кого надо бы заставить носить, не снимая, значок с именем.
– Здесь выставлены ваши работы?
– Да. Я автор комикса «Скрепка».
– Не знаю такого.
– Не беда.
– Вы слыхали о ресторане «Масса и власть» на Ферфакс?
– Боюсь, что нет. Она кивнула.
– Значит, мы квиты. Я там работаю.
– Вот оно что.
– Ма, мы идем или как?
– Да, милый, уже идем. А вы не покажете нам свои работы, Макс? Я бы хотела начать с них. Ладно, Линкольн? Ты ведь не против?
Мальчик пожал плечами, но потом, когда мы двинулись, сорвался с места и исчез за углом. Мать, похоже, не расстроилась. Через несколько минут он возник снова, чтобы объявить, что нашел мой рисунок и отведет нас к нему. Подкупающий жест. Бедный ревнивый ребенок. Он не знал, как быть со мной и с материнским ко мне интересом, и перехватил инициативу: нашел мою работу и, объявив, где она, как бы присвоил ее. Мы пошли за ним, болтая на ходу.
– Линкольн обожает рисовать, но по большей части сражения. Катапульты, швыряющие горшки с кипящим маслом, воинов. На каждом рисунке – сотни летящих стрел. Очень жестокие рисунки. Мы потому сегодня и пришли сюда: я надеялась, что ему понравится и он станет рисовать Ксанад, а не солдат с продырявленными животами.
– Но дети любят насилие. Это возрастное, не находите? И разве не лучше, чтобы мальчик выплеснул агрессию в рисунках, чем треснул кого‑то по башке?
Лили покачала головой:
– Чушь. Самоуспокоение. Правда в том, что моему сыну нравится рисовать, как в людей стреляют. Все остальное – квазипсихологический треп.
Уязвленный, я отвел глаза. И лишь спустя долю секунды заметил, что Лили остановилась.
– Послушайте, не обижайтесь. Жизнь слишком коротка и интересна. Не думайте, что я вас оскорбила. Вовсе нет. Я вам скажу, когда стану вас оскорблять. Я тоже часто бываю не права, и вы можете спокойно говорить мне об этом. Честная сделка. Полагаю, вот ваша картина?
Прежде, чем я успел опомниться от натиска, мы наткнулись на ее сына, который, скрестив руки, с суровым лицом стоял перед моим рисунком. Спиной к нему.
– Что скажешь, Линкольн?
– Неплохо. Вы его правда сами нарисовали, честно? Клянетесь?
На Линкольне была свежая белая футболка. Не спрашивая разрешения ни у него, ни у матери, я достал синий фломастер, притянул мальчика к себе и принялся рисовать у него прямо на футболке – на животе. Он протестующе пискнул, но я не обратил внимания. Мать выжидательно молчала.
– Что тебе больше всего понравилось из моих рисунков?
– Не знаю. Мне отсюда не видно! – Мальчишка вертелся и дергался, но не сильно. Он явно наслаждался происходящим. Словно щенок, которому чешут брюшко.
– Не важно. Вспомни. У тебя что, память плохая? – Я увлеченно рисовал. Едко пахло фломастером.
– Хорошая! Может быть, получше чем у вас! Мне нравится тот, где большие дома пожимают друг другу руки.
– Ладно, я сейчас это и нарисую. – Я на миг остановился и повернулся к Лили. – Вы не сердитесь?
– Нисколько.
И я развернулся вовсю. Пляшущие будильники, птицы в цилиндрах, дома, обменивающиеся рукопожатием. Я потратил на это несколько минут, но оба мы получили столько удовольствия (Линкольн – ерзая и хихикая, я – торопливо рисуя), что время пролетело незаметно. Конечно, я распускал хвост, но это ведь не грех, если смешишь ребенка.
Когда я закончил, Линкольн стянул футболку и распялил в руках, чтобы посмотреть, что у меня вышло. И расплылся до ушей.
– Вы сумасшедший!
– Думаешь?
– Ма, ты видела?
– Замечательно. Тебе придется беречь ее, ведь Макс знаменитость. Наверное, во всем мире у тебя одного есть такая футболка.
Мальчик удивленно уставился на меня:
– Правда? Она одна такая?
– Никогда раньше не разрисовывал футболок, так что да, правда.
– Здорово!
В лицах матери и сына были черты, выдававшие их родство: тонкие правильные носы, большие прямые рты – ни приподнятых уголков, ни изгиба. Когда они не улыбались – хотя улыбались оба часто, – по выражению лиц непонятно было, о чем они думают.
Линкольну шел десятый год, но он был невысок для своего возраста и переживал из‑за этого.
– Вы тоже были маленьким в девять лет, Макс?
– Не помню, но могу сказать одно – самый крутой парень в моем городке был коротышкой, но с ним никто не связывался. Никто. Его звали Бобби Хенли.
– А что бы он сделал, если бы кто‑нибудь стал к нему приставать?
– Оторвал бы ухо. – Я повернулся к Лили. – Правда. Я как‑то видел, как Бобби Хенли, действительно самый отчаянный мальчишка в городе, чуть не оторвал кому‑то ухо на баскетбольном матче.
– Да, тот еще фрукт.
На Лили была белая мужская рубашка и длинная голубая льняная юбка до лодыжек. Красивые кожаные сандалии сложного плетения, ногти на ногах покрыты красным лаком.
– А почему на ногах вы ногти красите, а на руках – нет?
– На ногах лак выглядит забавно, на руках – сексуально. Не хочу никого вводить в заблуждение.
У Лили обо всем имелось свое мнение, и она радостно и без колебаний им делилась. Поначалу я счел ее самодовольной и (или) слегка «с приветом», так как иные ее убеждения были категоричны, а иные – нелепы. Телевидение – зло. Путешествия больше сбивают с толку, чем расширяют кругозор. Горбачев просто шпионит на Западе. Она считала, что когда идет дождь, комнатные растения непременно нужно опрыскивать водой, потому что они «знают», что снаружи дождь, и хотят получить свою долю. Она как раз читает биографию прославленного композитора, но в обратном порядке, начиная с конца – она все биографии так читает, ей это помогает лучше представить себе человека.
– В жизни ведь тоже так – сначала видишь человека таким, какой он сейчас, и только если заинтересуешься им, захочешь узнать побольше о его прошлом и детстве. Верно?
Ходить по выставке с новыми знакомыми – все равно что убираться в квартире и одновременно слушать радио. Хочется и посмотреть, и одновременно произвести впечатление. А тут еще ребенок, которому ты вроде бы нравишься, но в то же время он настроен недоверчиво. Линкольн одобрил только одну вещь – безумную трехмерную городскую улицу работы Реда Грумса. Все остальное время мальчик где‑то слонялся или изводил мать бесконечными «ну, пойдем…».
Вопреки первому впечатлению, мне понравилось, как Лили Аарон обращается с сыном. Она вела себя бережно и чутко, по‑настоящему интересовалась мальчиком, внимательно его выслушивала и разговаривала с ним как с равным. Если не видеть, к кому она обращается, можно было подумать, что Лили говорит с другом, который ей небезразличен, но никакого превосходства над ним она не чувствует.
Чудесная женщина, но вдруг она замужем? Вдруг у нее кто‑то есть? Я заходил и так, и эдак. Делал прозрачные намеки, но так и не получил ответа: «Да, я замужем» или «Нет, сейчас я одна».
– А чем занимается ваш муж? – Мы сидели перед вереницей видеоэкранов, глядя, как Линкольн расхаживает от одного к другому, заглядывая по очереди в каждый. Везде шел один и тот же фильм, только с разной скоростью: рабочие на постройке небоскреба.
Лили повернулась и одарила меня взглядом, который я выдержал не без труда.
– Вы спросили так, словно преступление совершали. Спрашивать не запрещается. Я уже не замужем. Отец Линкольна давно исчез с горизонта. Рик. Рик Аарон. Рик‑Елдык. – Она бодро улыбнулась. – Когда речь заходит об этом типе, я превращаюсь в настоящую стерву и начинаю мерзко ругаться. К нему применимы только старомодные слова – «распутник» или «негодяй». Хотя «засранец» тоже звучит недурно.
Я рассмеялся. Она тоже.
– Думаю, мы скоро пойдем, Макс. Вижу, Линкольн начинает кукситься.
– А вы хотите со мной пообедать?
– Это мысль. Минутку. – Лили встала и подошла к мальчику. Присела рядом с ним на корточки и заговорила негромко, почти шепотом. Он стоял тихо, глядя прямо перед собой, на экраны мониторов. Порой жизнь сужается до одного тонкого, как луч лазера, слова: да или нет. Я пристально наблюдал за мальчиком. Что, если он скажет «нет»? Лили такая хорошенькая…
– Ладно. Но только если пойдем в «Массу»! Лили оглянулась на меня через плечо и приподняла бровь.
– Это заведение, где я работаю. Линкольн любит там обедать, потому что там все – его друзья. Вы не против?
На улице я вместе с ними подошел к их машине, старенькому, но ухоженному «фольксвагену‑жучку». Едва я разглядел черные кожаные кресла, как внутри завозилось что‑то огромное и темное, занимавшее все заднее сиденье.
– Кто тут у вас, собака или болгарин?
– Кобб. Борзая.
Лили отперла дверцу, и огромный пес не спеша выставил наружу узкую голову, На его морде уже пробивалась седина, выцветшие карие глаза смотрели спокойным стариковским взглядом. Он философски оглядел меня, затем ни с того ни с сего высунул длинный язык.
– Вы ему понравились. Так он посылает воздушные поцелуи.
– Правда? Можно его погладить?
– Нет. Он не любит, когда его трогают. Это сходит с рук только Линкольну. Но если Коббу кто‑то нравится, он посылает ему воздушный поцелуй, вот как сейчас.
– Ага. – Можно ли интересоваться женщиной, которую считаешь чокнутой? Похоже, да.
Пес зевнул, и язык у него вывалился еще дальше. Словно медленно разворачивающаяся розовая лента.
– Он старый?
– Ему почти десять лет. Раньше он был чемпионом по собачьим бегам, но когда борзые стареют и уже не могут выступать, владельцы часто их усыпляют: содержание обходится слишком дорого. Так он к нам и попал. Его хотели убить. Усыпить или выкачать кровь.
– Что‑что?
– Из всех пород у борзых самая лучшая, ценная кровь. Ветеринары предпочитают именно ее переливать другим собакам, так что некоторые специально разводят борзых как доноров.
– Правда? – Я посмотрел на старого великана и на мгновение почувствовал жалость.
Лили нагнулась и, вытянув губы в нескольких дюймах от черного носа Кобба, чмокнула воздух. Пес глядел на нее с важным видом.
– Грустно, но правда. Вы запомнили, как доехать до ресторана?
– Да. Увидимся там.
Я похлопал по крыше автомобиля. Лили нырнула внутрь. У меня за спиной раздался визг тормозов, грохот и лязг металла: столкнулись машины. Не успел я обернуться, чтобы посмотреть, что стряслось, как Лили снова распахнула дверцу с моей стороны.
– Слышали? Где это?
– Вон там. Никто не пострадал. Похоже, только слегка «поцеловались».
– Откуда вам знать? Линкольн, сиди здесь. Никуда не уходи!
Она выпрыгнула из «фольксвагена» и понеслась через автостоянку.
– Но ничего же не случилось, – громко сказал я самому себе.
Из машины отозвался Линкольн:
– Знаю. Она всегда такая. Чуть кто‑нибудь поранится или случится авария, сразу бежит помогать. Ее не удержишь. Всегда так.
– Ладно, тогда я, пожалуй, тоже схожу посмотрю, не нужна ли помощь. А ты останься тут, Линкольн. Мы скоро вернемся.
– Не волнуйтесь. Я уже сто раз так ждал. Мама всегда над кем‑нибудь хлопочет. – Он обнял одной рукой пса, который в этот момент походил на Верховного судью.
На стоянке вокруг столкнувшихся машин – черного «ягуара» с откидным верхом и грузовичка‑пикапа – собралась небольшая толпа. Водитель «ягуара», беременная женщина лет тридцати, метала яростные взгляды в водителя грузовика, молодого азиата в соломенной шляпе. В багажнике пикапа громоздился садовый инвентарь. По гневному лицу женщины и извиняющейся улыбке мужчины было ясно, что виновник аварии – он. Лили стояла рядом, с тревогой глядя на беременную.
– Вы уверены, что с вами все хорошо? Точно не хотите, чтобы я вызвала «скорую»?
– Нет, спасибо. А вот полицию вызвать стоит. Вы только взгляните на мою машину! Проклятье! Ремонт обойдется тысяч в пять минимум. Я даже не знаю, можно ли на ней ехать.
Азиат что‑то сказал по‑своему, и, к нашему удивлению, Лили ответила ему на том же языке. Мы с беременной женщиной переглянулись, а водитель грузовика снова, с явным облегчением, заговорил с Лили.
– Он говорит, что полностью застрахован, во всяком случае, я почти уверена, что он говорит именно это. Он все время повторяет: «Не волнуйтесь!»
– На каком языке он говорит?
– По‑вьетнамски.
– Ого, а вы знаете вьетнамский?
– Немного. Азы, но главное понимаю.
Лили принялась за дело. Она уговорила виновника столкновения и пострадавшую успокоиться и сделать все необходимое, чтобы, когда полиция, наконец, приедет, для нее не осталось работы. Оба, и женщина, и вьетнамец, были так ей признательны, что без конца благодарили. Лили тонко и умело разрядила ситуацию и помогла им, хотя ее лично проблема никак не затрагивала. Часто ли такое встретишь?
– Ну, Макс, теперь я по‑настояшему проголодалась. А вы?
– Вы оказали им большую услугу.
– Знаете, да. Но я сержусь на себя за то, что сознаю это. Хотела бы я дожить до того, чтобы делать подобные вещи, даже не замечая, не то что не думая, что совершила хороший поступок. Вот это – достижение. Разве не здорово? Вы читаете детективные романы?
– Детективы? Не знаю, иногда. – Я начал понимать, что свойственные ей внезапные смены темы не так уж внезапны: Лили неизменно возвращалась к исходной точке, но к странным поворотам ее мысли требовалось привыкнуть.
Она продолжала:
– А вот я не читаю. Они только сбивают с толку. Их покупают ради закрученного сюжета, интриги и разгадки, но я – нет. Жизнь достаточно сложна – вот ее и разгадывайте. Чтобы занять себя, не нужны детективы или кроссворды. К тому же герои этих книг вечно блуждают в потемках, потому что, видите ли, потеряли представление о Добре и Зле. Ерунда. Мы все видим разницу. И по большей части отлично знаем, что хорошо, что плохо, что правильно, а что – нет. Мы просто притворяемся, что не различаем. То, что я сделала, было правильно – но в такой ситуации любой должен поступить так же. Поэтому никакой моей заслуги нет.
– Хорошо, но вы все же сделали доброе дело. Лили покачала головой:
– Мне не нравится жить в мире, где правильные поступки так редки, что начинают считаться добрыми.
В моем семействе бытует потрясающая история, которую нужно здесь рассказать. Моя бабушка водила машину из рук вон плохо. Никто не соглашался ехать с ней в автомобиле, если она сидела за рулем – в особенности оттого, что ездила бабушка страшно медленно. Однажды дедушка попал в больницу – ему сделали небольшую операцию. В день выписки бабушка отправилась на машине его забрать. Дедушку, все еще в пижаме и халате, устроили на заднем сиденье. Бабушка двинулась к дому обычным своим черепашьим манером. Дедушка, обычно громогласно комментировавший ее езду, тут почему‑то не издавал ни звука. Бабушка думала, что это оттого, что он еще не оправился после операции. Однако молчание ее смущало. Время от времени, не глядя в зеркало заднего вида, бабушка спрашивала его, все ли у него в порядке. «Да, но поезжай чуть побыстрее, ладно?» – «Хорошо, милый». И она следовала дальше со скоростью пятнадцать миль в час. На полпути бабушка остановилась на красный свет. Потом загорелся зеленый, и спустя несколько минут она снова спросила дедушку, как он там. Нет ответа. Она спросила еще раз. Нет ответа. Обеспокоенная, бабушка посмотрела в зеркальце. А дедушки и нет. Испугавшись, что он выпал, она остановила машину посредине улицы, и бросилась его искать. Нет дедушки. Так как до дома оставалось недалеко, бабушка поехала домой, чтобы вызвать полицейских искать бедного больного мужа. Отгадайте, кто сидел на веранде, поджидая ее. Отгадайте, кто вылез из машины, когда она стояла у светофора, остановил такси прямо в пижаме и… у Лили было великолепное чувство юмора, но не думаю, чтобы она усмотрела в этой истории что‑то смешное, поскольку водила машину она в точности как моя бабушка.
Когда я следовал за ней по пути в ресторан в тот первый день, у меня было чувство, что с ее машиной что‑то не так. Будто она не снята с ручного тормоза или двигатель вывалился, и Лили отталкивается от земли ногами. Такого рода мелочи. Лили называла это осторожным вождением. Я называл это вождением инфарктника. Такую езду следовало бы запретить законом. Я не мог поверить, что она меня не разыгрывает. Но нет – такова была ее натура, и с того дня мне ни разу не удалось уговорить Лили прибавить скорость. Когда я вел машину, ее все устраивало, с какой бы скоростью я ни мчался. Но когда за руль садилась сама леди Лили, вы возвращались во времена повозок, запряженных волами. Только с рычагом переключения передач вместо вожжей.
Пока мы ехали, Кобб пристально смотрел на меня через заднее стекло. Он напоминал одну из гигантских каменных статуй на острове Пасхи. Время от времени Линкольн оглядывался и махал рукой, но до самого прибытия на место я, пробираясь через Лос‑Анджелес в потоке машин, играл в гляделки главным образом со старым псом.
Я их не знал, но оба мне уже очень нравились. Лили умна, и слишком много говорит. Я представил себе, как просыпаюсь рядом с ней, а борзая оккупировала половину кровати. Потом войдет сонный Линкольн и присядет на уголок постели, греясь на солнце, падающем на голубые одеяла. Какая она по утрам? Что они обо мне думают? Увижу ли я их еще, или какая‑нибудь случайность все испортит, и я упущу свой шанс? Я был романтиком и верил, что двоим иногда достаточно мгновения, чтобы узнать друг друга и почувствовать друг к другу симпатию. Разве это невозможно? Мне и раньше везло, и потому я верил, что наша встреча не станет единственной.
Снаружи ресторан «Масса и власть» выглядел так неброско и невыразительно, что я сперва принял его за склад. Тут к машине Лили заторопился служитель стоянки, и я понял, что мы прибыли на место. Надо же, вроде склад, а при нем стоянка. Сине‑серое блочное здание из шлакобетона; только присмотревшись, вы замечали маленькую оранжево‑розовую неоновую вывеску с названием ресторана. Я не против изысканности и стильности, но в Лос‑Анджелесе на вас так рьяно стараются произвести впечатление, что частенько выходит тошнотворно и глупо одновременно.
– Прибыли, Макс. Что скажете?
– Не скажешь, что это ресторан. Никаких… э‑э‑э… фанфар и прочего.
– Ну, видели бы вы его месяц назад! Ни у кого не было фасада лучше. Подождите, пока не познакомитесь с Ибрагимом. Идем.
Служитель трусцой вернулся к нам, и я увидел, что он азиат. Лили сказала что‑то, похоже, на том же языке, что и раньше, у музея. Оба улыбнулись.
– Макс, это Ки.
– Привет, Ки.
– Здравствуйте, «Скрепка». Здравствуйте, Макс Фишер.
– Вы меня знаете?
– Ки знает всех знаменитостей Лос‑Анджелеса. Так он учится быть американцем. Верно, Ки?
– Да, верно. Я не понимаю ва<