Амос Оз
Повесть о любви и тьме
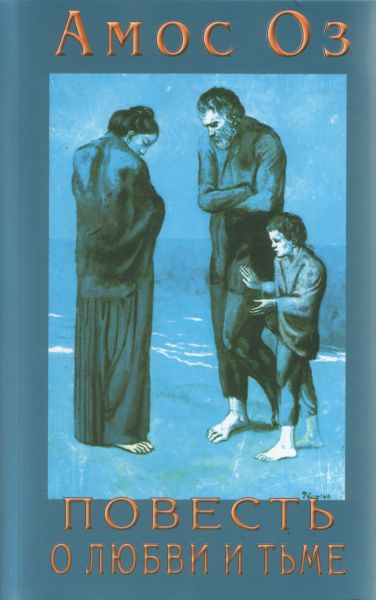
АМОС ОЗ
ПОВЕСТЬ О ЛЮБВИ И ТЬМЕ
Я родился и вырос в крошечной квартирке с низкими потолками. В ней было около тридцати квадратных метров, и располагалась она на самом нижнем этаже. Родители спали на диване, который, когда его по вечерам раздвигали, занимал почти всю их комнату. Ранним утром этот диван, бывало, заталкивали в самого себя, постельные принадлежности прятали во тьму нижнего ящика, матрас переворачивали, все закрывали, закрепляли, застилали светло‑коричневым покрывалом, разбрасывали несколько вышитых подушек в восточном стиле – и не оставалось никаких улик ночного сна. Таким образом, комната родителей служила и спальней, и кабинетом, и библиотекой, и столовой, и гостиной. Напротив располагалась моя каморка – стены ее были выкрашены в светло‑зеленый цвет, половину пространства занимал пузатый одежный шкаф. Темный коридор, узкий и низкий, слегка изогнутый, напоминающий вырытый узниками для побега подземный ход, соединял эти две комнатушки с кухонькой и закутком туалета. Тусклая электрическая лампочка, заключенная в железную клетку, едва освещала этот коридор, и мутный свет этот не гас даже в дневные часы. В комнате родителей и в моей было по одному окошку. Защищенные железными жалюзи, они, казалось, старательно моргали, изо всех сил пытаясь увидеть восток, но видели только запорошенный пылью кипарис да забор из нетесаных камней. А кухня и туалет сквозь свое зарешеченное оконце выглядывали во дворик, залитый бетоном и окруженный высокими, словно тюремными, стенами. Там, в этом дворике, куда не проникал ни единый солнечный луч, медленно умирал бледный цветок герани, посаженный в ржавую жестяную банку из‑под маслин. На подоконниках у нас всегда стояли плотно закрытые банки с солеными огурцами, а также кактус, окопавшийся в земле, заполнявшей вазу, которой из‑за трещины пришлось переквалифицироваться в обычный цветочный горшок.
Квартира эта была полуподвальной: нижний этаж дома был вырублен в склоне горы. Эта гора соседствовала с нами через стену – иметь такого соседа было нелегко: ушедший в себя, молчаливый, одряхлевший, меланхоличный, с привычками застарелого холостяка, всегда строго оберегающий полную тишину, погруженный в дрему, в зимнюю спячку, этот сосед‑гора никогда не передвигал мебель, не принимал гостей, не шумел и не причинял хлопот. Но через две общие с нашим печальным соседом стены к нам просачивался легкий, но неистребимый запах плесени, мы постоянно ощущали влажный холод, тьму и безмолвие.
Так получалось, что на протяжении всего лета у нас сохранялось немного зимы. Гости, бывало, говорили:
– Как у вас приятно в день, когда из пустыни дует раскаленный ветер, как нежарко и спокойно, даже, можно сказать, прохладно. Но как вы здесь устраиваетесь зимой? Не пропускают ли стены сырости? Не действует ли все это зимой несколько угнетающе?
*
Обе комнаты, кухонька, туалет и особенно соединяющий их коридор были темными.
Весь дом был заполнен книгами: отец читал на шестнадцати или семнадцати языках и говорил на одиннадцати (на всех – с русским акцентом). Мама говорила на четырех или пяти языках и читала на семи или восьми. Если они хотели, чтобы я их не понял, то говорили друг с другом по‑русски или по‑польски. (Они довольно часто хотели, чтобы я их не понимал. Когда однажды мама случайно в моем присутствии сказала о ком‑то на иврите «племенной жеребец», отец сердито одернул ее по‑русски: "Что с тобой? Разве ты не видишь, что мальчик рядом с нами?")
Основываясь на своих представлениях о культурных ценностях, книги они читали главным образом на немецком и английском, а сны, приходящие к ним по ночам, наверняка видели на идише. Но меня они учили только ивриту: возможно, из опасения, что знание языков сделает меня беззащитным перед соблазнами Европы, такой великолепной и такой убийственно опасной.
В иерархии ценностей моих родителей Запад занимал особое место: чем «западнее», тем выше культура. Толстой и Достоевский были близки их «русским» душам, и все‑таки мне казалось, что Германия – даже несмотря на Гитлера – представлялась им страной более культурной, чем Россия и Польша, а Франция опережала в этом смысле и Германию. Англия в их глазах стояла выше Франции. Что же касается Америки, то здесь они пребывали в некотором сомнении: разве там не стреляют в индейцев, не грабят почтовые поезда, не моют золото и не охотятся за девушками как за добычей?..
Европа была для них вожделенной и запретной Землей Обетованной – краем колоколен, церковных куполов, мостов, площадей, мощенных древними каменными плитами, улиц, по которым бегут трамваи, краем заброшенных деревень, целебных источников, лесов, снегов, зеленых лугов…
Слова «изба», «луг», «девушка, пасущая гусей» притягивали и волновали меня все мое детство. От них исходил чувственный аромат подлинного мира – полного безмятежности, далекого от пыльных жестяных крыш, свалок, зарослей колючек, выжженных холмов Иерусалима, задыхающегося под гнетом раскаленного лета. Стоило только прошептать «луг», сразу же слышалось мне журчание ручья, мычание коров и перезвон колокольчиков на их шеях. Зажмурив глаза, видел я прекрасную девушку, пасущую гусей, и она казалась мне до слез сексуальной – задолго до того, как я что‑либо узнал о сексе.
*
Спустя много лет я узнал, что Иерусалим в двадцатые – сороковые годы, во времена британского мандата, был городом потрясающе богатой и разнообразной культуры. Это был город крупных предпринимателей, музыкантов, ученых и писателей. Здесь творили Мартин Бубер, Гершом Шолем, Шмуэль Иосеф Агнон и многие другие великие мыслители и деятели искусстг ва. Порой, когда мы шли по улице Бен‑Иегуда или по бульвару Бен‑Маймон, отец шептал мне: «Вон там идет ученый с мировым именем». Я не понимал, что он имеет в виду. Я думал, что, «мировое имя» связано с больными ногами, потому что довольно часто слова эти относились к какому‑нибудь старику, одетому даже летом в костюм из плотной шерсти и тростью нащупывающему дорогу, потому что ноги его едва передвигались.
Иерусалим, на который с почтением взирали мои родители, лежат далеко от нашего квартала: этот Иерусалим можно было найти в Рехавии, утопающей в зелени и звуках рояля, в трех‑четырех кафе с золочеными люстрами на улицах Яффо и Бен‑Иегуда, в залах ИМКА, в гостинице «Царь Давид»… Там еврейские и арабские ценители культуры встречались с учтивыми, просвещенными, широко мыслящими британцами, там, опираясь на руку джентльменов в темных костюмах, плыли и порхали томные женщины с длинными шеями, в бальных платьях, там проходили музыкальные и литературные вечера, балы, чайные церемонии и утонченные беседы об искусстве… А может быть, такой Иерусалим – с люстрами и чайными церемониями – и не существовал вовсе, а был только в воображении обитателей нашего квартала Керем Авраам, где жили библиотекари, учителя, чиновники, переплетчики. Во всяком случае, тот Иерусалим не соприкасался с нами. Наш квартал, Керем Авраам, принадлежал Чехову.
Когда, спустя годы, я читал Чехова (в переводе на иврит), то не сомневался, что он – один из нас: дядя Ваня ведь жил прямо над нами, доктор Самойленко склонялся надо мной, ощупывая своими широкими ладонями, когда я болел ангиной или дифтеритом, Лаевский с его вечной склонностью к истерикам был маминым двоюродным братом, а Тригорина мы, случалось, ходили слушать в Народный дом на субботних утренниках.
Конечно же, окружавшие нас русские люди были самыми разными – так, было много толстовцев. Некоторые из них выглядели точь‑в‑точь как Толстой. Увидев впервые портрет Толстого – коричневую фотографию в книге, я был уверен, что много раз встречался с ним в наших местах. Он прохаживался по улице Малахи или спускался по улице Овадия – величественный, как праотец Авраам, голова его не покрыта, седая борода развевается на ветру, глаза мечут искры, в руке сук, служащий ему посохом, его крестьянская рубаха, спускающаяся поверх широких штанов, перепоясана грубой веревкой.
Толстовцы нашего квартала (родители называли их на ивритский лад – «толстойщики») были все воинствующими вегетарианцами, блюстителями морали, они стремились исправить мир, всеми силами души любили природу, любили все человечество, любили каждое живое существо, кем бы оно ни было, они были воодушевлены пацифистскими идеями и полны неизбывной тоски по трудовой жизни, простой и чистой. Все они страстно мечтали о настоящей крестьянской работе, в поле или фруктовом саду, но даже собственные непритязательные комнатные цветы в горшках им вырастить не удавалось: то ли поливали их столь усердно, что цветы отдавали Богу душу, то ли забывали поливать. А возможно, виновата в этом была враждебная нам британская администрация, имевшая обыкновение сильно хлорировать воду.
Некоторые из толстовцев сошли, казалось, прямо со страниц романов Достоевского: снедаемые душевными муками, непрерывно ораторствующие, задавленные собственными инстинктами, обуреваемые идеями. Но все они, и толстовцы и «достоевцы», все эти обитатели квартала Керем Авраам, по сути, вышли «из Чехова».
Все, что простиралось за пределами нашего маленького мирка и звучало для меня как одно слово – весьмир, называлось у нас обычно большой мир. Но были у него и другие имена: просвещенный, внешний, свободный, лицемерный. Я познавал этот мир с помощью коллекции марок – Данциг, Богемия и Моравия, Босния и Герцеговина, Убанги‑Шари, Тринидад и Тобаго, Кения‑Уганда‑Танганьика. Весьмир был далеким, манящим, волшебным, но полным опасностей и враждебным нам: евреев не любят – потому что они умны, остры на язык, потому что они преуспевают, но также и потому, что они шумны и, главное, рвутся быть впереди всех. Не нравится и то, что мы делаем здесь, в Эрец‑Исраэль: уж больно глаза у людей завидущие – им не дает покоя даже этот клочок земли, где нет ничего, кроме болот, скал и пустыни. Там, в большом мире, все стены были покрыты подстрекательскими надписями: «Жиды, убирайтесь в Палестину!» Вот мы и прибыли в Палестину, и теперь весьмир поднялся и орет: «Жиды, убирайтесь из Палестины!»
Не только весьмир, но даже Эрец‑Исраэль была далека от нас: где‑то там, за горами, формируется новая порода евреев‑героев, порода загорелых, крепких, молчаливых, деловых людей, совсем не похожих на евреев, живших в диаспоре, совсем не похожих на обитателей квартала Керем Авраам. Парни и девушки – первопроходцы, осваивающие новые земли, упорные, смуглые от солнца, немногословные, сумевшие поставить себе на службу даже ночную тьму. И в отношениях парней с девушками, равно как и в отношениях девушек с парнями, они уже сломали все запреты, прорвали все препоны. Они ничего не стыдятся.
Мой дедушка Александр как‑то заметил:
– Они верят, что в будущем это будет совсем просто – парень сможет подойти к девушке и попросить у нее это, а возможно, девушки даже не станут дожидаться такой просьбы, а сами предложат это, как предлагают стакан воды.
Близорукий дядя Бецалель возмущенно возразил, стараясь сохранить вежливый тон:
– Но ведь это же большевизм самой высшей пробы! Так вот запросто разрушить очарование тайны?! Так запросто отменить всякое чувство?! Превратить нашу жизнь в стакан теплой воды?!
Дядя Нехемия из своего угла вдруг затянул, то ли подвывая, то ли рыча, как загнанный зверь, куплет из песни:
Ой, мама, дорога трудна и длин‑на,
Тро‑пи‑инка петляет упря‑ямо.
Бреду я, шатаясь, и даже лу‑на
Сейчас ко мне бли‑же, чем ма‑ма…
Тут тетя Ципора вмешалась по‑русски:
– Ну хватит, довольно. Вы все с ума посходили? Ведь мальчик вас слушает!
И тут все перешли на русский.
*
Первопроходцы, осваивающие новые земли, существовали где‑то за нашим горизонтом, где‑то в долинах Галилеи и Самарии. Закаленные парни с горячими сердцами, умеющие сохранять спокойствие и рассудительность. Крепкие, хорошо сложенные девушки, прямодушные и сдержанные, словно они уже все постигли, все знают, и ты тоже им понятен, и понятно то, что приводит тебя в смущение и замешательство, но, тем не менее, они относятся к тебе доброжелательно и уважительно – не как к ребенку, а как к мужчине, который пока что просто не вышел ростом.
Такими они представлялись мне, эта парни и девушки, осваивающие новые земли, – сильными, серьезными, владеющими какой‑то тайной. Они могли, собравшись в круг, петь песни, пронзающие сердце любовным томлением, и легко переходить от них к песням шуточным или к таким, что полны дерзкой страсти и ужасающей откровенности, вгоняющей в краску. Им ничего не стоило пуститься в бурный, неистовый, доводящий до экстаза танец, и в то же время они способны были к серьезным размышлениям в одиночестве. Их не пугала жизнь в шалаше, построенном прямо в поле, и никакая тяжелая работа. Они жили, следуя своим песенным заповедям: «Дан приказ – мы всегда готовы!», «Парни твои принесли тебе мир на плуге, сегодня они несут тебе мир на вин‑тов‑ках», «Куда бы ни послали нас – мы пойдем». Они умели скакать на необъезженной лошади и водить гусеничный трактор, владели арабским, им были знакомы потаенные пещеры и русла пересыхающих рек, они умели обращаться с револьвером и ручной гранатой, и при этом они читали стихи и философские книги, были эрудитами, способными отстоять свое мнение, но скрывающими свои чувства. И порой заполночь, при свете свечи, приглушенными голосами спорили они в своих палатках о смысле жизни и о проблемах жестокого выбора – между любовью и долгом, между интересами нации и справедливостью.
Иногда я с приятелями ходил на хозяйственный двор компании «Тнува», где разгружали машины, доставлявшие на переработку сельскохозяйственную продукцию. Я хотел увидеть их – прибывших на этих доверху груженных машинах из‑за темных гор, их, «припорошенных песком, перепоясанных ремнями, обутых в тяжелые ботинки»… Я, бывало, крутился вокруг них, вдыхая запахи луговых трав, пьянея от ароматов далеких пространств. Там, у них, воистину вершатся великие дела: там строят нашу страну, исправляют мир, созидают новое общество, оставляя отпечаток не только на ландшафте, но и на самой истории, там распахивают поля, сажают виноградники, там творят новую поэзию, там, вооруженные, они летят на конях, отстреливаясь от арабских банд, там из презренного праха человеческого рождается сражающийся народ.
Втайне я мечтал, что в один прекрасный день они возьмут меня с собой. И я вольюсь в сражающийся народ. И моя жизнь тоже переплавится в новую поэзию, станет чистой, честной и простой, словно стакан родниковой воды в день, когда дует знойный ветер пустыни – хамсин.
*
За темными горами был еще и тогдашний Тель‑Авив, город, живущий бурной жизнью, откуда приходили к нам газеты и слухи – о театре, опере, балете, кабаре, о современном искусстве и партиях, откуда долетало к нам эхо жарких дискуссии и обрывки весьма туманных сплетен. Там, в Тель‑Авиве, были замечательные спортсмены. А еще там находилось море, и это море было полно загорелых евреев, умеющих плавать. А в Иерусалиме – кто умел плавать? Кто вообще слышал когда‑нибудь о плавающих евреях? Это ведь совсем иные гены. Мутация. «Как чудо рождается бабочка из червя…»
Было какое‑то тайное очарование в самом слове Тельавив. Когда его произносили, в моем воображении возникал образ этакого крепкого, на совесть сработанного парня – поэта‑рабочего‑революционера – в голубой майке и кепке, надетой с небрежным щегольством, загорелого, широкоплечего, кудрявого, курящего сигареты «Матусиан». Таких называют «рубаха‑парень», и они чувствуют себя своими во всем мире. Целый день он тяжело работает – мостит дороги, трамбует гравий, вечерами играет на скрипке, по ночам в песчаных дюнах при свете полной луны танцует с девушками или поет задушевные песни, а на рассвете достает из тайника пистолет или автомат «Стен» и уходит, невидимый, во тьму – защищать поля и мирные жилища.
Как же далек был от нас Тель‑Авив! За все свои детские годы я был в нем не более пяти‑шести раз: мы, случалось, ездили на праздники к тетушкам – маминым сестрам. По сравнению с нынешними днями в тогдашнем Тель‑Авиве и свет был совсем другим, чем в Иерусалиме, и даже законы гравитации действовали совершенно иначе. В Тель‑Авиве ходили, словно астронавт Нил Армстронг на луне – что ни шаг, то прыжок и парение.
У нас в Иерусалиме всегда ходили, как участники похорон или как те, кто, опоздав, входит в концертный зал: сначала касаются земли носком обуви и осторожно пробуют твердь под ногами. Затем, поставив уже всю ступню, не спешат сдвинуть ее с места: наконец‑то, через две тысячи лет, обрели мы право поставить свою ногу в Иерусалиме, так не уступим его слишком быстро. Стоит поднять ногу, мигом явится кто‑нибудь другой и отберет у нас этот клочок нашей земли, эту «единственную овечку бедняка», как говорит ивритская пословица. С другой стороны, если уж ты поднял ногу, не спеши опустить ее вновь: кто знает, какой клубок гадюк, вынашивающих гнусные замыслы, копошится там. Разве на протяжении тысячелетий не платили мы кровавую цену за свою неосмотрительность, вновь и вновь попадая в руки притеснителей, потому что ступали, не проверив, куда ставим ногу?
Примерно так выглядела походка иерусалимцев. Но Тель‑Авив – вот это да! Весь город – словно кузнечик! Люди куда‑то неслись, и неслись дома, и улицы, и площади, и морской ветер, и песок, и аллеи, и даже облака в небесах.
Как‑то мы приехали весной, чтобы провести ночную пасхальную трапезу в семейном кругу. Ранним утром, когда все еще спали, я оделся, вышел из дома и отправился в дальний конец улицы, чтобы поиграть в одиночестве на маленькой площади, где были одна или две скамейки, качели, песочница, несколько молоденьких деревьев, на ветках которых уже распевали птицы. Спустя несколько месяцев, на еврейский Новый год – Рош ха‑Шана, мы снова приехали в Тель‑Авив. Но… площади на прежнем месте уже не было. Ее перенесли в другой конец улицы – с молодыми деревцами, качелями, птичками и песочницей. Я был потрясен: я не понимал, как Бен‑Гурион и наши официальные учреждения позволяют творить подобные веши? Как это так? Кто это вдруг берет и передвигает площадь? Что, завтра передвинут Масличную гору? Башню Давида у Яффских ворот в Иерусалиме? Передвинут Стену Плача?
О Тель‑Авиве говорили у нас с завистью, высокомерием, восхищением и немного – с таинственностью, словно Тель‑Авив был неким секретным судьбоносным проектом еврейского народа и потому лучше говорить о нем поменьше: ведь и стены имеют уши, и всюду кишат наши ненавистники и вражеские агенты.
Тельавив: море, свет, голубизна, песок, строительные леса, культурный центр «Огель‑Шем», киоски на бульварах… Белый еврейский город, простые очертания которого вырастают среди цитрусовых плантаций и дюн. Не просто место, куда, купив билет, можно приехать на автобусе компании «Эгед», а другой континент.
*
На протяжении многих лет был у нас заведен особый порядок, чтобы поддерживать постоянную телефонную связь с родными, живущими в Тель‑Авиве. Раз в три‑четыре месяца мы звонили им, хотя ни у нас, ни у них телефона не было. Первым делом мы посылали письмо тете Хае и дяде Цви, в котором сообщали, что девятнадцатого числа текущего месяца (день этот выпадает на среду, а по средам Цви уже в три часа завершает свою работу в больничной кассе) в пять часов мы из нашей аптеки позвоним в их аптеку. Письмо посылалось заранее, с таким расчетом, чтобы мы могли получить ответ. В своем письме тетя Хая и дядя Цви отвечали нам, что среда девятнадцатого числа, безусловно, подходящий день, и они, конечно же, будут ждать нашего звонка в аптеке еще до наступления пяти часов, но если случится так, что мы позвоним позже, они никуда не убегут – мы можем не беспокоиться.
Я не помню, наряжались ли мы в свои лучшие одежды по случаю похода в аптеку, чтобы позвонить в Тель‑Авив, но ничуть не удивлюсь, если наряжались. Это был подлинный праздник. Уже в воскресенье папа говорил маме:
– Фаня, ты помнишь, что на этой неделе мы разговариваем с Тель‑Авивом?
В понедельник мама обычно напоминала:
– Арье, не возвращайся послезавтра поздно, а то мало ли что может случиться?..
А во вторник папа и мама обращались ко мне:
– Амос, не вздумай преподнести нам какой‑нибудь сюрприз, слышишь? Не вздумай заболеть, слышишь? Смотри не простудись и не упади, продержись до завтрашнего вечера.
В последний вечер они говорили мне:
– Ступай спать пораньше, чтобы у тебя хватило сил для завтрашнего телефона. Я не хочу, чтобы тем, кто будет слушать тебя, казалось, будто ты не ел как следует…
Волнение все нарастало. Мы жили на улице Амоса, аптека была в пяти минутах ходьбы – на улице Цфании, но уже в три часа отец предупреждал маму:
– Не затевай сейчас никаких новых дел, чтобы не оказалось, что времени в обрез.
– Я‑то в полном порядке, а вот ты со своими книгами, ты, смотри не забудь.
– Я? Забуду? Да ведь я смотрю на часы каждые несколько минут. Да и Амос мне напомнит.
Вот так, мне всего лишь пять или шесть лет, а на меня уже возложена историческая миссия. Наручных часов у меня не было и быть не могло, поэтому каждую минуту я бегал в кухню посмотреть, что показывают ходики, и, словно во время запуска космического корабля, провозглашал:
– Еще двадцать пять минут, еще двадцать, еще пятнадцать, еще десять с половиной…
И как только я произносил «десять с половиной», мы все поднимались, хорошенько запирали квартиру и втроем отправлялись в путь: налево – до бакалейной лавки господина Остера, затем направо – на улицу Зхарии, потом налево – на улицу Малахи, наконец, направо – на улицу Цфании, и сразу же – в аптеку.
– Мир и благословение, господин Хайнман. Как поживаете? Мы пришли позвонить.
Он, конечно же, знал, что в среду мы придем позвонить нашим родственникам в Тель‑Авив, он также знал, что Цви работает в больничной кассе, что Хая занимает важный пост в женсовете Тель‑Авива, что сын их Игаэл станет спортсменом, когда вырастет, что их хорошие друзья известные политические деятели Голда Меирсон и Миша Колодный, которого здесь называют Моше Кол, но, тем не менее, мы ему напоминали:
– Мы пришли позвонить родственникам в Тель‑Авив.
Господин Хайнман обычно отвечал:
– Да. Конечно. Присядьте, пожалуйста.
И всегда рассказывал свой неизменный анекдот про телефон. Однажды на сионистском конгрессе в Цюрихе из боковой комнаты, примыкавшей к залу заседаний, донеслись ужасные вопли. Берл Локер, член исполкома Всемирной сионистской организации, спросил Авраама Харцфельда, организатора Сионистской рабочей партии, что там за шум. Харцфельд ответил ему, что это товарищ Рубашов, будущий президент Израиля Залман Шазар, разговаривает с Бен‑Гурионом, находящимся в Иерусалиме. «Говорит с Иерусалимом? – удивился Берл Локер. – Так почему же он не воспользуется телефоном?»
Папа произносил:
– Сейчас я наберу номер.
Мама:
– Еще рано, Арье. Есть еще несколько минут.
С чем отец обычно не соглашался:
– Верно, но пока еще нас соединят…
(В те дни еще не было автоматической связи с Тель‑Авивом.)
А мама:
– Но что будет, если нас моментально соединят, а они еще не пришли?
На это отец отвечал:
– В таком случае мы просто попытаемся позвонить еще раз.
– Нет, нет, они будут волноваться. Они могут подумать, что прозевали нас.
Пока они обменивались мнениями, время подходило к пяти. Отец поднимал трубку, делая это стоя, а не сидя, и обращался к телефонистке:
– Добрый день, любезная госпожа. Я прошу Тель‑Авив, 648 (или что‑то в этом роде: мы жили тогда в мире трехзначных чисел).
Случалось, что телефонистка говорила:
– Пожалуйста, подождите, господин, еще пару минут, сейчас говорит начальник почты, линия занята.
Впрочем, иногда говорилось, что на линии «господин Ситон» или «сам господин Нашашиби», глава одной из богатейших арабских семей Иерусалима.
Мы немного волновались – что же будет, как они там, в Тель‑Авиве?
Я прямо‑таки зримо представлял себе его, этот единственный провод, соединяющий Иерусалим с Тель‑Авивом, а через него – со всем миром. И вот эта линия занята. И пока она занята – мы оторваны от всего мира. Провод этот тянулся через пустыню, скалы, извивался среди гор и холмов. Это казалось мне великим чудом, и я дрожал от страха: что же будет, если ночью стая диких зверей сожрет этот провод? Или плохие арабы перережут его? Или зальет его дождем? Вдруг случится пожар, загорятся сухие колючки, что часто случается летом? Кто знает… Где‑то там извивается себе тонкий проводок, который так легко повредить. Его никто не охраняет, его нещадно жжет солнце. Кто знает… Я был преисполнен благодарности к тем людям, что протянули этот провод, людям мужественным и ловким, ведь это совсем не просто проложить телефонную линию из Иерусалима до самого Тель‑Авива. По собственному опыту я знал, как это трудно: однажды мы протянули провод из моей комнаты в комнату Элиягу Фридмана, всего‑то и расстояния – два дома и один двор, провод – обыкновенный шпагат, но сколько было проблем – и деревья по дороге, и соседи, и сарай, и забор, и лестницы, и кусты…
После короткого ожидания отец, предположив, что начальник почты или «сам господин Нашашиби» уже кончили говорить, вновь поднимал трубку и обращался к телефонистке:
– Простите, любезная госпожа, мне кажется, что я просил соединить с Тель‑Авивом, номер 648.
А та говорила;
– У меня это записано, мой господин. Пожалуйста, подождите (или: «Пожалуйста, вооружитесь терпением»).
На что папа отвечал:
– Я жду, госпожа моя, разумеется, я жду, но люди ждут и на другом конце.
Этим он со всей возможной вежливостью намекал ей, что хотя мы люди культурные, есть предел и нашей сдержанности. Мы, конечно, хорошо воспитаны, но мы не какие‑то там «фраера». Мы – не бессловесная скотина, которую гонят на убой. Это отношение к евреям – будто каждый может над ними издеваться и делать с ними все, что заблагорассудится, – с этим покончено раз и навсегда.
И тут вдруг в аптеке звонил телефон, и от этого звонка всегда начинало колотиться сердце и мурашки бежали по спине. Это был волшебный миг. А беседа звучала примерно так:
– Алло, Цви?
– Это я.
– Это Арье. Из Иерусалима.
– Да, Арье, здравствуй. Это я, Цви. Как вы поживаете?
– У нас все в порядке. Мы звоним вам из аптеки.
– И мы из аптеки. Что нового?
– Ничего нового. Как у вас, Цви? Что скажешь?
– Все в порядке. Ничего особенного. Живем.
– Если нет новостей – это тоже неплохо. И у нас нет новостей. У нас все благополучно. А как у вас?
– И у нас так же.
– Прекрасно. Теперь Фаня с вами поговорит.
И снова все то же: что слышно? что нового?
А затем:
– Теперь Амос скажет несколько слов.
Вот и весь разговор.
Что слышно? Все хорошо. Ну, тогда мы снова вскоре поговорим. Рады были вас услышать. И мы были рады вас услышать. Мы вам напишем письмо и договоримся, когда позвоним в следующий раз. Поговорим. Да. Обязательно поговорим. Скоро. До свидания, берегите себя. Всего доброго. И вам тоже.
*
Но это не было смешно – жизнь висела на тонком волоске. Сегодня я понимаю: они вовсе не были уверены, что и вправду поговорят в следующий раз. Этого может и не произойти вдруг этот раз – последний, поскольку кто знает, что еще случится? Вдруг вспыхнут беспорядки, погромы, резня, арабы поднимутся и вырежут всех нас, придет война, грянет великая катастрофа. Ведь танки Гитлера, двигаясь по двум направлениям – со стороны Северной Африки и с Кавказа, оказались почти у нашего порога. И кто знает, что нас ожидает еще…
Эта пустая беседа вовсе не была пустой – она была лишь невыразительной. Мне, сегодняшнему, те телефонные разговоры показывают, как трудно было им – всем, а не только моим родителям – выразить свои личные чувства. Там, где дело касалось чувств общественных, они не испытывали никаких трудностей, они не боялись показать свои чувства, они умели говорить. О, как они умели говорить! Они могли на протяжении трех‑четырех часов спорить о Ницше, Сталине, Фрейде, Жаботинском, спорить со слезами и пафосом, вкладывая в это всю душу. И когда они толковали о коллективизме, об антисемитизме, о справедливости, об «аграрном» или «женском» вопросе, об отношении искусства и жизни, их речи звучали как музыка. Но едва они пытались выразить свое личное чувство, выходило нечто вымученное, сухое, возможно, даже полное опасений и страха. Это было результатом того подавления чувств и тех запретов, что передавались из поколения в поколение. Система запретов и тормозов была удвоенной: правила поведения европейской буржуазии умножались на обычаи религиозного еврейского местечка. Почти все было «запрещено», или «не принято», или «некрасиво».