Содержание
Предисловие
Софисты
Сократ
Сократические школы
§ 1. Киренская школа. Аристипп
§ 2. Киническая школа. Антисфен
§ 3. Мегарская школа. Евклид
Платон
Введение. Учение о знании
Учение об идеях
§ 1. Формирование учения об идеях
§ 2. Идея, слово, вещь
§ 3. Одно. Мир идей
Учение об универсуме
§ 1. Ум и мир умопостигаемого
§ 2. «Неразумная причина космоса»
§ 3. Космическая душа и космос
Учение о человеке
§ 1. Учение о переселении душ
§ 2. Познание как припоминание
§ 3. Состав души и учение о добродетели
Учение о государстве
Значение Платона
Аристотель
Логика
Апории учения об идеях
Учение о сущности
Виды сущностей
Учение о душе
Этика
Политика
Итоги
Метафизика
Литература
Предисловие
Вторая часть данной работы посвящена этапу формирования идеалистической философии, в течение которого происходило становление метафизической мировоззренческой программы античной культуры. Чуть более чем за сто лет сложилось развитое учение об идеях, определившее облик не только античной, но и всей последующей европейской философии. Начало этому процессу положили софисты, а законченный вид идеалистические доктрины приобрели в системах Платона и Аристотеля. Следующие за ними мыслители, как правило, ничего существенного не добавляли в понимание идей, а старались приспособить это понятие к нуждам собственных учений.
Немного об истории возникновения самого слова «метафизика». Этот термин попал в философию случайно. В I в. до Р. Х. александрийский библиотекарь Андроник Родосский, занимавшийся систематизацией сочинений Аристотеля, испытывал некоторые затруднения относительно того, как озаглавить тексты, посвященные первым началам сущего. Эти тексты не имели названия, данного самим Аристотелем [1], и дошли до Андроника безымянными; дело усугублялось еще и тем, что Аристотель называл такой способ исследования всякий раз по-разному — то первой философией, то мудростью, а то и богословием. Андроник, видимо, не решился сделать того, чего не сделал сам Аристотель, и присвоил данным текстам техническое наименование 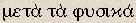 («после физики»), выражающее лишь местоположение этих текстов в ряду других публикуемых произведений Аристотеля и означающее, что они расположены после сочинения, носящего название «Физика».
(«после физики»), выражающее лишь местоположение этих текстов в ряду других публикуемых произведений Аристотеля и означающее, что они расположены после сочинения, носящего название «Физика».
В отличие от своего названия, сама метафизика появилась далеко не случайно. Ее возникновение готовилось всем ходом развития физики, и переход от последней к первой был неизбежен при сложившихся в рамках физики предпосылках исследования. Метафизику правильно рассматривать как прямое продолжение физики, ее органическое развитие и разрешение ее проблем.
Кризис физики и появление метафизики (идеализма) было выражением глубинных процессов, происходящих в самих основах человеческого устройства и связанных с поэтапным, закономерным естественноисторическим развитием мышления. Последнее медленно освобождалось от власти чувственности и от форм деятельности, связанных с чувственностью, обретая формы собственные. Впервые мышление обнаружило свою самостоятельность по отношению к чувственному восприятию еще в элейской школе. Именно элейцы обнаружили феномен отвлеченного мышления, выражающегося только в речи и строящегося только по ее законам. Чистое мышление показало себя полной противоположностью чувственности, связанных с чувственностью суждений и самой реальности, так как в целом физики никаких вещей, отличных от чувственно воспринимаемых, не признавали. Исключение составлял, пожалуй, только Анаксагор, учивший о сверхчувственном уме [2].
Уже усилиями физиков, таким образом, были обнаружены и само отвлеченное мышление, и его источник — ум. Задача будущей философии, которая должна была прийти на смену попавшей в состояние кризиса физике, заключалась в том, чтобы обнаружить собственный предмет чистой умственной деятельности. Философия, выполнившая эту задачу, получила название метафизики. Ее можно называть и идеалистической философией, поскольку именно с идеей будет теперь связываться умственная деятельность.
Метафизика как определенный способ мышления складывалась не сразу, не вдруг. К ее становлению оказались причастными разные мыслители и даже школы, не всегда похожие друг на друга и часто враждовавшие между собой.
Первыми из тех, кто встал на нефизический путь исследования сущего (но еще и не на метафизический) были софисты. Противоположность отвлеченного мышления и чувственности они истолковали в пользу последней: лишь чувственно воспринимаемое они сочли существующим по природе, тогда как мышление, неразрывно соединенное со словом и речью, они поняли как искусственное, относительное, порождающее кажимость. Сократ сделал очередной шаг к метафизике: он стал искать во множестве относительных человеческих представлений нечто безотносительное и универсальное. Не выходя за пределы человеческой речи, Сократ создал учение о логическом определении. Его ученик Платон, применив логическое определение к физическим вещам, обнаружил в последних универсальное, не воспринимаемое чувствами содержание, которое он обозначил термином «идея». Только с этого момента можно говорить о появлении собственно метафизического (идеалистического) способа исследования сущего, поскольку метафизика и состоит как раз в изучении связи умозрительных идей и чувственно воспринимаемых вещей.
СОФИСТЫ
Предпосылки появления софистики. Древнегреческую софистику правильно было бы рассматривать как выражение кризиса и предшествующей натурфилософии, и древнегреческого этноса вообще. Все, что хотя бы отчасти развивается естественным путем, проходит фазы возникновения, созревания, зрелости, увядания и гибели. Не являются в этом смысле исключением ни этнос, ни весь человеческий род, по крайней мере в той степени, в какой и то и другое принадлежат природе. Поэтому, как и отдельный человек, этнос мужает, и его взросление по-разному, но в то же время в чем-то одинаково проецируется в различные области человеческой жизни: одна и та же тенденция несколько по-разному проявляет себя в сфере социально-политической жизни и в сфере отвлеченного мышления. При этом обязательно нужно отметить, что развитие этноса или всего рода человеческого как целого есть, прежде всего, развитие индивидуумов, составляющих человечество или этнос на данной его ступени, которое проявляется именно в изменении форм и способов деятельности этих индивидуумов, в изменении их мышления, чувствования, стремлений, в изменении их отношений к традициям и многому другому.
Пятый век до Рождества Христова — это время, когда Греция прощалась с семейно-патриархальным жизненным укладом. Сознание индивидуума привыкает к своей самостоятельности по отношению к сознанию коллективному, родовому, исчезает свойственная детям наивная вера в незыблемость и объективность привычного порядка вещей; в такое время, как в пору юности, и на индивидуальном, и на родовом уровне человек отдаляется от семьи и, еще пребывая в ней физически, в помыслах своих живет уже своей индивидуальной жизнью. В такое время и на индивидуальном, и на родовом уровне появляется критическое отношение к традиционным формам сознания и традиционным способам общения. В социальной жизни идет ревизия традиционных политических институтов с целью их большей, с позволения сказать, релятивизации и индивидуализации. Равным образом и в духовной сфере заметны усилия, направленные на релятивизацию ценностей и оправдание индивидуального сознания. Кризис же натурфилософии — только выражение общего переходного состояния и не имеет самостоятельного значения; однако его содержание придало конкретное направление и предопределило конкретные формы развития последующей философии, в том числе и софистики.
Софисты появились в греческих городах приблизительно в середине V в. до Р. Х. Крикливые и задиристые, шумно и нескромно они заявляли о себе именно как о «мудрецах», а не о «любителях мудрости» [3]. Более всего современную им философствующую публику они шокировали тем, что стали брать деньги за преподавание мудрости, низведя возвышенную деятельность до уровня ремесла, а саму философию — до уровня невольничьего или, по крайней мере, наемного труда, нимало не смущаясь этим [4]. Связей с ними стеснялись и не афишировали [5]. Популярность их, несмотря на обличительную брань со стороны Сократа, Платона, Аристотеля, была довольно высока и, соответственно, гонорары значительны. Многие готовы были платить большие деньги за то, чтобы отдать свое чадо в ученики какому-нибудь знаменитому софисту.
Софистов принято делить на две группы — на «старших» софистов и «младших». Различие между ними содержательно и отражает эволюцию самой софистики. «Старшие» софисты по духу своему и по серьезности натуры были близки физикам, и можно даже предположить, что если бы не кризис физики и не изменение принципов мышления, то вполне вероятно было бы ожидать их появления в ряду прочих крупных физиков. «Старшие» софисты стали софистами не столько в силу своего духовного склада, сколько в силу логики развития самой философии. Как показала история, через софистику надлежало пройти даже тем мыслителям, которые в целом были чужды ее принципам и ценностям [6].
Совсем по-другому выглядели «младшие» софисты, являя собой в некотором смысле полную противоположность физикам. Последним была свойственна устремленность к истине, тайне бытия, к подлинной жизни и бессмертию. Это были люди в большинстве случаев бескорыстные, стремившиеся к уединению, благочестию. Ничего подобного нельзя было усмотреть в позиции «младших» софистов: ни к какой истине они не стремились, бессмертие и тайну бытия они отрицали; подлинной жизнью считали жизнь посюстороннюю, обычную; пожалуй, единственной целью их усилий были власть и богатство.
К «старшим» софистам обычно относят основоположника софистики Протагора (480—411 до Р. Х.), Горгия (483—375 до Р. Х.), Гиппия, Продика, Антифонта. К «младшим» софистам принадлежали ученики Гиппия — Алкидам, Ликофрон, Пол, а также Фразимах, Критий, Калликл и другие.
Организационно софисты не представляли собой какой-то одной школы и очень часто конкурировали друг с другом в борьбе за последователей, на средства которых они и существовали. Теоретически они тяготели к самым разным философским учениям предыдущего периода, выбирая из них то, что укладывалось в рамки собственного софистического стиля мышления. К примеру, Протагор испытал довольно сильное влияние со стороны доктрин Демокрита и Гераклита, а в рассуждениях Горгия и Антифонта можно усмотреть следы основных положений элейской школы. Их объединяло, пожалуй, лишь общее настроение, а именно: индивидуализация сознания, релятивизация ценностей и критическое отношение к традициям.
Несмотря на внешнее несходство с физикой софистика внутренне, генетически была с ней связана, поскольку именно в недрах натурфилософского подхода складывались те настроения, которые в дальнейшем превратились в центральный исходный пункт софистов [7]. Физика «вытолкнула» из себя софистику, она, можно сказать, в нее переросла, превратившись в собственную противоположность. Так получилось, что пантеистические представления о начале всего сущего в ранней натурфилософии по мере развития теряли свой религиозно-мистический оттенок и заменялись представлениями о естестве во вполне доступных обычному опыту элементах — земле, огне и т. п., существующих благодаря природе и случаю [8]. С утратой мистического и религиозного оттенков в понятии первоначала, с потерей им предиката божественности тает авторитет и притягательная сила самого первоначала: оно перестает быть в глазах человека чем-то самоценным, загадочным, достойным стремления, дающим смысл человеческому существованию и являющимся орудием и гарантией его теозиса (обожения). Исчезает само ощущение существования потусторонности, и жизнь из поэтической, возвышенной и таинственной, готова превратиться в прозаическую, банальную, обыденную и сугубо посюстороннюю. Что, к примеру, божественного, мистического, таинственного в «корнях» вещей Анаксагора или в атомах Демокрита, кроме признака вечности их существования? Ровным счетом, ничего. Они суть те земля, вода и прочее, которые мы попираем ногами и смешиваем с нечистотами. Какой же мистический смыл они могут иметь, и какое способны внушать уважение?
В такой же степени в рамках натурфилософии коррозировали и представления о живом и психическом. «Старшие» физики жизнь и душу считали важнейшим признаком бытия, или даже сущностью самого бытия. Выше и лучше жизни для них не было ничего. Речь у них могла идти лишь о предпочтении наиболее достойной для человека формы жизни (всеобщая потусторонняя бессмертная в противоположность обособленной посюсторонней смертной) и поиске путей ее достижения. А в паре «душа—тело» первая занимала центральное положение и играла роль сущности бытия живого. Однако в результате развития физики все заметней становилась редукция живого и психического к вещественному, душа и жизнь из базовых понятий превращались в несамостоятельную видимость, в кажущуюся форму существования. Оказалось, что по истине, нет ни жизни, ни психики, есть только механически движущееся вещество, и это движение кажется жизнью и душой только в силу несовершенства познавательных способностей наблюдателя. Жизнь биологическая и психическая существует так же, как существуют мираж, иллюзия: они есть, но им ничего в реальности не соответствует; неживое просто выглядит живым [9]. Из такого понимания души вывести ее бессмертие, конечно, невозможно.
В наследство от физиков софистам перешла еще пара очень важных понятий, оформивших основы софистики. Речь идет о понятиях природы и ума. Можно предположить, что на ранних ступенях развития натурфилософии мыслители были близки к их полному или менее полному отождествлению: та или иная стихия вполне могла выполнять разумные функции. Однако с появлением элейского учения о двух совершенно не связанных друг с другом способах существования — логического и сугубо физического — сложились предпосылки для того, чтобы природное и разумное стали враждебными, либо просто бесполезными друг для друга. Этот разрыв был запечатлен и у элейцев, и в Анаксагоровом понятии ума ( ), в котором его автор видел источник отвлеченного мышления, речи и целесообразной деятельности, но который при этом был совершенно не способен взаимодействовать с веществом. В результате и без того весьма часто используемый физиками способ объяснения целесообразности видимого мира на основе механических принципов (случайность и закон притяжения подобного к подобному) получил свое теоретическое оправдание. А невозможность объяснить из целесообразно действующего разума вещественные процессы еще больше увеличивает стимулы для того, чтобы объяснять эти процессы из них самих. И даже сам Анаксагор, говоря о господстве ума над веществом, не смог удовлетворительно описать тот способ, посредством которого осуществлялось бы господство. Ум как универсальный устроитель, упорядочивающий хаотическое вещество в космос, оказывается невозможным и, следовательно, излишним, причем излишним уже у самого Анаксагора.
), в котором его автор видел источник отвлеченного мышления, речи и целесообразной деятельности, но который при этом был совершенно не способен взаимодействовать с веществом. В результате и без того весьма часто используемый физиками способ объяснения целесообразности видимого мира на основе механических принципов (случайность и закон притяжения подобного к подобному) получил свое теоретическое оправдание. А невозможность объяснить из целесообразно действующего разума вещественные процессы еще больше увеличивает стимулы для того, чтобы объяснять эти процессы из них самих. И даже сам Анаксагор, говоря о господстве ума над веществом, не смог удовлетворительно описать тот способ, посредством которого осуществлялось бы господство. Ум как универсальный устроитель, упорядочивающий хаотическое вещество в космос, оказывается невозможным и, следовательно, излишним, причем излишним уже у самого Анаксагора.
Против существования такого универсального ума свидетельствовала также и сама натурфилософия, и вот почему. Нужно вспомнить о двух важнейших предпосылках, лежавших в основе всего здания физики. Одной из них служило допущение, согласно которому имеется принципиальное тождество между высшей познавательной способностью человека, как бы она ни называлась (в конечном счете она стала именоваться умом), и высшим организующим началом всего универсума (оно также в конце концов получило название Ума). Без допущения тождества ума человеческого и Ума универсального (в данном случае субъекта и объекта) вообще невозможным было бы никакое познание и бессмысленными оказались бы любые познавательные усилия. Другая не менее важная предпосылка состояла в допущении, что ум-устроитель обязательно должен быть одним, если космос действительно упорядоченное и гармоничное органическое образование (каковым он, конечно же, не смог бы быть в случае существования двух и большего количества Умов). Без этого допущения оказываются невозможным предположение единого космоса, невероятным — познание и бессмысленной — полемика между философами [10]. Но из этих допущений следует, что если бы Ум действительно был один, то и все философы должны были бы прийти к одной универсальной позиции и создали бы одно и то же учение. Однако реальный историко-философский процесс привел к созданию не одной, универсальной доктрины, а множества, причем взаимоисключающих друг друга. Складывалось впечатление, что философы говорят не об одном и том же уме, а каждый о чем-то исключительно своем. В итоге получалось, что нет никакого космического Ума, единого для всего космоса, а у каждого человека есть свой ум, либо же он есть, однако не доступен для человеческого познания. Дело усугублялось еще и тем, что с легкой руки элейцев мышление обнаружило способность производить видимость, кажимость, иллюзию, когда оно могло логически правильно обосновывать то, чего в действительности не было [11], находя при этом весьма веские доказательства для того, чтобы убедить сознание в реальности и подлинности его существования. Ум предстает великим иллюзионистом, могущим создавать то, чего в действительности нет.
Вот те существенные положения, которые явно слышны в итоговых аккордах физического этапа развития философии. Их можно считать объективным выводом именно натурфилософии в целом, хотя каждый из физиков в отдельности, возможно, и не был готов к такому заключению. Софисты сделали за физиков их работу и довели имеющиеся в натурфилософии тенденции до логического завершения.
Общие положения. Софисты не признавали существование потусторонней реальности, сомневались или прямо отрицали бытие богов, отрицали также бессмертие души и разумность миропорядка. По крайней мере, приобрести достоверное знание обо всем этом им не представлялось возможным (о чем, кстати, свидетельствовало и разногласие между философами); стремиться же к тому, что недостоверно, и сообразовывать с ним свою жизнь неразумно [12]. Достоверным в той или иной степени софисты склонны были признать то, что с точки зрения физиков считалось видимостью — жизнь обыденную, посюстороннюю, смертную, чувственно воспринимаемую, которая в отличие от иллюзорной потусторонней жизни доступна для познания в любой момент времени и свидетельствовать о которой может каждый. Эта сфера не казалась теперь им сомнительной и именно с ней надлежало здравомыслящему, освободившемуся от иллюзий натурфилософии человеку связывать свою деятельность, цели и надежды. Зато «истинная», потусторонняя для восприятия реальность физиков объявлялась софистами самой настоящей видимостью, иллюзией, созданной коварным умом человека и не существующей нигде, кроме самого ума. Ценностные ориентации софистов стали зеркальной противоположностью ценностям физиков [13].
Софисты устранили непоследовательность натурфилософии, безуспешно пытавшейся в лице своих представителей «приладить» друг к другу логически мыслящий невещественный ум и вещественную, совсем нелогическую природу. Не найдя способа, каким ум мог бы господствовать над веществом, и не усмотрев оснований для использования понятия ума при описании видимого мира (это не получилось ни у кого из физиков, включая Анаксагора), софисты просто устранили его из глобальной картины мира, лишив космической масштабности. Они полагали, что нет никакого космического ума, якобы являющегося устроителем и корнем всего прекрасного, гармоничного, закономерного, зато есть множество человеческих умов (не ясно, правда, откуда взявшихся), обладающих способностью производить видимость [14].
Если сущее освободить от иллюзий, которые ему были присвоены усилиями физиков, и вычесть из него человеческую разумность, то должна остаться, как казалось софистам, только совершенно неразумная природа, которую вполне можно свести к растительному (рождение, рост, питание, размножение и смерть) и возвышающемуся над ним животному началам (ощущения, вожделения, чувственные стремления, стремление к самосохранению и т. п.). Сами же эти начала являются просто видимостью движущегося вещества и основываются на случайности и довольно примитивных законах, (например, закон «подобное притягивается к подобному»). Это и интерпретировалось как сущность природы. Именно так понятая природа считалась подлинно существующим, существующим на самом деле, по истине; именно это «подлинно» существующее должно стать источником ценностных ориентаций. Природа выглядела более совершенной, более фундаментальной, более могущественной и самодостаточной, нежели построенная на мышлении человеческая деятельность и ее продукты. Способствовали этому всеобщность природных законов, ее единство, сила и непоколебимое единообразие ее воспроизводства [15]. На это намекал софист Антифонт, убежденный, что если зарыть деревянное ложе в землю и если гниение получит такую силу, что появится росток, то из этого ростка разовьется вовсе не ложе, но именно дерево. Ведь устройство согласно правилам и искусству (быть ложем) присуще дереву только по совпадению, случайно, внешним образом, но не существенно, не по природе и потому не воспроизводится; а его же подлинная сущность — «быть деревом» — сохраняется и при наличии соответствующих условий воспроизводится [16], показывая себя более устойчивой, непрерывной и более сильной, нежели искусство.
Учение о познании. Итак, если универсального ума нет, а есть только множество частных и относительных умов, то и продукты их усилий являются относительными; кроме того, эти умы способны в своих рассуждениях отрываться от природы, которая только и существует подлинно, и производить видимость существования того, чего на самом деле нет. В силу этого для софистов утрачивает свое первоначальное, а именно натурфилософское, значение понятие истины как чего-то единого для всех, безотносительного и присущего самому бытию. Поиск истины с помощью ума бесполезен, ибо результат его всегда будет относительным и любому найденному понятию окажется противостоящим множество иных относительных понятий, добытых другими людьми. Проверить правильность и достоверность таких воззрений не представлялось возможным, поскольку ум в состоянии и несуществующее представить как существующее, а посему доверять ему в вопросах истины не стоит. Такое предположение, подрывая сами основы «теоретического» отношения к действительности, лишало теоретическое знание и его цель — истину — самостоятельной ценности и выдвигало на место теории практику, а на место истины ставило успех (как проверяемый, а значит и достоверный, результат практических усилий). Мудрец не тот, кто знает истину, а тот, кто добивается успеха. Там же, где понятие истины все же продолжало существовать, оно изымалось из сферы умозрительного и волей-неволей отождествлялось с содержанием ощущений.
Это и понятно. Ведь природа первичней, сильней ума и все равно свое всегда возьмет. А значит, чувственное в человеке — ощущения и желания — первичнее, истиннее и мощнее ума. Как бы высоко ум ни возносился над природой, эта его самостоятельность и отдельность будут кажущимися. Получается, что «хорошим» умом, если речь идет об истине, должен быть тот, который не выходит за пределы ощущений. Если же речь идет об успехе, то «хорош» ум, не ставящий своих собственных по отношению к природе (следовательно, иллюзорных) целей и стремящийся только к реализации естественных желаний. Ум всегда должен опираться на природу, т. е. на ощущения и желания, из них исходить и к ним стремиться. Именно поэтому многие софисты были убеждены, что основу нашего «теоретического» ума составляют ощущения, а основу «практического» — разного рода желания и вожделения. Ведь если чему-то и можно доверять, если что-то и обладает достоверностью, так это ощущения и желания. Значит, истина обречена быть относительной.
Такую позицию по отношению к истине занял основоположник софистики Протагор. В его доктрине весьма заметны следы атомистики, которая, возможно, была для него исходным пунктом и которую он, в известном смысле, постарался даже развить, хотя атомистики в классическом и чистом виде в его учении, конечно, нет.
Как известно, атомистика предполагает деление мира на две стороны: на доступный только разумному мышлению мир истины, включающий в себя атомы и пустоту, и на мир видимости, связанный с нашей чувственностью, т. е. мнения. В самом начале развития атомистической идеи Левкипп и Демокрит, еще полные оптимизма, надеялись создать такое учение об истине, которое не находилось бы в столь кричащем противоречии с чувственными переживаниями, какое было характерно для элейской школы [17]. В этой связи в теории познания им казалось необходимым исходить из того допущения, что между истиной и мнением (между ощущениями и атомами) имеется согласованность и некоторое соответствие, хотя они в то же время и отличаются друг от друга. Однако это были только декларации и благие пожелания. Различие между истиной и мнением оказалось принципиальным и непреодолимым: лишь мнимой реальностью обладают ощущения сладкого, теплого, зеленого и т. п., и им ничего не соответствует в мире подлинного бытия — в мире бескачественных атомов и пустоты, несмотря на то, что, согласно Демокриту, ощущения порождены формами атомов, их порядком и положением. У Демокрита, таким образом, имел место разрыв между тем, что доступно человеку, очевидно и в некотором смысле достоверно, с одной стороны, и совсем не очевидной, далеко не достоверной и не доступной человеку истины, о которой высказывается иллюзионист-ум, — с другой. Человек оказывался «запертым» в сфере мнения (видимости), в своих ощущениях, не будучи в состоянии прорваться наружу, к истине, к «объективности», не имея возможности заглянуть по ту сторону ощущений на причины, их порождающие. Если отталкиваться от итоговых рассуждений Протагора, можно предположить, что он стремился устранить непоследовательность Демокрита, ликвидировать дуализм мнения (чувственности) и истины (атомов и разума) и распространить атомистический принцип из сферы истины на сферу мнения.
Если ощущения представляют собой результат взаимодействия между атомами, т. е. суть некоторые отношения между ними, если ощущения порождены объективными свойствами самих атомов, их формой и положением, как говорил уже Демокрит, то эти ощущения столь же объективны, как и сами атомы, — добавит Протагор. Наши ощущения укоренены в истине, суть состояния истины (если под истиной понимать лишь атомы и пустоту) и ничего не могут искажать. Ощущения есть самые настоящие знания [18]. Какая сфера могла бы искажать отношения между атомами (а это и есть ощущения) и откуда она бы взялась, если нет ничего, кроме атомов, их отношений друг к другу и пустоты? Того, чего нет, и ощутить нельзя. Поэтому всякое мнение бывает лишь о том, что действительно существует [19].
Протагор лишает устойчивости и однозначности как субъект, так и объект познания, превращая их лишь в отношения между атомами. В самом деле, если нет ничего, кроме атомов и пустоты, то любая вещь, человек ли это или что-нибудь иное, будет представлять собой только совокупность взаимоотношений атомов. Причем от взаимодействия этих вещей их внутреннее состояние будет меняться, а соответственно, меняться будут и сами вещи. Для Протагора это означает, что ни одна вещь, включая познающего человека, не есть что-то одно, устойчивое, тождественное себе; находясь во множестве отношений, она всегда многообразна, в одно и то же время может быть разной. А раз ничто (в том числе ни субъект, ни объект) само по себе не бывает одним, то «Не скажешь, ни что оно есть, ни каково оно; ведь если ты назовешь это большим, оно может показаться малым, если назовешь тяжелым — легким и так далее, поскольку де ничто одно не существует как что-то или как какое-то, но из порыва, движения и смешения одного с другим возникают все те вещи, про которые мы говорим, что они существуют» [20].
В таком случае каждое ощущение в сущности есть не столько отражение макрохарактеристик того или иного объекта, сколько выражение состояния атомов взаимодействующих друг с другом субъекта и объекта, а проще — выражение состояний субъекта, объекта и их отношения. И возникает оно на стыке познающего и познаваемого как что-то среднее [21]. Любое изменение в субъекте или объекте на микроуровне неминуемо ведет к изменениям их отношений, а следовательно, и содержания ощущений. Разве не бывает иной раз, что дует один и тот же ветер, и кто-то мерзнет при этом, а кто-то нет? Так, ветер ли сам по себе холодный, или для мерзнущего он холодный, а для немерзнущего — нет? [22]
При этом обязательно нужно иметь в виду, что, поскольку каждый атом уникален (чем-то он всегда отличается от иных атомов), уникально и отношение, в которое он всякий раз вступает с другими атомами, а потому уникально и ощущение, являющееся этим отношением. Такие-то отношения между атомами суть такие-то ощущения, а иные отношения будут иными ощущениями. Причем любое ощущение не безосновно, но есть определенное отношение одних атомов к другим. Каждое ощущение, следовательно, объективно и истинно.
Такое положение дел означает, что ни одно ощущение не может быть мерой или критерием ни для какого иного ощущения, но каждое есть мера и критерий себя самого. Нет общего критерия, поскольку разум потерял значение средства познания истины еще у Демокрита [23]. Ощущения же все индивидуальны, атомистичны. Протагор последовательно проводил атомистический принцип в сферу мнения, чего не было у Демокрита, и теперь для ощущения (мнения) существенным стало отношение к себе и совершенно неважным отношение к иному. Протагор, однако, на этом не остановился и сделал следующий весьма важный шаг: он распространил атомистический принцип не только на ощущения, но и на самого познающего субъекта в целом, превратив его в уникальный «атомистический» индивидуум. Он индивидуализировал сферу переживаний человека настолько, что, подобно отдельно взятому ощущению, каждый познающий (ощущающий) так же есть мера и критерий своих ощущений. Только отдельный человек как определенное состояние бытия (атомов и их отношений друг к другу) может быть мерой себя самого. Переживания другого человека есть выражение иной компоновки иных атомов и потому только в нем и может находиться адекватный критерий этой, с позволения сказать, компоновки. Если действующее на меня, полагал Протагор, существует для меня, а не для кого-то другого, то и ощущаю его я, а другой — нет. Следовательно, мое ощущение истинно для меня, поскольку всегда принадлежит моей сущности, и я судья всем существующим для меня вещам, что они существуют, и несуществующим, что они не существуют [24]. Какой мне кажется каждая вещь, такова она для меня и есть, а какой тебе, такова она для тебя [25].
Мнения у одного и того же человека могут меняться на прямо противоположные даже в короткие промежутки времени. С точки зрения Протагора, смущаться этим не стоит. Изменение мнения может свидетельствовать только об одном — об изменении отношений самих атомов, составляющих тело данного человека, друг к другу, поскольку они находятся в состоянии постоянного перемещения и смешения. Непрерывное движение атомов, осуществляющееся в результате их взаимодействия, порождает непрерывную же изменчивость, текучесть вещей. Поэтому следствием любого, даже на первый взгляд незначительного изменения взаимоотношений атомов, просто-таки должно быть и изменение содержания ощущений данного человека. Поэтому-то любое мнение всегда истинно для мнящего так. Изменение состояния, например, переход от болезни к здоровью (ведь это есть некоторое изменение в отношениях атомов), будет менять и воспринимающего. Когда человек здоров и пьет вино, оно кажется ему приятным и сладким. Когда же он болен, то вино застает уже не того же самого человека, и порождается ощущение горечи [26]. В разное время люди воспринимают разное, свидетельствует Секст Эмпирик, смотря по разнице их настроений: тот, кто живет по природе, воспринимает из материи то, что может являться живущему по природе, живущий же противоестественно — то, что может являться живущим противоестественно. Так же и применительно к возрастам, и в отношении сна или бодрствования, и каждого вида настроений надо сказать то же самое [27].
Столь тесная связь между истиной и мнением, какую предложил Протагор, упраздняла различие нормы и патологии, объявляя все истинным. Поэтому-то и безумный считался Протагором верным критерием того, что может являться в безумии; и спящий — критерием в отношении к тому, что является во сне; младенец же — к тому, что случается в младенчестве; ну, а старик — к тому, что переживается в старости. Не подобает, полагал он, на основании одних обстоятельств принижать другие, как бы они между собою не различались, т. е. на основании того, что случается в здравом уме, принижать то, что является в безумии; на основании того, что бывает наяву, — то, что во сне; и от того, что в старости, — то, что в младенчестве. Если нельзя ничего взять вне субъективного состояния, то надо доверять всему, что воспринимается согласно соответствующему состоянию [28].
В результате последовательного проведения принципа атомизма появилось знаменитое положение Протагора о том, что «мера всех вещей — человек, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют» [29]. Ложь или заблуждение, если их понимать как утверждение несуществующего или отрицание существующего, при такой трактовке природы наших представлений оказываются невозможными; ведь каждое мнение есть выражение определенного состояния атомов и их отношений, т. е. бытия. А то, чего нет, не может найти выражение во мнении: его нельзя ни ощутить, ни мыслить. Поэтому любое представление должно быть признано истинным. Правда, качественное различие между ощущениями и представлениями все-таки есть: они могут быть хорошими или плохими, но при этом все — истинными. И болезненное, и здоровое состояния являются истинными, но одно плохое, поскольку вызывает страдание, а другое будет хорошим. Плохие разумно заменить на хорошие, если это возможно. Мастером (мудрецом), могущим менять плохие телесные состояния на хорошие, является врач либо учитель гимнастики, мастером же, который в состоянии исправить плохие душевные состояния (представления) на хорошие, нужно считать софиста.
Протагор, продолжая таким образом логику атомистики, впервые на философском уровне провозгласил принципы относительности и индивидуализма, заложив тем самым основы софистики. Это, однако, не означало, что все последовавшие за ним софисты придерживались тех же самых воззрений на истину, каковые были характерны для Протагора. Принцип релятивизма в том и состоит, что любое воззрение должно считаться истинным. Поэтому очень многие софисты, в полном соответствии с учением Протагора, занимали в вопросе об истине иные, подчас даже противоположные ему позиции, как, например, Горгий.
Этот мыслитель реализовывал принцип относительности наших представлений с помощью тезиса, прямо противоположного Протагорову, а именно: все мнения ложны. В своем сочинении «О несущем, или О природе» он стремился последовательно доказать, что ничего не существует, а если даже оно и существует, то непостижимо для человека; ну, а если все-таки оно и постижимо, то уж во всяком случае невыразимо. При этом он активно использовал элейский способ мышления и воспроизвел метод рассуждения из поэмы Парменида «О природе», однако пошел дальше в своих утвержден