
Коварная бочка
При Савельеве, после большого перерыва, вновь установили в колхозе Доску почета. Порядок ввели такой: вывешивать портреты тех, кто выработает не менее трехсот трудодней.
Но тут не обошлось без курьеза.
Дядя Гриша, муж тети Лизы, тоже загорелся желанием попасть на Доску почета. Даже ездил в райцентр – заблаговременно сфотографировался.
Захотелось дяде Грише наконец сравняться с женой. И хоть раз в жизни увидеть свою фотографию на почетном месте. Рассчитывал дядя Гриша и на то, что таким образом он сможет попасть и в газету, хотя бы в районную.
Когда подвели итоги, выяснилось, что у дяди Гриши не хватает одного трудодня. Оказалось, их у него всего 299. Дядя Гриша заставил трижды пересчитывать свои трудодни. Но итог получался все тот же. Бедняга чуть не расплакался.
Многим было обидно за дядю Гришу, так как все знали, что работал он честно и не ради большого заработка, а именно ради Доски почета.

Все осложнилось тем, что было уже тридцать первое декабря, и к тому же вторая половина дня. Заработать дополнительный трудодень в этом году казалось уже невозможным.
И вот тут‑то Червонцев вспомнил, что брали они для своей бригады в долг у трактористов из колхоза «Передовой» бочку машинного масла. Долг могут теперь вернуть. Так вот: если дядя Гриша желает, пусть отвезет в «Передовой» масло. А за это и припишут ему трудодень.
Дядя Гриша повеселел:
– Я живо, я живо!
С прытью редкостной запряг он коня. Положили на санки бочку. Даже дед Опенкин и тот помогал.
Выпил дядя Гриша на дорогу стакан вина. Закутался в тулуп. Поехал.
Дорога в «Передовой» дальняя. Тянется она через соседние колхозы «Дубки» и «Грибки». Идет то полем, то лесом, дважды через овраг и уже у колхоза «Передовой» через речку Песчинку, как раз в том месте, где впадает в Песчинку их березинская Переплюйка.
В Дубках у дяди Гриши жил кум. Заехал дядя по дороге к куму. Рассказал ему, что едет в «Передовой» и почему. Похвастал про Доску почета. Пригласил, чтобы кум приехал посмотреть на его фотографию.
Выпили они в честь успехов дяди Гриши по стакану вина. Расцеловались. Поехал дядя Гриша дальше.
Приехал в Грибки. В Грибках у дяди Гриши жил свояк. Заехал дядя к свояку. Рассказал, что едет он в «Передовой» и почему. Похвастал про Доску почета. Пригласил, чтобы свояк приехал посмотреть на его фотографию.
Выпили они с дядей Гришей в честь его успехов по стакану вина. Расцеловались. Поехал дядя Гриша дальше.
Ехал, ехал и задремал. Дорога пустынная. Вечер. Да и вино, видимо, подействовало. На каких‑то ухабах санки дважды подбросило. И один раз даже сильно. Но дядя Гриша не проснулся, лишь буркнул что‑то во сне.
Приехал он в «Передовой», глянул – нет бочки.
Поводил дядя Гриша ошалело глазами и понял: случилась беда, потерял он дорогой бочку.
Развернул растяпа коня, помчался быстрей назад. В одном из оврагов и увидел пропажу. Вздохнул облегченно. Но, подъехав ближе, всмотрелся и ахнул. Вокруг бочки темное море. Видимо, во время падения вылетел из ее горловины кляп – вот и вышло почти все масло наружу.
Поохал дядя Гриша, поохал, взгромоздил бочку опять на сани. Стал думать, куда же ехать: в «Передовой» или назад в Березки?
Решил: «Поеду в «Передовой». Может, там не заметят и бочку примут?»
И верно. Не заметили. Прибыл дядя Гриша из‑за своих задержек почти к встрече Нового года. Возиться с бочкой никто не хотел. Даже визитера за поздний приезд ругнули. Но дядя Гриша сам вызвался закатить ее на склад. А когда катил, нарочно кряхтел и приговаривал:
– Тя‑яжелая…
На следующий день портрет дяди Гриши повесили на Доску почета. Первое и второе января были счастливейшими днями в его жизни.
Дядя Гриша с утра до вечера топтался около доски. И сам смотрел на себя, и проверял, многие ли люди подходят, и многие ли именно на его портрет смотрят.
А вечерами, сидя в избе, прикидывал, сколько ждать той минуты, когда наконец появится в газете о нем статья.
Статья появилась на третий день. Называлась она «Растяпа на пьедестале». Это был занозистый фельетон об истории с бочкой.
Портрет дяди Гриши с Доски почета немедля и безжалостно сняли.
После случая с дядей Гришей Савельев предложил внести некоторые поправки в порядок помещения портретов на Доску почета. Отмечая лучших, принимать во внимание не только количество выработанных трудодней, но и качество самой работы.
За погибшее масло с дядя Гриши удержали двадцать два трудодня.
Рио‑де‑Жанейро
Прошел год, и вернулась в Березки Глафира Носикова. Отбыла свой срок в заключении.
Глянули люди – глазам не поверили. Думали, вернется Глафира похудевшей, притихшей. Собирались ее пожалеть. Однако Глафира сияла как медный таз. А главное, наряд на Носиковой был такой, каких и в районе не носили, и в области, видимо, тоже. Приехала Глашка во всем необычном.
– Париж! – тыкала она на этикетку, выворачивая пальто.
– Лондон! – поводила плечами, чтобы люди со всех сторон могли рассмотреть ее новую кофту.
– Рио‑де‑Жанейро! – показывала на какие‑то замысловатые туфли.
В Березках лишь ахали. Казалось, что не в заключении была Глафира, а совершила кругосветное путешествие. Пошли робкие голоса:
– Да где ж ты была?
– Откуда такие обновы?
– Там была, куда и услали, – зло отвечала Глафира. Оказывается, дело было в простом. Проработала Глафира год на дальних лесных разработках. За труд получила деньги. Возвращаясь домой в Березки, по дороге остановилась в Москве. Здесь и приоделась.
Вернувшись домой, Глафира повела себя по‑прежнему. И даже хуже.
Ну, решили в Березках, не будет теперь никому от Носиковой жизни. Особенно деду Опенкину за его решивший тогда все дело голос.
Но все глубоко ошиблись.
Жизни не стало не деду от Глафиры, а Глафире – от деда.
Все началось с их первой встречи.
– Приветик, мальчик! – сказала Глафира. – Ну как, все держишь хвост пистолетом?
Старик окаменел. По‑всякому называли деда, даже «сивый мерин», но «мальчиком» – впервые. Лицо у Опенкина вытянулось.
– Ну и фотография… – расхохоталась Глафира.
Дед понял, что речь идет о его лице, не выдержал, взвизгнул:
– Хви!
Глашка еще больше расхохоталась. Тогда старика прорвало.
– Ты на испуг не бери! – кричал он на Носикову. – Урка несчастная! Да я… Да мы… Мне бы в руки тебя… Да я из тебя… У‑у!
От такого наскока даже Глафира попятилась.
– Слыхал, слыхал о твоем разговоре с Глафирой, – сказал вечером Савельев деду Опенкину. – Ну что же, если не помогли полностью лесные разработки, возьмемся сообща в Березках. Вот что, Лука Гаврилыч, поскольку инициативу ты уже проявил, – Савельев слегка улыбнулся, – назначаю тебя ответственным за трудовое довоспитание колхозницы Носиковой.
Дед поначалу хотел отвертеться. Но слово «ответственный» его соблазнило. Приступил старик к делу. И, надо сказать, проявил полное усердие.
В четыре утра дед Опенкин уже стучался в двери избы Носиковой.
– Выходь, выходь! – выкрикивал дед.
Гонял он Глафиру на самые неприятные работы: чистить свинарник, вывозить на поля навоз, вычесывать блох из овец. Причем приговаривал:
– Вот тебе и твое Жанейро!
Глафира огрызалась, но работала.
Конечно, дело было далеко не в одном только деде Опенкине. В Березках многие взялись за Носикову. А главное, изменились и сами Березки. В селе клуб. Никому уже не нужна изба Глафиры для посиделок. Денег в долг у нее тоже никто не берет. Завели в колхозе кассу взаимопомощи.
Вскоре после приезда Носиковой вернулся в село и Степан Козлов. Этот прибыл без шума, без крика. Подал заявление с просьбой снова принять в колхоз. Видать, несладко пришлось ему вне дома.
Савельев Козлова не корил, ни о чем не расспрашивал. Определил его на колхозную ферму, в распоряжение Нютки Сказкиной.
«Приветик!»
С легкой руки Глафиры привилось в Березках слово «приветик». Первым заразился, конечно, дед Опенкин. Употреблял его дед к месту и не к месту, нужно и не нужно. Кого ни увидит, кричит:
– Приветик!
От деда слово перешло к рыжему Ленте. От Ленти – к другим ребятам. В школе начался переполох. Стали учителя бороться с этим проклятым словом, но кончилось тем, что только сами же его переняли.
Постепенно эпидемия распространилась на весь колхоз. Не устояли ни Червонцев, ни зоотехник, ни тетка Марья. Младенцы и те кричали:
– П‑иветик!
Савельев тоже не избежал общей участи. Являясь в бригады, первое, что говорил:
– Приветик!
Уезжая из бригад, опять говорил;
– Приветик!
Он даже нового секретаря районного комитета партии, впервые приехавшего к ним в колхоз, и то встретил привычным:
– Приветик!
Секретарь с немалым удивлением посмотрел на председателя. И решил, что имеет дело с человеком не очень серьезным. Не скоро Савельеву удалось доказать обратное.
Правда вернувшись к себе в район и встретив своего заместителя, секретарь и сам попался на том же слове.
– Приветик! – сказал секретарь.
Полгода продолжалась в Березках завезенная Глафирой эпидемия. Потом эпидемия сама собою прошла.
Пенсия
В этот день дед Опенкин еще с обеда стал выглядывать в окно. Интересовался, не идут ли люди в клуб. Собрание было назначено на шесть часов вечера, но деду уже с утра не терпелось.
День и вправду был особенным. Березкинские старики выходили на пенсию. Этому и посвящалось собрание. Пенсии в Березках вводились впервые. Раньше о таком и мечтать было нечего.
– Неплохое дело пенсия, неплохое, – рассуждал дед Опенкин. – И работать не надо, и деньги идут.
Знал старик, что положили ему пенсию в размере двенадцати рублей в месяц.
– В год получается сто сорок четыре, – прикидывал дед Опенкин. – Ну что же, ружье куплю, на зайцев ходить буду.
В клуб старик явился с таким расчетом, чтобы не выглядело, что пришел первым, но так, чтобы и последним не оказаться.
Стариков разместили с уважением – в первом ряду. А тетка Марья даже была приглашена в президиум. В президиуме был и представитель из района. Но не тот, не старый знакомый деда Опенкина. А новый. Совсем еще молодой.
Все было хорошо. И все же в душе у старика копошилась тревога. Смутил его дед Празуменщиков. Вернее, не сам Празуменщиков, а разговор, который шел по селу. Говорили, что Празуменщиков собирается отказаться от пенсии. А почему – никому не известно.
«Если Никишка откажется, – рассуждал дед Опенкин, – то обойдет меня, выйдет, хитрец, на первое место». Борьба между стариками даже при Савельеве не утихала.
На собрании выступали многие. И Нютка Сказкина – от комсомольцев. И Саша Сорокина – от пионеров. И Иван Червонцев – от коммунистов. И сам Савельев – от колхоза.
Говорили о каждом уходящем на пенсию подробно. Произносили слова «ветераны», «герои», «гордость колхоза».
Дед Опенкин тоже обижен не был. Старикам желали хорошего отдыха, долгой жизни.
Затем всем вручили цветы. Именно те, знаменитые шишкинские хризантемы.
Для ответа слово взяла тетка Марья. Она поклонилась тем, кто сидел в президиуме. Потом сделала еще более низкий поклон залу.
– Глубокое вам благодарение, – сказала старуха. – Спасибо от души, от сердца! От пенсии не отказываюсь, раз заслужила. Нет. Но и сложа руки сидеть не буду. Силы есть. Нет мне жизни без нашей фермы. – Тетка Марья повернулась к президиуму: – Прошу просьбу мою уважить – оставить при деле.
В зале раздались аплодисменты.
«Вот тебе и баба!» – подумал дед Опенкин. Потом он с тревогой глянул на Празуменщикова и заметил, что тот тянет вверх руку. «Так и есть, обойдет меня Празуменщиков», – понял дед Опенкин и закричал:
– Прошу слова!

Причем закричал, уже выходя из ряда. Эта прыть и решила дело. Дали ему слово до Празуменщикова.
Вылез старик на трибуну и сразу же:
– А я что – инвалид? Я еще ого‑го‑го! Я еще и без пенсии вам поработаю. – И так же, как тетка Марья, повернулся к президиуму. – Прошу просьбу мою уважить.
В зале снова раздались аплодисменты. Причем еще более дружные. А Павел Корытов даже выкрикнул:
– Ну и дает!
Вид у Опенкина был торжествующий. Первенство осталось опять за ним.
Празуменщиков снова вытянул руку. Дед Опенкин в душе хихикнул. Не страшен ему теперь Празуменщиков.
Но дед Празуменщиков попросил вовсе не слова.
– Разрешите вопрос?
– Прошу, Николай Николаевич, – сказал Савельев.
– Вопрос таков: облагается ли налогом колхозная пенсия?
– Нет, – ответил Савельев.
– Ясно, – сказал Празуменщиков и сел.
Деда Опенкина словно сразило громом.
Уже потом, после собрания, Савельев сказал старику:
– Зря ты, зря отказался, Лука Гаврилович. Излишняя скромность. Заслужил ведь пенсию честно.
Опенкин ничего не ответил.
Добрый заяц
Филимон Дудочкин, тот, с которым Савельев, приехав в Березки, проводил первую свою «индивидуальную» беседу, конечно, давно изменился. Не байбак он теперь и не лодырь. Работа у Дудочкина почетная: он комбайнер. План выполняет, машину знает.
Однако один грех за Филимоном Дудочкиным все же остался. Любил Дудочкин так же, как и в свое время председатель Посиделкин, бродить по полям и лесам с ружьем. Охота – дело хорошее и даже полезное. Но только, если она ведется в положенный срок. Филимон Дудочкин браконьерствовал, то есть бил зверя и птицу и в те месяцы, когда делать этого по закону не позволяется.
Не считая уток, тетеревов, глухарей и зайцев, он даже лося однажды в лесу убил.
За браконьерство штрафуют и судят. Однако Дудочкин ни разу не попадался. Был осторожен, ходил на охоту скрытно, об успехах своих не болтал.
Знали в Березках, чем занимается Дудочкин, часто его корили. Но он отвечал:
– А я что? Я ничего. Ты видел?
Дед Опенкин с ним тоже как‑то завел разговор.
– Ой, – пригрозил Опенкин, – дождешься ты, Филимон!.. Зверь тебя сам накажет.
Старик оказался пророком.
Пошел как‑то Филимон Дудочкин на зайцев, и опять в запрещенное время. В лесу на поляне рядом с оврагом поднял косого, вскинул ружье и стрельнул. Перевернулся через голову заяц, упал. Подошел браконьер к добыче, отложил ружье в сторону, прислонил его к какому‑то пеньку, потянулся за зайцем. Только к ушам притронулся. И вдруг… подпрыгнул заяц, метнулся в сторону. Зверек был ранен, но не убит. Дудочкин еще и разогнуться от удивления не успел, как грянул выстрел.
Браконьер взвыл и схватился за ягодицы.
Оказывается, метнувшись, заяц угодил на ружье и лапой задел курок.
Возможно, никто бы и не узнал в Березках о таком позоре Филимона Дудочкина, если бы не серьезная рана и не на столь ответственном месте. К тому же этот отважный поступок зайца видели своими глазами Кузя с Кекой. Мальчишки крутились возле оврага и оказались свидетелями. Они помогли браконьеру добраться с трудом домой. А потом и разнесли о случившемся всем в Березках.
Филимон Дудочкин хворал две недели.
– Добрый заяц тебе попался, – говорил дед Опенкин. – Добрый! Другой бы убил наповал.
Неожиданная встреча
Группа колхозников из Березок направлялась в Москву на Всесоюзную выставку достижений народного хозяйства.
В состав группы был включен и Опенкин.
Никогда еще старик не был таким озабоченным и так не суетился, как в эти предотъездные дни. И это понятно: дед Опенкин в Москву собирался впервые.
– Интересно, что у нас за столица? Посмотрим, посмотрим, – приговаривал дед Опенкин.
Старик не только мечтал посмотреть Москву, но и себя тоже хотел показать. И, конечно, не в худшем виде.
Трижды ездил старик в райцентр за покупками. Развязал чулок (деньги дед по‑бабьи хранил в чулке) и произвел необходимые траты. Купил костюм из шевиота, полуботинки с носами, как пики, узкими (кто‑то сказал, что это будет как раз по моде). На голову шляпу. Потом долго раздумывал, что ему лучше подойдет к новой сорочке – «бабочка» или галстук? Остановился на «бабочке». А сообразив, что борода закрывает «бабочку», хотел бороду сбрить. Но удержался.
Когда дед вернулся в село, нарядился для пробы и вышел на улицу, все березкинские собаки, не признав старика, немедля его облаяли. Но это деда Опенкина не смутило. «Значит, изменился заметно», – сделал он правильный вывод. Москва деду хотя и понравилась, однако общий вывод у него был таков:
– Здоровая. Местами красивая. А все же до наших Березок ей далеко. Воздух там не тот. Дышать без привычки трудно. И ходить по улицам там опасно – милиция люто штрафует.
Зато от выставки старик пришел в небывалый восторг. Был он в эти дни, как никогда, разговорчив, со всеми знакомился и каждому встречному рассказывал про Березки. Бегал по выставке, как молодой, всех поражая и шляпой и «бабочкой».
Тут на выставке и произошла у деда Опенкина неожиданная встреча. Повстречался ему их бывший председатель, Рыгор Кузьмич Губанов. Рыгор Кузьмич долго не мог признать деда.
– Да я тот самый, – объяснял старик, поправляя «бабочку». – Опенкин моя фамилия.
– А! – воскликнул Губанов. И страшно обрадовался: – Сивый мерин!
Дед хотел обидеться за прошлую кличку. Но в тоне Рыгора Кузьмича звучала такая искренняя радость, что дед не обиделся и ответил.
Рыгор Кузьмич живо интересовался делами в Березках:
– Ну как там ваш табун?
Спрашивал бывший председатель о Червонцеве, о тетке Марье, о Степане Козлове: мол, все такой же лодырь или исправился? Просил от него всем кланяться.
Оказалось, что Губанов колхозными делами уже не занимается. Вернулся на конный завод. За выведение новых пород лошадей он и попал на выставку.
Прощаясь, Рыгор Кузьмич сказал:
– Передай новому председателю: нужны будут кони – доставим аллюром.
Рассказал дед Опенкин в Березках об этой встрече. Невольно все вспомнили старое. Невольно заговорили и о Степане Петровиче. Да, многое изменилось за эти годы у них в Березках.
Тайное угощение
Мечта о Доске почета по‑прежнему не давала дяде Грише покоя. На следующий год он с еще большим усердием взялся за работу.
– Ишь резвый! – говорил дед Опенкин.
Выработал дядя Гриша на этот раз триста сорок трудодней. Так что никаких недоразумений не было.
Опять дядя Гриша ходил к тому месту, где висела доска. Опять любовался собой и следил, многие ли люди на его портрет смотрят. Снова ездил в Дубки и Грибки к свояку и к куму, приглашал тех приехать в Березки и тоже посмотреть на его портрет.
Однажды к доске подошел дед Опенкин, как раз в то время, когда крутился здесь дядя Гриша. Посмотрел старик на дяди Гришин портрет, посмотрел и на дядю Гришу.
– Похож, – заявил. – Однако в жизни выглядишь ты, Гришка, намного лучше.
Дядя Гриша заулыбался.
– А все же портрет тоже хороший, – продолжал старик. – Жаль, что висеть недолго.
Дядя Гриша насторожился.
– По закону парности, – заявил дед Опенкин, – должон ты, Гришка, второй раз слететь с этой доски.
И снова, представьте, накаркал, как и тогда Филимону Дудочкину.
Виною всему оказался Яшка Подпругин. Тот самый Подпругин, который, в отличие от Павла Корытова, так и остался Яшкой.
Яшка Подпругин варил самогон. И для себя, и для тайной продажи. Дважды его штрафовали и, казалось, добились успеха. Притих на время Яшка Подпругин. Но прошло недолгое время, и заметили снова люди, что винный запашок постоянно идет от Яшки. Значит, гонит по‑прежнему он самогон. Но сколько раз ни заходили к нему в избу, никаких примет самогоноварения.
И вот однажды дядя Гриша, во время одной из грибных прогулок, блуждая по дальнему лесу и спустившись осторожно в лощину, заметил маленькую землянку. Труба торчит над землянкой. Из трубы подымается дым. Заинтересовался дядя Гриша, подошел к двери, заглянул внутрь. Видит: сидит в землянке Яшка Подпругин, а перед ним аппарат для самогоноварения.
Перепугался Подпругин, увидя дядю Гришу, а затем расплылся в улыбке:
– Заходи, заходи, Григорий Данилович. Заходи – гостем любезным будешь.
Дядя Гриша зашел. Яшка Подпругин немедля преподнес ему шкалик. Пытался дядя Гриша отказаться, но как‑то у него не получилось. Не устоял он против хмельного угощения. Выпил шкалик, второй и третий.
Возвращался дядя Гриша домой с покрасневшим носом и даже песню запел по дороге.
На следующее утро, конечно, о случившемся дядя Гриша посожалел. «Зачем пил, – сокрушался он, – зачем не удержался?» Нужно было бы в селе рассказать о Подпругине, но теперь после угощения делать это было как‑то неловко. Дядя Гриша махнул рукой и решил смолчать. Мало того. Еще дважды в лес в гости ходил к Подпругину.
Все тайное рано или поздно становится явным. Так и тут. Недолго продержалась лесная землянка Подпругина неоткрытой.
Привлекли Подпругина к ответу за тайное самогоноварение.
Виновный стал выкручиваться.
– Почему тайное? – заявлял он. – Никакое не тайное. Люди об этом знали.
Стали выяснять, кто знал.
– К примеру, хотя бы Григорий Данилович, – ответил Подпругин.
Вот тут‑то и слетел дядя Гриша вторично с Доски почета.
После этой истории правление колхоза вынуждено было внести и еще одну поправку в порядок выдвижения кандидатов на Доску почета. Мало того, чтобы человек выработал предусмотренную норму трудодней. Мало того, чтобы качество работы было отличным: будет учитываться также и то, как ведет себя в жизни тот или иной член артели.
Боевая медаль
Дела в Березках заметно сдвигались всё к лучшему и к лучшему. Особенно хорошо они обстояли у Нютки на ферме. И с надоем коров, и с ростом молодняка.
Осенью пошли слухи, что лучших животноводов будут представлять к награждению орденами и медалями.
Слухи скоро подтвердились. Не только Березки, но и весь район, и вся область шли успешно по сдаче государству мяса и молочных продуктов. Поэтому животноводов и решили отметить.
От Березок к наградам были представлены Нютка, зоотехник, тетка Марья и еще шесть человек. Награждение по области было массовым.
Дед Опенкин пронюхал и тоже предъявил свои права на награду.
Дело в том, что последние два года дед увлекся разведением в Березках, как он сам говорил, «индейской птицы», то есть индюков и индюшек, и добился успехов достойных. От их распродажи колхоз имел необычайно высокий доход.
– Так награда же животноводам! – объяснил деду Савельев.
– А я что, не животновод? – отвечал дед.
– Индюк – это птица, – сказал Савельев.
– Вот и не птица, – оспаривал дед. – Птица – это курица, утка. А индюк – это животное. Да оно же и по размерам видно.
Конечно, за работу свою дед награды заслуживал. Но ведь действительно не назовешь индюка коровой! А награждали животноводов.
Пытался Степан Петрович уговорить деда, чтобы тот подождал: будут, наверное, и на будущий год награды. И, возможно, как раз за птицу, и вот тогда спора никакого не будет. Он, председатель, первым проголосует за деда.
Но старику, как всегда, не терпелось.
– А вдруг я помру? Нет, пиши меня в этот год!
– Да не дадут тебе награды, – объяснял Савельев. – Не дадут. В районе или в области все равно вычеркнут.
– А вот и дадут, – уверял дед. – Может, другим не дадут, а мне непременно. Разберутся в верхах и присудят.
До того пристал старик и к Савельеву, и к Червонцеву, и к другим членам правления, что те в конце концов не устояли. Внесли деда Опенкина в список как кандидата на медаль.
Далее события развернулись так. Из колхоза списки пошли в район. Из района (дед удержался) в область. В области списки представленных к наградам стали резко сокращать. Особенно по тому району, в котором находились Березки. Район плохо справился с зерновыми. Вот и решили наказать животноводов. Вычеркнули всех до единого. Однако когда дошли до имени деда Опенкина и прочитали, за что дед представлен к награде, то, во‑первых, усмехнулись, а во‑вторых, решили в списке его оставить. Разведение индюков в той области было редчайшим случаем. Индюки и вывезли деда.
В Березках все были поражены. Дед тоже.
Вручили Опенкину медаль в области на совещании передовиков.
Вернувшись в Березки, старик заявил, что медаль у него боевая.
– Боевая, – усмехнулся Савельев. – Боевая. С боем досталась.
Но старик имел в виду совсем другое. Стал он доказывать всем, что эта медаль его дожидалась без малого двадцать лет и награжден он ею вовсе не за индюков, а именно за тот известный всем подвиг в болотах.
Дед даже придумал версию. Мол, вся путаница произошла тогда из‑за фамилии. Лейтенант, командир роты, представив его к награде, указал вместо Опенкин – Боровиков.
Кое‑кто в это даже поверил.
– Ну, сравнялись мы, – говорил дед Алексею Вырину.
Правда, в Березках над этой дедовой версией посмеивались. Но спорить с ним никто не спорил. Все по той же причине: и трудно, и бесполезно. Впрочем, причина была и вторая. Хоть медаль и за труд, но и она боевая. Ибо труд – это тот же подвиг, и тот же бой. Это все понимали.
Медалью старик страшно гордился. Не расставался с медалью нигде. Ходил с нею и в клуб, и в баню.
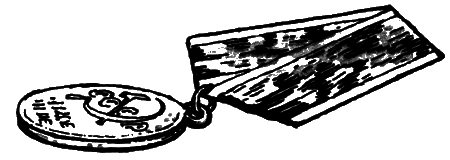
Глава седьмая. И снова бой…
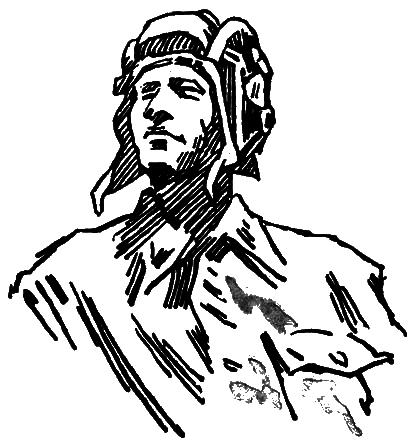
Ровесник
Савельев – ровесник Великой Октябрьской революции. Родился Степан Петрович в 1917 году.
За те годы, которые пробыл Савельев в Березках, много узнали здесь о председателе. Выяснилось, что он свой же крестьянский парень. Появился на свет Савельев в такой же русской деревне. Правда, в соседней области, на речке Ламе.
Отца он своего не помнит. Погиб отец Степана Петровича на гражданской войне от белогвардейской сабли. Было в ту пору Савельеву три года.
Прожил Савельев в родной деревне до семнадцати лет. Потом ушел на завод. Работал токарем. С завода был взят в армию. Отслужил действительную, послали по комсомольскому набору в танковое училище. Только его закончил, как началась война с белофиннами. Попал Савельев на войну, сражался в Карельских лесах на Ухтинском направлении.
Кончилась война с белофиннами, а тут подошла Великая Отечественная. С первого до последнего ее дня бился Савельев с фашистами. Был четырежды ранен и награжден шестью орденами. В том числе чешским и польским. После войны служил Степан Петрович в строевых частях. Затем преподавал в танковом училище. После демобилизации из армии он и приехал в колхоз.
В родном селе была у Савельева девушка. Машей звали. Вместе они росли. А когда уезжал Степан из села, поклялись в вечной любви и дружбе. Война всему помешала. Замучили Машу фашисты. Партизанила она вместе с односельчанами в родных лесах.
Светлую память о Маше и хранил Степан Петрович все эти годы. Так и прожил, ни на ком не женившись.
Демобилизовавшись из армии, конечно, мог Савельев поехать в родную деревню. Но не решился. Не хотел тревожить старые раны. К тому же мать у него умерла. Родных на Ламе никого не осталось.
Но и в Березки Савельев попал не случайно. Памятны Савельеву эти Березки. Память уходит в 1941 год. В пяти километрах от села за крутым оврагом, за дальним лесом, в той стороне, где дорога идет к районному центру, есть в Березках большое поле. Здесь в страшном танковом бою с фашистами получил Савельев свое первое ранение и пролил свою первую кровь за Родину.
Многие из друзей Степана Петровича навеки остались в этих местах. Может, солдатское сердце и потянуло сюда Савельева.
Но обо всем этом узнали в Березках не сразу. Не враз председатель для всех раскрылся.
Стало окончательно ясным и странное поведение Савельева в первый день по приезде в Березки. На местном кладбище лежали однополчане.
Улица Капитона Захарова
Разрослись Березки. И к югу, и к северу. И к лугу, и к лесу. И не только за счет новоселов из дальних мест. Съехались в Березки жители из соседних маленьких деревень. Из Горюшек, из Песчинок, из Мертвых Двориков. Трудно теперь в Березках: начинают путаться без названий улиц сельские почтальоны.
Возникла идея улицы наименовать. А чтобы не было так: бухнул первое, что на ум пришло, Савельев и предложил провести нечто вроде колхозного конкурса. Отвели на раздумья месяц.
Весь месяц все, вплоть до деда Празуменщикова, ходили, ломая головы. Только и слышалось:
– Придумал!
– Придумал!
– Придумал!
Постепенно жители стали группироваться, вносить общие пожелания от отдельных концов села.
Так, колхозники северной, самой нагорной части Березок решили свои улицы назвать именами советских космонавтов. Южная часть села стояла горой за поэтов. Тут прежде всего назывались имена Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Некрасова, а из советских поэтов – Владимира Маяковского.
Савельев тоже внес предложение: назвать одну из улиц именем Сергея Есенина.
Все закричали:
– Верно!
И долго потом поражались, как они сами до того не додумались. Как это так, чтобы в Березках – и вдруг не было бы улицы Сергея Есенина.
Дольше других решался вопрос о наименовании главной улицы. Любили в Березках главную улицу. Широкая, просторная, стрелой пересекала она Березки и уходила до самого горизонта.
Кто‑то полез с предложением: «Широкая», кто‑то сказал: «Солнечная», женщины кричали: «Имени 8 Марта». Дед Опенкин предлагал назвать «Автомобильной».
– Ишь их сколько теперь развелось, этих машин! Аж страшно ходить по улице. Жужжат, спать не дают, – обосновывал он свое предложение.
Но тут выступил Филипп Спиридоныч Сизов, отец Лизы Сизовой. Начал он издалека.
– Памятью люди слабы, – ворчал Сизов. – Прошло, отвалилось, травой заросло. Теряется прошлому след, словно прошел по росе. Вышло солнце, и следа нет.
И уже потом заговорил о Капитоне Захарове – первом председателе в Березках.
– Отдал жизнь за колхоз, за людей Захаров, – говорил Филипп Спиридоныч. – А где ему доброе слово? Предлагаю главную улицу в нашем селе величать именем Капитона Захарова.
И всем стало ясно, что это и есть самое верное предложение. Стала улица – улицей Капитона Захарова.
Лейтенант Швабра
По билету денежно‑вещевой лотереи рыжий Лентя выиграл мотоциклет. Никто не верил в такое, пока мотоциклет не пригнали в Березки.
Все поражались удачливости рыжего Ленти. И лишь дед Опенкин качал головой:
– Не повезло. Не повезло. Другие «Москвич» выигрывают.
Ездил Лентя без прав, без номера. Гонял он без устали, доставляя радость местным собакам и пугая до смерти старух. Ездил младший Опенкин и в соседние села, в Дубки, и в Грибки, и даже по новой трассе в райцентр. Здесь и приметил мальчишку автоинспектор лейтенант Швабра.
Более сурового автоинспектора, чем лейтенант Швабра, пожалуй, нет во всем Советском Союзе. Нарушитель, то есть Лентя, – без прав, без номера – был, как говорят, налицо. Закон требовал действий.
Между Шваброй и рыжим Лентей возникла настоящая война. Лейтенант был стороной наступающей, мальчишка – ускользающей. Ускользал он действительно ловко. Трижды гонялся Швабра за рыжим Лентей по трассе, но безуспешно – обходил Лентя его по скорости.
Тогда Швабра устроил на мальчишку засаду. Стал поджидать его у колхозной чайной возле дорожной развилки, где самодельная трасса из Березок входила в большую трассу.
Проявил лейтенант упорство. На четвертом дежурстве заметил Лентю. Ринулся на своем мотоциклете наперерез. Причем так засвистел в милицейский свисток, что Лентя от неожиданности чуть не свалился.
Реакция у мальчишки моментальная. Увидев, что это Швабра и путь перекрыт, он немедля свернул с дороги на едва заметный проселок, который тянулся от той же чайной.
Швабра помчался следом. Лентя поднял страшенную пыль, но это не помогло. Швабра не отставал, а, наоборот, на сей раз настигал, приближался к Ленте. Мотоциклетный мотор у лейтенанта ревел во всю звериную силу: специально ставил Швабра мотор на ремонт.
Проселок вел к речке Переплюйке. Подскочив к Переплюйке – тут через речку шел узкий горбатый мосток, – Лентя увидел перед собой грузовую машину. Везла она доски. Сзади доски свисали с кузова. Когда машина вошла на мосток, задняя часть ее опустилась, и доски коснулись земли.
Вот неудача! Мосток занят, сзади свистящий Швабра, спасенья нет. Рыжий Лентя и махнул через доски. На полной скорости перелетел через кабину – водитель в кабине лишь ахнуть успел – и, словно лыжник с трамплина, пролетев по воздуху, приземлился опять на дорогу, уже по ту сторону Переплюйки.
Мотоциклет вильнул, но не свалился.
Пока машина прошла мосток, пока обогнал ее Швабра, мальчишка и выиграл важные очень минуты.
Сразу же за Переплюйкой начинался дремучий лес. Лентя немедля свернул на лесную дорогу, зная, что лес – это лучшее из укрытий. Помчался какими‑то тропками, сворачивал влево, вправо, путал следы, как заяц. Но Швабра не отставал. Было ясно: на этот раз лейтенант задался целью не упустить нарушителя.
Промчавшись еще километра два, рыжий Лентя вдруг понял, что выскакивает он именно к тому месту, к тем самым топям, в которых чуть не погиб во время войны дед Опенкин. Мелькнул знакомый осинник. Лентя вскрикнул и по шею влетел в трясину. Жижа обхватила со всех сторон.
– Спа‑а‑асите! – дико заголосил Лентя.
И был спасен.
Подоспевший Швабра вытащил его на сухое место. Мотоциклет, конечно, погиб.
Такое стечение обстоятельств обескуражило даже деда Опенкина.
– Ну и ну, – поражался старик, – другоразь, и то же самое болото. И я тонул, и он тонул. И я уцелел, и он уцелел. И меня лейтенант вытащил, и его лейтенант вытащил. Ну и ну… В меня, значит. Жить ему долго.
За нарушение водительских правил рыжий Лентя, а точнее – дед Опенкин, был оштрафован Шваброй на пять рублей. Сам же Швабра за спасение Ленти был награжден медалью «За спасение утопающих».
В отношении штрафа дед Опенкин поворчал, но смирился.
Однако, узнав про медаль, был возмущен до крайности.
– Хви! За что же медаль? Сам же, паршивец, загнал в болото!
Савельев смеялся:
– Закон есть закон. Спас – полагается.
Беда
Улучшились дела в колхозе. И вдруг снова налетела беда в Березки. Ударила каждому в двери. Пережили Березки нелегкий год. Обрушился он фантастическим недородом и поломал многие колхозные планы. Словно машина на скользкой дороге, забуксовали на год Березки.
Особенно плохо было с общественным стадом. Корма иссякли уже к январю. Коровы сгорали как свечки. Еле держались теперь на ногах. Приходилось их под брюхо ремнями подвешивать. Бык Маврикий еле ворочал шеей. Телят стали пускать под нож.
Нютка Сказкина плакала. Заслоняла телят, кричала:
– Не дам!
– Все равна же подохнут.
– Не дам! – голосила Нютка.
Но даже Савельев не пришел к ней на помощь.
И все же Березки в тот год устояли. Помогли им соседи, помогла и страна. Хотя неурожай коснулся тогда и очень многих ее районов.
Зато год новый, как бы стараясь извиниться за прошлый, повернулся к колхозу щедростью. Приметы во всем сходились к великому урожаю. Тепло наступило вовремя. Мороз ни в осень, ни в весну не побил посевы. И дожди выпадали, словно по графику.
Рожь стояла в полях такая, что даже дед Празуменщиков говорил, что подобной ржи в Березках в этом веке еще не было. А была такая чуть ли не семьдесят лет назад. Вот как давно.
Коровы отъелись на сочном весеннем лугу, снова начали набирать в весе и давать молоко. Бык Маврикий опять как прежний. Закудахтали немногие из оставшихся в живых куры. Заплескались в воде утки и гуси.
Особым каким‑то наливом полнилс