Паскаль Брюкнер
Горькая луна
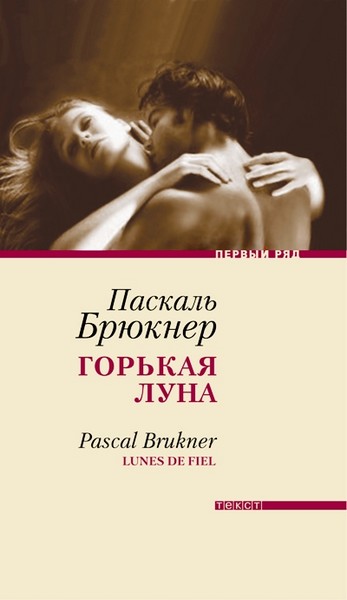
Паскаль Брюкнер
Горькая луна
Посвящается Бригитте
Следи за тем, чтобы не исчезнуть в личности
другого человека, мужчины или женщины.
Скотт Фицджеральд
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Очарование рождающихся влечений
Вечность, месье, началась для меня одним июльским вечером в 96‑м автобусе, который совершает маршрут между Монпарнасом и Порт‑де‑Лила. Это было четыре года назад. На перекрестке Одеон передо мной уселась девушка в черной юбке с воланами и в плотно обтягивающих лодыжки белых гольфах. Я сразу впился в нее взором. Меня в буквальном смысле ослепило это лицо, на которое я смотрел, затаив дыхание. Не знаю, что больше всего восхищало в ней: щеки, походившие на вымоченное в молоке тесто, или ресницы, ласкавшие зеленые глаза и одновременно служившие барьером для нескромных взглядов. Я ее не видел, я был ослеплен, загипнотизирован и ощущал только одно желание – познакомиться, только один страх – упустить. Должно быть, в восторгах своих я превысил меру, ибо незнакомка вскоре отвернулась с вымученной улыбкой, и я на секунду испугался, что она пересядет. Но эта сдержанность, показавшаяся мне изысканной, сделала ее для меня еще более дорогой.
Над автобусом не смейтесь: для удара молнии не существует особо предназначенных мест. Даже ящик на колесах может стать преддверием рая, если верить в случай. Я всегда предпочту ту, что встретил сам, женщине, которой меня представили друзья: ибо судьба, устроившая наш союз, будет и дальше, как мне кажется, таинственным образом питать его. Неожиданность остается единственной силой, способной вернуть жизни тепло.
Но меня ужасало, что я не могу найти ни единого слова и нарушить молчание, не могу использовать преимущества этого мимолетного свидания наедине. Как избежать вечно похожих первых слов, выказать себя одновременно деликатным, оригинальным, привлекательным, обольстительным? Это был важный вопрос, полагаю, именно его задавал Дьявол в последний вечер творения. На помощь мне пришел контролер: никогда не перестану благодарить Управление парижского транспорта за сотрудничество. Он требовал подтвердить наше право на проезд. Моя прекрасная соседка уверяла, будто обронила билет на пол. Мы оба склонились, чтобы отыскать среди мусора желтый картонный прямоугольник. Служащий уже готовился выписывать штрафную квитанцию. Девушка потупилась, красная от стыда: я понял, что она лжет. Это смятение поразило меня в самое сердце. Незаметно для всех я сунул ей в ладонь собственный билет, который только что предъявил. На какую‑то секунду она застыла от изумления, потом улыбнулась мне. Контролер двинулся дальше по салону. Я был спасен: у нас появилась своя история. Как вы понимаете, после этого происшествия я говорю «нет» бесплатному общественному транспорту. Мошенница моя поблагодарила меня пожатием руки, но совершила беспримерную глупость, вернув мне билет. Следившая за нами дама, толстая курица с перманентом, заметила наш маневр и окликнула контролера. Машина в этот момент остановилась у отеля «Сен‑Поль»: я успел только показать нос доносчице и выскочить на тротуар. Все было кончено, мне хотелось заплакать от ярости: я усиленно махал сообщнице рукой, однако вскоре автобус вырвал ее из поля моего зрения. Я бродил, как проклятый: Париж не такой большой город, но люди способны исчезать в нем, как в колодце. У меня осталось только одно желание: любой ценой увидеть ее вновь, хотя бы мне пришлось потратить на поиски целое лето. [1]
Человек, который рассказывал мне все это, сидел рядом со мной в одной из кают теплохода, находившегося в Средиземном море. Был поздний вечер. Сидя в кресле и укутав ноги пледом, он тревожно озирался, и его бегающий взгляд время от времени встречался с моим. У него было осунувшееся лицо, напрочь лишенное возраста, но все же сохранившее некоторые следы молодости. От всей его личности исходила какая‑то странная нервозность, скрытая тревога. В тот вечер я еще пытался сохранить дистанцию – ибо возненавидел Франца с первой же встречи, причем ненависть моя усиливалась пропорционально его растущему влиянию на меня – и был очень далек от того, чтобы проникнуть в душу этого порочного человека. Я просто слушал его правильно построенную речь, его скрипучий, словно немазаный засов, голос, звучавший в унисон меланхолическому урчанию электрочайника.
Однако позвольте мне уточнить обстоятельства нашего знакомства. Мне только что исполнилось тридцать лет, и я направлялся в Индию вместе с Беатрисой, моей подругой. Мы были счастливы, уверены, что плывем навстречу истине. Утром 28 декабря 1979 года мы покинули Марсель на борту «Трувы», турецкого парохода, который обеспечивает – через Неаполь, Венецию, Пирей – последний морской маршрут между Францией и Стамбулом. Имелись объективные причины, побуждавшие нас расстаться на несколько месяцев с ремеслом, которое потеряло всякий престиж: я был учителем литературы в одном парижском лицее, Беатриса – преподавателем итальянского языка. Но бежали мы, подчиняясь магнетическому притяжению Востока. В самом этом слове вздымалась тонкая золотая пыльца, блистала приводившая меня в восторг заря. Я трепетал от этого смутного великолепия, и моя любовь к этой далекой земле походила скорее на страсть. Я плыл в Азию навстречу священному хаосу, который Европа мне уже не могла предоставить, с целью отрешиться от всего, что не было для меня необходимым. Для этого путешествия, к которому мы готовились уже давно, я взял годичный отпуск в Министерстве образования и все лето проработал в одной страховой компании. Желание добраться до Индии посредством коротких этапов и убить время в начале долгого пути склонило наш выбор в пользу парохода, тем более что эта дешевая и убыточная линия была обречена на исчезновение.
Представьте себе атмосферу надежды, неопределенности большого круиза непосредственно после отплытия. Всякое, даже самое скромное судно перестает быть транспортным средством, отныне это состояние духа. Едва поднимешься по трапу, как представление о мире меняется – становишься гражданином особой республики, замкнутой в пространстве, чьи обитатели все до единого являются людьми праздными. Я сразу полюбил длинные коридоры, умевшие заглушать любой звук, их стойкий аромат, сочетавший запахи моря и горячей резины. В «Труве», старом норвежском линкоре, взятом на вооружение турками, не было ничего от мастодонта, и ее небольшая труба лежала на крестце плашмя, как перевернутый наперсток. Наша каюта, зажатая между двумя металлическими перегородками, представляла собой узкий платяной шкаф с откидными койками в два яруса и крохотным умывальником. «Какая прекрасная пещера, – сказала Беатриса, войдя внутрь, – ты возьмешь верхний саркофаг, а я нижний». Стакан для зубных щеток подрагивал на железной полочке умывальника, и вся наша каморка содрогалась от работающих двигателей. Жилище у нас было скромным, но перспектива улыбчивой любовной близости утешала нас за отсутствие роскоши и пространства. Кроме того, здесь был иллюминатор, а я всегда находил в нем особое очарование – очарование видеть все, когда тебя никто не видит. Это маленькая замочная скважина, в которую подглядываешь за тайнами моря: безопасная встреча один на один с соленым чудовищем, удачный розыгрыш враждебных водных стихий.
Необозримость нуждается в том, чтобы к ней приникали сквозь эту щелку, которая становится совсем трогательной, если имеются занавески, придающие каюте обличье кукольного домика. И за каждым таким слуховым окном – жилье, одушевленные существа, тысяча переплетенных судеб.
Кстати, в утро нашего расставания с Марселем погода стояла дивная, необыкновенная: солнце билось в борта, и в его огненных лучах наша облупленная посудина сверкала, словно кусок сахара. Я был счастлив, мы получили благословение света, иными словами, богов, и мне чудилось в этом доброе предзнаменование всей поездки. Мы с наслаждением вдыхали плотный ледяной воздух, похожий на шербет, напоенный ветром, который принес благоуханные сосновые ароматы. Вдали шелковую нить горизонта разрывали белые игрушки, другие корабли. Никогда я не испытывал такого блаженного, ни с чем не сравнимого спокойствия. Взволнованный чистыми чувствами, вглядываясь во французский берег, исчезающий в сверкающем пару, и опасаясь более всего, что это мне снится, я с трудом сдерживал возбуждение.
Этот первый день плавания из предстоящих нам пяти был необычен тем ощущением счастливой пустоты, которое он оставил во мне. Всем известно, что на борту корабля никогда ничего не происходит, но скука там отличается высшей степенью качества и становится равной эйфории. В атмосфере отплытия любая банальность, высказанная мной или Беатрисой, обретала значение талисмана. Эта одиссея обновляла нам душу, и мы вели пространные разговоры на длинных палубных долинах, никого не замечая, всецело поглощенные друг другом. Мы уже пять лет жили вместе, но это была наша первая эскапада: мы мало что испытали в реальности, зато много перенесли в сотнях прочитанных нами книг. Наша пара стала настоящей библиотекой, томики ин‑фолио заменяли нам детей и путешествия. И мы долго колебались, прежде чем предпринять это паломничество, грозившее перевернуть самые дорогие нам привычки. Беатриса обладала точеной англосаксонской красотой и, будучи моей ровесницей, сумела сохранить очарование подростка. Даже тело ее могло принадлежать и девочке, и женщине – ей дали бы не больше двадцати лет, если бы прелестное, большей частью серьезное лицо не обрамляли пышные волны густых волос. Я называл ее своей «нареченной», и мы шептали друг другу на ухо известные всем секреты, которые, однако же, не хотели делать общим достоянием.
За завтраком нас было немного, едва ли три десятка человек в панорамном ресторане, который занимал всю середину судна и мог вместить по меньшей мере двести; разместившаяся за четырьмя столиками группа сразу же ощутила взаимную симпатию. Во время круизов прием пищи становится большим развлечением: изучаешь сотрапезников с целью угадать, кто они такие, чем занимаются и чем можно будет заняться с ними. В этой замкнутой жизни незнакомцы обретают необыкновенную значимость, и в умах пассажиров бродит мысль о приятных знакомствах. Кроме неизбежных немцев и голландцев, которых выталкивает на дорогу процветание их стран, там были одна английская и две французские пары, несколько итальянцев и небольшая группа греческих и турецких студентов. Мне казалось, что я плыву на ковчеге, куда собралось каждой твари по паре, представляющих все прилегающие к Средиземному морю страны. Не зная, как вести беседу, и испробовав по очереди языки латинского происхождения, мы сошлись на том, чтобы признать английский общей речью общения. Очень немногие говорили на нем правильно – отсюда долгие паузы при выборе нужного слова и вызывавшие смех ошибки. Все мы ели и пили так, словно другой возможности у нас больше не будет до самого прибытия. Забыв о сдержанности, я полностью отдавался радостному чувству, что мы открываем друг друга, пусть лишь визуально, и думал, что, вероятно, уже завтра мы будем называть всех этих людей по имени.
Мы вышли из‑за стола, и Беатриса попросила меня пару минут подождать около двери, ведущей в дамскую туалетную комнату. Ее долго не было, и я неохотно вошел туда же. Она склонилась над плачущей девушкой, у которой щеки стали черными от потекшего макияжа.
– Что случилось?
– Обкурилась косячков, – ответила Беатриса.
Не сумев скрыть своих чувств, я пожал плечами.
Незнакомка зарыдала еще сильнее. Одета она была в джинсы и анорак с меховой подкладкой. За завтраком мы ее не видели. Слезливые жалобы привели меня в раздражение. На наши вопросы девица отвечала односложно, как если бы наше любопытство ей докучало, в невнятных словах ощущалась ярость от пребывания на борту и нетерпеливое желание покинуть судно. Она сказала нам, что ее зовут Ребекка. У нее была та стадия отупения, когда теряется всякая забота о внешних приличиях.
– Вы куда направляетесь? – произнесла она, с трудом ворочая языком.
– Сначала в Стамбул, затем в Индию и, возможно, в Таиланд.
– В Индию? Она же вышла из моды!
Я ничего не сказал в ответ, приписав это суждение наркотическому дурману.
– Я отведу тебя в твою каюту, – сказала ей Беатриса.
– Ты… ты славная… твои волосы мне напоминают медовый пирог на Рош а‑Шана.
– Пойдем на палубу, на воздухе тебе станет лучше.
Мне пришлось поддерживать ее, пока мы шли по коридору; в солнечных лучах на ее шее ярким огнем вспыхнула цепочка вместе с кулоном – два вытянутых пальца против сглаза. Она снова принялась молоть вздор, переходя от смеха к слезам, бормотала какие‑то фразы, от которых сама же и фыркала. Мне было стыдно, я боялся, как бы нас не увидели в ее обществе. Уловив мое недовольство, Беатриса мягко попросила меня оставить их вдвоем.
Когда она вернулась, я нелицеприятно высказался о том, как горько встретить в открытом море все тех же презренных отпрысков улицы де ла Юшет и бульвара Сен‑Мишель.
– Не говори так, Дидье, она хорошенькая и, кажется, очень несчастная.
– Ее несчастья меня не интересуют, а красота не поразила.
Инцидент был исчерпан серией поцелуев, и начался день – столь же спокойный и чарующий, как утро. Маленькая палуба, где мы разлеглись, чтобы почитать «Бхагавад‑гиту» (я) и роман Мирчи Элиаде (Беатриса), была настоящей террасой, чьи контуры четко выделялись на фоне неба и которую труба защищала от ветра. Подруга моя переворачивала страницы: только этот шелест вторил глухому плеску бьющихся о борт волн и утробному пыхтению моторов. Любые желания исчезали, мы нежились в тепле, пронизанные светом, который вновь и вновь вспыхивал яркими пятнами от носа до кормы на этом гигантском дворце из белой стали.
С заходом солнца, когда начал сгущаться ледяной мрак, мы насладились священным часом близости в нашем алькове. Я бы сразу заснул от избытка чувств, но Беатриса настояла, чтобы я пошел с ней на ужин. В сравнении с величавой безмятежностью внешнего мира большая столовая гудела, словно пчелиный улей, хотя была едва заполнена: создавалось впечатление, что укрывшийся в ее дрожащих стенах небольшой народец черпал из холодной враждебности моря сокровища веселья и взаимной приязни. За столом мы познакомились с единственным пассажиром‑индусом на борту – это был натурализовавшийся в Англии сикх, врач по профессии, который жил в Лондоне и плыл в Стамбул, чтобы принять участие в конгрессе по акупунктуре. Радж Тивари – так его звали – от души расхохотался, когда увидел меня с «Бхагавад‑гитой» под мышкой.
– В Индии, знаете ли, этого никто больше не читает. Кроме тех, кто страдает ностальгией.
– Но ведь это же основа вашей культуры?
– Не больше, чем Библия для вашей. И обратите внимание: боги очень плохо переносят эмиграцию в чужие страны. Кали, устрашающее божество в Калькутте, в Париже – всего‑навсего гипсовый идол.
– Дидье хочет затвориться в ашраме, – лукаво сказала Беатриса.
– И весь день пасти коров? Что за странная мысль, когда есть такая красивая женщина, как вы!
Мы все трое рассмеялись, и завязался разговор. Радж Тивари, одетый в твидовый костюм, изъяснялся на безупречном английском, и черты его лица отличались тем благородством, которое присуще многим взрослым индусам. Наш восторг перед Индией удивил его, и он трижды переспросил, почему бы нам не отправиться в Сингапур или Таиланд, страны чистые и современные. Эти оговорки привели меня в замешательство, но его любезные манеры, комплименты, которые он без конца расточал Беатрисе, побудили нас отправиться вместе с ним после ужина в бар первого класса, весь обшитый деревянными панелями теплого медового цвета, с толстой кожаной стойкой и белым роялем под чехлом. Мы пили редко, но тут благодаря превосходному качеству джина и бурбона радостно захмелели, причем из нас троих Беатриса выказала себя самой шумной и экспансивной. Наш новый приятель был в ударе и, чтобы посмешить ее, держал совершенно безумные речи.
– Перед тем как покинуть Индию, англичане, с целью навсегда приобщить ее к западному образу жизни, заполонили полуостров ультрасовременными курятниками. Прошедшие специальный отбор, владеющие двумя языками, получившие диплом лучших колледжей курицы обладали способностью нести уже готовые яйца – всмятку, в мешочек, вкрутую, – которые сразу попадали на стол колонизаторов. Зная, что представители семейства куриных маловосприимчивы к политической пропаганде, британские власти рассчитывали, что это поразительное достижение приведет к краху освободительного движения Ганди. Уже собирались создать птицу, несущую омлет: виляние задом под музыку регтайма позволяло взбивать желтки с белками, и избранные курицы прошли курс обучения чечетке. Но тут проповедь ненасилия проникла в сердца самих пернатых, которые объявили знаменитую забастовку против колониального завтрака, «bacon and eggs strike»[2]Объявленная в 1947 году независимость прозвучала похоронным звоном для этих воспитательных проектов: курам‑коллаборационисткам пришлось отказаться от английского языка и под страхом штрафных санкций вновь нести сырые яйца.
Эта история при всей ее нелепости и парочка ей подобных вызвали у нас взрыв веселья, чему весьма способствовал алкоголь. И после того как Тивари попросил у меня разрешения поцеловать Беатрису в щеку, мы простились с ним в наилучшем расположении духа. Попойка развлекла нас; я с величайшей нежностью уложил мою подругу и, обещав ей быстро вернуться, вышел на палубу, чтобы немного протрезветь. Холодный воздух обжигал мне ноздри, луна была полной, я смотрел на вибрирующий фосфоресцирующий след нашего судна, который, несмотря на темноту, освещал море позади нас, прежде чем раствориться во мраке. Молочное покрывало струилось по бортам и спасательным шлюпкам, легкий ветерок теребил веревочные снасти. Ноги сами понесли меня на верхние этажи корабля, где помимо бассейна, закрытого зимой, находился небольшой бар, обслуживавший также дискотеку. Я вошел туда, дав себе клятву, что задержусь всего на несколько минут. Там была дюжина мужчин – и девушка в облегающих черных атласных брюках, которая в одиночестве танцевала на дорожке. Я сел и стал смотреть на нее, любуясь ее напряженным горлом, оттопыренным задом, руками, бьющими воздух, словно пара крыльев. Ее крутящаяся фигура, воздушная быстрота в перемене поз создавали очень привлекательную картину. Что ей здесь делать? Она ни на кого не смотрела, скользила по полу с легкостью пушинки, словно бы возносилась вверх в куполе света – затем, внезапно прекратив крутиться, сошла с дорожки и уселась за стойкой. К своему удивлению, я узнал давешнюю девушку в слезах. И тут же направился к ней. Насколько она показалась мне бесцветной и смешной после завтрака, настолько вечером я нашел ее в высшей степени привлекательной. Она удлинила веки с помощью румян, подкрасила кармином скулы и спинку своего прямого носа, ее темные, зачесанные назад волосы придавали ей слегка восточный колорит.
– Как вы себя чувствуете после утреннего?
– А вам какое дело?
– Но… это же вы плакали в туалетной комнате, неужели не помните?
– Придумайте что‑нибудь получше, если хотите познакомиться с девушкой.
Эта грубость ошеломила меня, а когда я смущен, то меньше всего похож на человека, способного на быстрый ответ. Я с досадой отошел от нее. Она окликнула меня:
– Иди сюда, я тебя, конечно, узнала. Но я узнаю только тех, кого хочу.
В этой фразе я услышал лишь обращение на «ты»; однако, несмотря на свою фамильярность, говорила она с какой‑то печальной бравадой. Ее длинные миндалевидные глаза за барьером ресниц смотрели на меня невидящим взглядом, словно она делала прозрачным само мое существование.
– Во что вы играете?
– Я играю в то, чтобы вести игру.
Она захохотала. Это производило гротескное и вместе с тем тягостное впечатление.
– Пойдешь танцевать?
– О… о нет, я почти не танцую.
Я уже чувствовал себя до такой степени неловко, что умер бы от страха, если бы выставил себя напоказ рядом с ней; порой мне удается блистать, когда особых усилий от меня не требуется, но в местах общественного увеселения я всегда цепенею.
– Это меня не удивляет, ты напряжен, как скаут.
Она вновь рассмеялась, и на секунду ее удлиненные глаза чуть смягчили суровое выражение лица. В уме моем теснились тысячи банальных фраз, трафаретных вопросов. Она спросила, как меня зовут, и, похоже, мое имя ее разочаровало. Я перестал понимать, чего она хочет, и не находил ответных слов. Вероятно, мои жалкие потуги выглядели комичными.
– Дидье, скажи что‑нибудь забавное, развлеки меня.
Я оторопел от подобного амикошонства. Мне было неприятно, что я не могу поддержать разговор. Я нервничал, и к моим обычным страхам добавилась удручающая мысль, что у меня никогда ничего не получится с такого рода женщинами. Обычная болтовня превращалась в проверку сил. Я не пытался исправить положение: человек я робкий, и, когда судьба ко мне неблагосклонна, просто говорю «Мектуб»[3], тем самым смиряясь с неизбежным, не желая знать, что все может перевернуться, измениться. Наглость этой девки, ее резкие кульбиты раздражали меня. В данный момент она смотрела вдаль, совершенно забыв обо мне.
– Ты… ты дуешься, – сказал я, пытаясь в свою очередь перейти на «ты», вероятно, в смутной надежде как‑то отыграться.
Она пожала плечами.
Желая придумать хоть одну шутку, я спросил тогда, выделяя каждый слог:
– Тебе ней‑мет‑ся?
– Что ты хочешь сказать?
– Неймется? Это означает, что ты сердишься.
Она встала.
– Ты слишком забавен для меня, дорогуша, мне в бок вступило оттого, что я сгибалась надвое.
– Ты… ты поднимешься к себе?
– Да. Спокойной ночи. Оставляю вас в обществе вашей остроумной и пленительной личности.
Эти последние слова задели меня больше, чем все остальное. Не потому, что она восстановила обращение на «вы», иными словами, дистанцию, но, говоря о моем остроумии и моей личности, она безжалостно подчеркнула, насколько я лишен и того и другого. Каким же дураком я себя выставил! Однако «неймется» прекрасным образом существует в нашем языке, и не моя вина, что у молодого поколения столь ограничен запас слов. В тридцать лет поддаться на провокации девчонки, которая могла бы стать моей ученицей, тогда как любой прыщавый юнец поставил бы ее на место парой устойчивых выражений. Внезапно я осознал, что даже не спросил, куда она направляется, одна ли путешествует. Спать мне расхотелось, я заказал выпивку и провел целый час, пережевывая это происшествие. Возвращаясь в свою каюту, я был настолько погружен в размышления, что, вероятно, сбился с пути, ибо вскоре очутился там, где находились каюты первого класса. Эти длинные безлюдные коридоры с мерцающим освещением, прерываемая лишь отдаленными ударами склянок тишина, бегущие по стенам тени, вся эта ночь над всей этой зарождающейся жизнью странным образом подействовали на меня. Я наугад открыл одну из дверей и вышел на мостик: колючий холод, не видно ни зги. Внезапно за спиной моей послышалось нечто вроде всхлипа. Я обернулся, но никого не разглядел. Тот же звук послышался вновь: всматриваясь в темноту, я различил некое подобие человеческого силуэта. Кто‑то подстерегал меня. Я вздрогнул и решил вернуться вовнутрь, но тут предплечье мое стиснула сильная рука.
– Это вы Дидье?
Торжественный тон, низкий свистящий голос невероятно меня взволновали. Главное же, мощь этой руки! Я ждал агрессора: это был инвалид в кресле‑каталке. Прежде я его никогда не видел. Измученное лицо, редкие волосы. Он уставился на меня растерянным взглядом, и в темноте его глаза показались мне почти устрашающе огромными.
– Вы Дидье, не так ли? Берегитесь, берегитесь ее…
– О чем, о ком вы говорите?
Я с трудом справлялся с нахлынувшими чувствами. Мне очень хотелось уйти, но гранитная хватка этой руки держала меня, словно в тисках: казалось, тело отомстило за свою атрофию, неумеренно развив конечности. В запястьях, через сеть вздувшихся вен, струилась сила, способная сокрушить все, что ей сопротивлялось. Калека приблизил ко мне свою несчастную мертвенно‑бледную физиономию и стал визгливо выкрикивать:
– О ней, естественно, о Ребекке, о девушке, с которой вы только что повздорили. Не воспламеняйтесь от ее близости: она ставит ловушки всюду, где бывает. Посмотрите, что она сделала со мной, – для такого исхода хватило нескольких лет.
Приподняв шерстяной плед над коленями, он показал мне свои безжизненные, обвисшие ноги.
– Но… как вы узнали, что я ее видел, как вы узнали мое имя?
– Она только что рассказала мне о вашей встрече и описала вашу внешность. Я опознал вас сразу.
– Что вам нужно, в конце концов, отпустите меня, это смешно…
– Гораздо меньше, чем вы думаете. Вы замечали, месье, насколько женщин влечет к тем мужчинам, у которых есть достойная спутница? Красивая женщина рядом придает им несравненную ценность, даже если сами они уродливы или заурядны. Это и ощутила Ребекка, увидев вас с вашей подругой.
– А вы ей кто, смею спросить?
– Простите мою невежливость, я сейчас представлюсь, меня зовут Франц, я ее муж.
Отпустив мое предплечье, он пожал мне руку с неуместным, на мой взгляд, воодушевлением. Я дрожал: туманная ночь пронизала меня холодом до костей, а этот диалог в темноте казался мне верхом абсурда.
– Вы продрогли, не так ли? Вернемся.
Он развернул каталку, которой управлял вручную, и толкнул дверь, ведущую в коридор. Машинально я последовал за ним. Оказавшись внутри, он заговорил вновь:
– Дидье… вы позволите называть вас по имени? Дидье (он на секунду заколебался), что вы думаете о моей жене?
Я вздрогнул.
– Ну… я нахожу ее очень соблазнительной.
– Не правда ли? И как она прекрасно сложена!
– Разумеется.
– Ах вы, плут! Она вам нравится, вы пожирали ее жадным взглядом.
– Да нет же…
– Ну, давайте без ложной скромности, я могу рассердиться. Впрочем, я уверен, что мы вас интригуем. Да, да, не возражайте, я это чувствую. Вы знаете, кто такая Ребекка, вы совсем не знаете, кто она. Вам бы хотелось узнать о ней больше?
Не понимаю, почему смехотворность этого предложения не бросилась мне в глаза сразу. Должно быть, поздний час притупил мое восприятие. Сначала я отверг приглашение, ибо первым делом всегда говорю «нет», и сослался на то, что их частные дела меня не касаются. Вероятно, отказ мой прозвучал неубедительно.
– У вас такая милая манера говорить «нет», тогда как взглядом вы говорите «да». Видите ли, я едва с вами знаком, но мельчайшие особенности вашей личности показывают, что вы тот самый конфидент, которого я ждал несколько лет. И потом, у меня есть один жизненный принцип: нужно остерегаться тех, кто вас любит, ибо это ваши злейшие враги. Вот почему я полностью открываюсь только перед незнакомцами. Вы оказали мне внимание, это делает вам честь, поскольку у меня мало шансов растрогать вас историей, к которой вы не имеете отношения… или уже имеете?
– Не вижу какое.
– Не знаю, просто интуиция. Ну что, принимаете приглашение?
Я еще попытался возразить, затем, так и не придя к твердому решению, безвольно согласился. Почему не признаться, моему преподавательскому мозгу, напичканному литературной дрянью, польстила романическая сторона ситуации, и я последовал за Францем в его каюту – средних размеров, обшитую деревянной планкой, с двумя иллюминаторами. Хоть это был первый класс, ничто меня не поразило. На свету лицо паралитика напоминало свинцовое зеркало, некогда, возможно, и отражавшее радость жизни, но теперь затянутое безнадежным бельмом. Его бледно‑голубые глаза были двумя холодными и горькими лужицами.
– Разочарованы, не так ли? Даже каюты первого класса похожи на обыкновенную лавку! Убранство «Галери Лафайет», а вместо хорошего общества тупые северяне и рабочие‑иммигранты. Ладно, хватит ныть! Хотите чаю? Это дарджилинг.
Даржилинг: город, куда мы с Беатрисой мечтали поехать. Разве это не совпадение? Калека достал из чемодана чайник со спиралью, наполнил его водой и включил в розетку. Я уселся на постель. Беспокойные блестящие глаза Франца с живостью перебегали с одного объекта на другой. Изучающий взгляд человека, чья жена совсем недавно осадила меня, был мне в какой‑то мере неприятен. Словно желая ободрить меня, он сказал:
– Я живу здесь один, у Ребекки своя каюта, через три двери от моей. Таков был наш уговор.
Тут он начал приведенную выше исповедь и прервался, чтобы подать обжигающий и очень сладкий чай. Отхлебнув несколько глотков, он продолжил:
Три следующих вечера я ожидал в тот же час на остановке 96‑го у перекрестка Одеон. Тщетно. Не желая сдаваться, я решил разбить весь квартал на участки и прочесать их с пылким рвением ищейки. Все, чем я обладал, потеряло значение, значимой была лишь эта женщина, которой я не обладал. Моей единственной надеждой было то, что она работает или живет по периметру Одеона, где я сам в то время обитал. Времени мне вполне хватало, я завершал свое медицинское образование в сфере паразитологии и только что успешно сдал последние экзамены. Я обнюхал все бутики, танцклассы, курсы по обучению йоге и гончарному искусству, выходы из школ и лицеев, все места, где присутствие женщин выглядело наиболее вероятным. Так прошли две недели, и я был на грани отречения. Между делом я свел знакомство с девицей из парикмахерской на перекрестке Бюси, крупной кобылой с обесцвеченными рыжими волосами, которая не слишком мне нравилась, но заполняла мое одиночество, этакая груша для утоления жажды, временно исполняющая обязанности за неимением лучшего. Вечером я иногда заходил за ней – она работала до самого закрытия, – но никогда не видел ни одной из ее коллег.
Однажды, когда я пришел пораньше и стал расхаживать по тротуару, мне показалось, что из салона вышла пассажирка автобуса. Сначала я протер глаза, думая, будто это игра воображения. Но нет, это и в самом деле была она! Она мне обрадовалась, назвала свое имя, Ребекка, сообщила, что работает здесь, и предложила позвонить ей завтра. Вы поймете мою радость: я искал эту девушку везде, кроме того места, где мог ее найти; я ликовал и с трудом скрыл от рыжей свой восторг, который она приняла за проявление привязанности к ней.
Я ожидал восхода солнца в тревожном нетерпении и, едва миновали первые утренние часы, позвонил нежной, восхитительной Ребекке. Четыре звонка оказались тщетными: она еще не пришла, она вышла. В пятый раз я наконец поймал ее, и мы договорились встретиться вечером в восемь часов. Ровно в восемь она является, я пришел на десять минут раньше; она столь же красива и пленительна, как при первой встрече; мы обмениваемся банальными фразами, я пытаюсь оживить происшествие в автобусе, сердце у меня екает, мы пойдем сначала в кино, затем в ресторан? Но тут внезапно появляется, выплывает, рыжая дылда, коварно разыгрывает удивление и просит разрешения присесть. Я слишком поздно понимаю, что угодил в ловушку и что они сговорились за моей спиной наказать меня за преследование двух зайцев разом. Поначалу я отступаю под их насмешками, потом, загнанный в угол, предпринимаю ответную вылазку. Угадывая тайное соперничество и обоюдную ненависть под покровом ложного сообщничества, я начинаю играть на этом разладе, неустанно стравливаю их мелкими уколами. Хитрость моя удается, и вскоре, действуя заодно с Ребеккой, которая корчится от смеха, я перехожу в наступление на докучную девицу. Однако приличия должны быть соблюдены. Я приглашаю обеих поужинать в американском ресторане на Центральном рынке; разговор мне нужно поддерживать с обеими, но втихомолку я взываю лишь к одной, попутно решая ужасную проблему, как избавиться от надоедливой каланчи. Шутки мои множатся, я почти открыто насмехаюсь над рослой кобылицей, которая взбрыкивает при каждой выпущенной мною стреле. Чувствуя, что партия проиграна, она выговаривает мне за все эти глупости, но я не унимаюсь, желая окончательно вывести ее из себя, и с наслаждением слушаю, как она всхрапывает, стучит большими зубами, клацает языком, и звук такой, словно плетка хлестнула по крупу першерона.
Полночь застает нас на улицах Марэ, где мы гуляем, звоним в двери и прячемся за мусорными баками. Наконец привязавшаяся к нам телка отстает, выражает желание пойти спать; я мысленно аплодирую, но боюсь, как бы Ребекка не последовала ее примеру. Обменявшись обычными поцелуями, кляча наша берет такси; Ребекка переходит на другую сторону улицы, чтобы взять идущую в противоположном направлении машину, но едва лишь цербер сворачивает за угол, как она со смехом перебегает ко мне, берет под руку и предлагает продолжить пешую прогулку.
Эта ночь стала одной из самых прекрасных в моей жизни. Я сразу понял, что эта девушка стоит больше простой интрижки. В ней было столько обаяния, ребячливости, остроумия, что я спрашивал себя, согласно известной формуле, как мог кого‑то любить до нее. Все прежние казались набросками этой, ставшей их апофеозом. Я тогда выходил из двухлетней связи, которую прикончила скука наряду с рутиной. Я вновь обретал радость, неразрывно связанную с началом. Еще не узнав Ребекку, я уже любил в ней любовь, которую она внушит мне. Мог ли я льстить себя надеждой, что нашел дорогу к ее сердцу? С первых мгновений она превратилась для меня в одно из тех высших существ, которые ведут нас к крайним пределам, в то время как с другими, догадываемся мы, нам никогда не выйти из границ обыденности. Выглядела она безумной и ласковой, готовой на все, чтобы мне понравиться. Она блистала манерой отдаться, помещая себя вне моей досягаемости, что меня глубоко волновало. Эта тонко очерченная дистанция, которой я приписывал экстравагантные цели, обладала способностью пленять меня, одновременно внушая тревогу. Пусть так, я все равно старался рассмешить ее, выдумывая всякие каламбуры, неумеренно восхваляя самые невинные поступки, извлекая из банальности возможность бесконечного обновления. Истинные встречи выбрасывают нас из самих себя, вводят в состояние транса, постоянного творения. Я забавлял и изумлял ее, потому что забавлялся и изумлялся сам.
Вечер состоял из воркования, ухаживания, объятий, сладких и льстивых речей, предварительных ласк. Я узнал от Ребекки, что ей восемнадцать лет, на десять меньше, чем мне. Арабская еврейка, уроженка Северной Африки, она происходила из скромной семьи (отец ее держал лавку пряностей в Бельвиле), тогда как я, имея отдаленные германские корни, принадлежал к кругам средней буржуазии. Важность этих деталей станет вам понятной в свое время, если вы окажете мне честь выслушать меня вплоть до этого момента. Весь опыт Ребекки сводился к нескольким десяткам любовников (она начала половую жизнь в том возрасте, когда я прощался с последними плюшевыми игрушками), двум‑трем поездкам на Средний Восток и в Израиль, а также странному сплаву сексуальной зрелости и детского идеализма, составляющему метафизический багаж нынешних девочек‑подростков. Она хвасталась своими победами с наивной бравадой, в которой вызова было столько же, сколько извиняющихся ноток, и как бы желала сказать мне: прости, я еще не знала тебя.
С самого начала связь нашу освятили шутовские звезды: юмор являет собой наслаждение, которое оба пола готовы предоставить друг другу, соглашаясь на мгновение забыть все, что их разделяет. Подобно мне, она ценила ребяческие ляпы, вывернутые фразы, анаграммы, каламбуры, игривые перестановки слогов, знала все считалки, все детские песенки, умела показывать почти всех персонажей мультфильмов – в частности, изумительно подражала Тити и Толстяку‑Мине. Я восхищался девчоночьей свежестью ее речей и находил в ней поразительное разнообразие, страсть к жизни, волновавшую меня до самых глубин моего существа. Ничего у меня не оставалось, даже опыта, которым я превосходил ее просто в силу возраста. И <