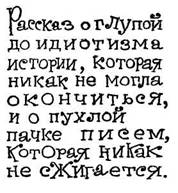
Его принесли под вечер. Почтальон дядя Костя, высокий и седой, словно профессор, вытащил из сумки голубой конверт и сказал:
– Геннадию Яковлевичу Рыкову.
Мать вытерла руки о фартук.
– Кому? Кому? – удивилась она и протянула ладонь.
– Э-э, нет, – сказал дядя Костя. – Тут написано «лично». – И он отдал мне голубой конверт.
Я никогда в жизни не получал писем, тем более с пометкой «лично». Я знал, от кого было это письмо. Я густо покраснел и сказал:
– А, это, наверно, Борька прислал. Они недавно уехали в Якутию.
Письмо было прочитано на сеновале при свете спичек. Я читал его всю ночь. Я метался по сену, бегал домой за спичками, краснел, бледнел, разговаривал вслух сам с собой и читал снова и снова.
Это было объяснение в любви на десяти страницах ученической тетради. Это было очень подробное объяснение. В нем описывалось все с самого начала: и как Катя увидела меня впервые, и как ей хотелось уехать со мной на край света, и как ей даже было приятно, когда я колол ее в спину булавкой. Далее подробно излагалось, за что я достоин любви.
Под утро я выучил объяснение наизусть. Это было тем более удивительно, что я обладал скверной памятью, а письмо изобиловало сложными причастными и деепричастными оборотами и было пересыпано знаками препинания.
И вот, когда я в последний раз, словно молитву, повторял Катино послание, перед тем как отойти ко сну, мне вдруг не понравилась одна фраза: «Когда ты вперивал в меня свои водянистые безбровые глазищи, сердце у меня сладко замирало, а по спине пробегали мурашки и мне хотелось…» Пусть даже это была шутка, но так презрительно отзываться о глазах и бровях любимого человека! Тем более что своими глазами я всегда гордился. Мне говорили, что у меня пристальный, волевой взгляд. Поэтому, когда я на следующее утро писал ответное объяснение (двадцать листов ученической тетради убористым почерком, с бесчисленным количеством причастных и деепричастных оборотов), я сделал такую приписку:
«P. S. Что касается моих глаз, то ты глубоко ошибаешься, миледи, девушкам очень нравятся мои глаза. Это у тебя кривые ноги. (Шучу.) Целую. Гена».
Неделя прошла в кошмаре. Я не мог ни есть, ни спать, ни заниматься. Я ходил и все повторял, повторял про себя Катино объяснение.
Через неделю пришел ответ. Катя почти целиком цитировала «Ромео и Джульетту» и только в самом конце приписала от себя:
«P. S. По поводу моих ног можешь справиться у своего друга Димы, он не один раз делал мне комплименты. И вообще, оказывается, ты злой. Мне всегда не нравилось, когда ты злишься, – становишься похожим на павлина. (Шучу.) Целую, Катя».
Это было уж слишком – справляться у соперника о ногах своей любимой девушки! Да еще «павлин»! Ну хорошо же! Я быстро переписал троечку цитат из «Отелло», вырезал из журнала стих «Тебе, любимая!» и уселся за составление постскриптума. Я написал Кате, что напрасно она задается. Если я ее полюбил, то это еще не значит, что она была самая лучшая в школе. Неправильное телосложение, лысеющий волос, безвкусица в одежде – вот далеко не полный перечень недостатков Ледяной принцессы.
Ответ пришел авиапочтой. В нем было всего одно какое-то формалистическое стихотворение о ночных мотыльках, а остальные семь страниц ученической тетради занимал постскриптум. Этот постскриптум вполне можно было назвать учебником по анатомии человека-урода – злого, грубого, кровожадного и тупого. Этим уродом был я. В конце стояло: «Целую. Катя. Ответ пиши авиапочтой».
Разумеется, я ответил авиапочтой. Ответил в полную меру своих сил и возможностей.
Далее наша переписка пошла очень оживленно. Постскриптумы совсем вытеснили первую часть, состоящую из цитат Шекспира и формалистических стихотворений. С удивлением мы убедились, что совсем не знаем друг друга. Оказывается, мы уродливы, глупы, некрасивы, жестоки, несправедливы. Наши письма становились все резче и короче. И наконец ночью почтальон дядя Костя принес мне телеграмму (первую в жизни). В телеграмме было только одно слово: «Ненавижу».
Утром я отпросился с урока и отправил ответную телеграмму: «Ненавижу квадрате», на что вечером получил ответ: «Ненавижу кубе».
Четвертая степень ненависти показалась мне недостаточно выражающей мои чувства. Я думал целый день и, наконец, сочинил: «Ненавижу до космоса». Телеграмма, видно, произвела нужное впечатление, так как после этого наступило молчание. Значит, все-таки последнее слово осталось за мной.
Сдавать экзамены в институт я поехал несколько удовлетворенным. Димка в институт решил поступать заочно. Он вдруг быстро пошел в гору. Сначала моего соперника назначили помощником бригадира тракторной бригады, затем бригадиром. Конечно, он решил не ломать себе карьеру. А может быть, Димка уже тогда что-то предчувствовал? В общем так или иначе, но Димка остался, а я уехал. А когда приехал, то было уже поздно. Димка женился на Кате.
Это было дико, нелепо, я не мог привыкнуть к этому целый год, а потом, конечно, привык. И чувствую себя сейчас вполне нормально. Вот только в ветреные ночи чудится мне странный зов. Словно зовет меня кто-то издалека-издалека, а кто – никак не пойму. Тогда меня захлестывает радость, тоска, хочется плакать и смеяться, бежать, ползти, пока хватит сил. И еще – вдруг я стал обладать странным свойством понимать природу, чувствовать всем своим существом трепет листка, движение сока под корой, взгляд пролетевшей мимо птицы. Может быть, это фокусы Ледяной принцессы? Говорят, ее дед, цыган, обладал гипнозом. Только к чему все это?
* * *
В воскресенье я проснулся от толчков.
– Вставай! Пора! – прошептал Кобзиков.
Было еще совсем рано.
Из окна тянуло мокрой травой, гремела кастрюлями Марья.
– Давай еще поспим…
Кобзиков испуганно замахал руками:
– И так проспали! Ты не понимаешь всей важности момента! Свидание – это тебе не сеялку изобретать!
Вслед за этим ветврач развил бурную деятельность. Он наглаживался, брился, мазался какими-то мазями и каждые пятнадцать минут бегал в магазин доказывать продавцам, что коньяк – не водка и его можно продавать круглосуточно.
Вскоре стали заметны результаты. Из заспанного, взлохмаченного парня ветврач превратился в сына фабриканта, собирающегося предпринять загородную прогулку. Моей же внешностью молодой денди остался недоволен.
– Ты похож на мумию египетского фараона, – сказал он. – Что за идиотский вихор? А рубашка? Мятая, как из пушки. А побрился! Бог ты мой! Как он побрился! Раз, два, три. Да тут у тебя целый лес остался! Иди-ка, брат, сюда.
Через полчаса я таращил глаза в зеркало и не узнавал себя. Какой прилизанный, благовоспитанный тип! Хоть сейчас снимай для обложки журнала «Здоровье» или «Работница»!
Кобзикову я тоже понравился.
– Ничего, – сказал он, вертя меня во все стороны. – Сойдешь. Вот только нос бы тебе надо подлинней.
– Я своим носом доволен. Пошли, что ли?
– Подожди. Еще кое-что надо…
Вацлав полез в чемодан и достал оттуда кусок белого атласа.
– Ты умеешь сворачивать чалму?
– Чалму? – удивился я. – На черта она тебе нужна?
– Каждый нормальный человек должен уметь сворачивать чалму.
– Хватит валять дурака! Пошли!
Но Кобзиков принялся наворачивать себе на голову материю.
– Ну, как?
– Мы пойдем или нет?
– Подожди. Теперь дай на тебя примерю.
Не успел я и рта раскрыть, как ветврач напялил мне чалму на голову.
– Здорово! Ну прямо араб! Бедуин княжеских кровей!
Тут в меня впервые закралось подозрение.
– Уж не должен ли я стать арабом?
– А что здесь такого? – пробормотал ветврач, пряча глаза. – Кто догадается?
– Мне не нравится эта затея.
Кобзиков заволновался:
– Мумия ты фараона! Это же гениально придумано. Ты будешь приманкой. Какая девушка устоит перед человеком, у которого друг араб? Покатаешься на лодке и исчезнешь. А уж остальное – дело мое. Всего какой-то час.
– Мне эта затея не нравится. Могут быть разные осложнения.
– Абсолютно никаких! Арабов в нашем городе нет – это я уже точно выяснил. Языка их тоже никто не знает. Чем ты рискуешь? Наоборот, даже приятно: будешь центром всеобщего внимания. И потом ты дал слово. Геннадий Рыков всегда держал слово. Только вот нос… Слушай, может, тебе картонный приделать? Что это за араб с курносым носом? Да, вот еще что… Ты потомок Чингисхана.
– Послушай, Кобзиков, – сказал я раздраженно. – Хватит. Хватит! Сыт по горло твоими выдумками. Хоть бы уж знал историю! Любому пятикласснику известно, что Чингисхан был монголом.
– Тогда ты будешь монголом.
– Монголы не носят чалму, – сказал я торжествующе. – Они носят лохматые шапки.
Кобзиков почесал затылок.
– Не-е… лохматая шапка не пойдет. В чалме вся сила. Знаешь что? Ты будешь обарабившимся монголом! Таким образом, ты и потомок Чингисхана, и в чалме! Одним выстрелом два зайца.
– Ты глуп… – начал я и вдруг увидел, что Ким давно проснулся и смотрит на нас широко раскрытыми глазами. На его лице было написано такое изумление, будто он увидел свою умершую бабушку.
– Идем на маскарад… – пробормотал я, сорвал чалму и выскочил на крыльцо.
Кобзиков последовал за мной.
День обещал быть жарким. Было всего девять часов, а солнце пекло так, что земля жгла через сандалеты. Даже «вооруженные силы» чувствовали себя неважно. Они забрались по горло в песок и раскрыли клюв.
Вацлав подошел к куче и стал задумчиво разглядывать петушиную голову.
– Суп из курятины на лоне природы, – сказал он. – Что может быть прекраснее на свете?
Быстро нагнувшись, ветврач выхватил из песка петуха, сунул ему под крыло голову и запихал в рюкзак.
– Пошли быстрей!
– Низкий поступок, – сказал я. – Поступок, не достойный друга потомка Чингисхана.
– Ладно! Потом на эту тему порассуждаем.
Встреча с совнархозовской дочкой произошла на берегу реки.
– Уф, – сказал Вацлав, вытирая пот. – Пришла все-таки, а ты говоришь, я не знаю женщин!
Девушка была высокая, сильная, в легком ситцевом платье, с белыми клипсами почти до плеч. Она так и впилась в меня глазами.
– Знакомьтесь, – сказал торжествующим голосом Кобзиков. – Моя хорошая знакомая Адель. Мой хороший знакомый…
– Мох… Моххамед, – пробормотал я и покраснел.
– И еще как-то. С продолжением, – сказал грек.
– Эль-Джунди…
– Вы знаете русский язык? – спросила Адель.
– Нет, нет, – поспешно заверил Вацлав. – Но он догадывается по движению губ.
– Какой смешной… – Адель бесцеремонно принялась меня разглядывать с ног до головы. – Чалма…
– Все арабы чалмы носят.
– Откуда он взялся?
– Приехал на «Сельмаш» перенимать опыт.
Мы сели в лодку и двинулись вверх по течению.
Адель тотчас же сняла платье, демонстрируя обтянутую купальником фигуру. У нее оказалась безукоризненная фигура. Совнархозовская дочка по-прежнему не спускала с меня глаз. Я чувствовал себя отвратительно.
Всю дорогу разговор вертелся вокруг моей особы, перебирались детали одежды, обсуждалось со всех сторон мое телосложение. Особенно волновал Адель мой курносый нос. Разве у арабов бывают такие носы? Вацлав выкручивался, как факир.
– Я без словаря читаю все ихние газеты, – нагло врал Кобзиков. – Я единственный человек в городе, который насквозь знает арабские обычаи. Секретарь горкома ко мне лично домой приходила, просила, чтобы я его сопровождал. Пришлось согласиться, хоть и времени у меня в обрез. Он парень ничего. Между прочим – потомок Чингисхана.
– Чингисхана?!
– Да… по прямой линии. Его предки переехали из Монголии в Аравию по семейным обстоятельствам и там обарабились.
– Чингисхана… – взгляд у Адели стал завороженным, как у ребенка, слушающего сказку. – Интересно, какой у него характер? Наверно, воинственный, как у прадеда?
– Не-е, он малый тихий.
Адель слушала, раскрыв рот. Мне было чертовски жарко в чалме. Капли пота скатывались по лбу и падали на колени совнархозовской дочки.
– Пардон, мадам, – бормотал я.
Кобзиков болтал, греб, но не спускал с меня испепеляющего взгляда: он боялся, как бы я не заговорил по-русски. Пахло сосновыми досками, горячим женским телом и тиной. Река против солнца блестела, как бок гигантской рыбы. С пролетавших мимо моторок на нас таращили глаза. Один так засмотрелся, что врезался в берег, и пассажиры попадали в воду.
Наконец я почувствовал, что, если мы сейчас не пристанем куда-нибудь, я начну дымиться. Сделав вид, что мне хочется пить, я полез на корму и шепнул Вацлаву:
– Не могу… давай кончай…
– Надо увезти ее подальше, мумия ты! – прошипел Вацлав.
– Сейчас сброшу чалму.
– Только попробуй! Утоплю!
Я вернулся на свое место.
– Этот Момехад, – сказал Кобзиков, – страшно привязался ко мне. Куда я – туда и он. Обещал подарить настоящего арабского скакуна.
– О! – сказала Адель.
– Да. Приглашает следующим летом к себе в Аравию с женой.
– Вы разве женаты?
– Собираюсь. Да вот никак не найду подходящей девушки.
– Что вы! У нас столько хороших девушек!
– Хорошие, да почти все женихов имеют.
– Жених – это еще не муж.
Я с ненавистью вслушивался в болтовню донжуана, проклиная ту минуту, когда согласился на эту идиотскую затею.
На правом берегу показался одинокий развесистый дуб. Под его кроной лежала густая черная тень. Легкий сквозняк колыхал метелки ковыля. Под дубом паслась коза. Даже издали было видно, что она блаженствует.
Мои нервы не выдержали.
– Быр-быр-быр, – сказал я, показывая на дуб.
Кобзиков сделал вид, что не слышит.
– Быр-быр-быр, – повторил я настойчиво.
– Что он говорит? – спросила Адель.
– Да так, восхищается русской природой.
– Быр-быр-быр – дуб, – сказал я угрожающе и ухватился за весло.
– Он, кажется, хочет пристать к дубу. Я начинаю понимать арабский язык.
– Нет. Он просит дать ему погрести. Пожалуйста, Мамыхед.
Тогда, ни слова не говоря, я выпрыгнул из лодки и поплыл к берегу.
– Эй, Махмутин! Ты куда? – испугался Вацлав. – Вернись!
На берегу я отвел Кобэикова за дерево и сказал:
– Закругляйся! Понял? Иначе я тебя разоблачу!
Донжуан захныкал:
– Прошу тебя! Еще немного! Еще чуточку! Может сорваться все дело. Ну посиди! Что тебе стоит? Сейчас петуха есть будем.
Я посмотрел на часы.
– Хорошо. Сорок минут.
– Ты настоящий друг!
Мы вышли из-за дерева. Адель расстелила на траве пеструю накидку и листала журнал.
– Мой друг Моххамед, – сказал Кобзиков развязно, – очень любит битую птицу. Сейчас он приготовит нам петуха по-арабски.
– Быр-быр-быр, – забормотал я недовольно.
– Лучше по-русски? Прекрасно! Тогда я мигом! А вы разжигайте костер! Зажарим петуха на вертеле.
Кобзиков побежал к лодке, где лежали наши вещи.
Адель полыхала в упор своими голубыми глазами. Я боялся, что она чего доброго еще влюбится в меня. Кобзиков тогда убьет.
– Вы ни одного слова по-русски не знаете? – спросила Адель.
– Нет, – сказал я.
К счастью, появился Кобзиков, очень взволнованный.
– Петуха украли!
– Что ты плетешь!
– Ей-богу. Рюкзак пустой. Обшарил всю лодку – никаких следов.
– Наверно, лиса.
Это было самое правдоподобное объяснение.
Под дубом расстелили одеяло, в центре расставили запасы.
Коньяк был холодный – недаром Кобзиков волочил его на веревке за лодкой.
Адель пила молча, не морщась. «Красивая самка, – думал я, неприязненно косясь на загорелые плечи своей соседки, – гипсовая статуя из городского парка. Все-таки Кобзиков отчаянный парень, если не боится на ней жениться».
Когда все было выпито и съедено, Вацлав и Адель ушли любоваться окрестностями. У меня все сильно плыло перед глазами. Река, лес, небо сделались какими-то смутными, почти нереальными и в то же время близкими, понятными. Я разделся до плавок и лег ничком на песок.
«Черт с ней, пусть думает что хочет, – решил я, почему-то считая себя обиженным. – В конце концов они будут целоваться, а я обязан сидеть в этой дурацкой чалме, как истукан».
Теперь, когда я вспоминаю этот день, мне кажется, что его никогда не было, что я прочитал про него давным-давно в какой-то книге и почти все успел забыть. Он остался в моей памяти большим солнечным пятном на желтом песке. Очевидно, я выпил слишком много, потому что, кроме ощущения горячего песка и прохладной воды, ничего не осталось. Кажется, приходил Кобзиков, что-то кричал, ругался, потом он приходил опять, тряс меня, поздравлял и громко смеялся.
– Ты теперь старший инженер совнархоза! – орал он мне в ухо…
Очнулся я от чьего-то прикосновения. Был уже вечер. Из леса выползли длинные тени и пили из реки. У моих ног горел костер. Дым от него уходил в лес, и казалось, что деревья стоят по колено в воде.
Возле меня сидела Катя и гладила мои волосы.
Она не видела, что я проснулся. Ледяная принцесса была в купальном костюме. Волосы, собранные в пушистый жгут, лежали на смуглой спине.
Катя смотрела куда-то поверх деревьев. Там на огромной высоте шел самолет. Он шел среди черного неба и россыпи звезд, освещенный солнцем, сияющий, как кусочек расплавленного золота. Сзади него хвостом кометы тянулась багровая полоса. Тьма гналась за самолетом, пожирая светящийся след, а он, смеясь, уходил все выше и выше, неся солнце на крыльях.
Лицо у Ледяной принцессы было печальное и умное. Я никогда не видел у женщин таких лиц… Они всегда играют.
– Ты откуда взялась?
Катя вздрогнула и обернулась ко мне.
– Помнишь, как у Гомера? Одиссея выбросили на берег волны, и его нашла Навсикая…
– Неправда. Он уехал к своей жене.
– Да, – сказала грустно Катя. – У тебя всегда по истории было «отлично».
Я потянулся к своему белью.
– Уходишь?
– Да.
– А может, покупаемся немного?..
– Нет.
Я молча оделся. Белье было влажным и мятым. Катя сидела ко мне спиной.
– До свидания! – сказал я.
– Подожди, Гена…
Она встала рядом и попыталась заглянуть мне в глаза. Она была слишком маленькой для этого. Ее лоб едва доставал до моего подбородка.
– Послушай, Гена… Давай завтра уедем с тобой… с утра. На целый день… далеко-далеко… Чтобы одни мы… понимаешь, одни мы. Солнце, песок, вода и мы… и чайки…
– В наших местах нет чаек.
– Я тебе напеку картошки… Знаешь, как я умею вкусно печь картошку!.. Мы будем купаться, и ты мне прочтешь какую-нибудь книжку. Ведь за целый день можно прочесть книжку? А потом мы пойдем босиком по полям, по росе… под луной. Завтра должна быть очень красивая луна…
– Да-да… Все это хорошо. Но что скажет твой муж?
У нее задрожали губы. Она быстро схватила платье и туфли и пошла по тропинке вдоль реки. Вскоре она растворилась в дыму.
Обиделась. А чего обижаться? Разве я сказал неправду? У нее действительно есть муж.