Мне хотелось увидеть ее опять. И я дождался – танцовщицы расступились. Блондинка шла в глубь сцены. Она вскинула лицо – внимательно посмотрела на меня. Нет, почудилось, конечно!
В кубрике вспыхнул свет.
Я скатился с подоконника и вытянулся по стойке «смирно» – в дверях стоял боцман. Я вытянулся так, как никогда перед ним не вытягивался.
Вернулся… Он был такой торжественный в «форме раз», во всем белом. А ресницы совсем на солнце выгорели в штате Флорида… Или кажется так – лицо стало коричневым. Чего он вернулся?
Пустошный сопел.
Потом двинулся прямо на меня. А смотрел так, будто я и не стоял здесь, – навылет. Я отступил в сторону и прищелкнул каблуками.
Боцман остановился у окна. Шея у него стала медленно багроветь – даже через загар было видно. Наверное, они там опять повернулись…
Я, не дожидаясь команды, расслабил колено – принял положение «вольно». И не утерпел – заглянул через его плечо.
Блондинка стояла у окна. Подняла руку, помахала… Нам, точно! Я отвернулся, стал поправлять на ближайшей койке идеально заправленную подушку.
– Вот дает!..
И неожиданно уткнулся в подушку носом.
– Чего пялиться‑то на обезьянник… – Боцман рванул шкерт, и тростниковая штора с шумом упала, закрыв окно. – На макак всяких… – Он шагнул к своей тумбочке, нагнулся и вышвырнул на середину комнаты полотерную щетку. – Чтоб… как яичный желток! Понятно?
Дверь за ним хлопнула с треском.
Щетка еще вертелась на скользком паркете, а у меня ныл затылок от боцманской затрещины. Я подождал, пока щетка перестанет вертеться. «Жанетта» оправляла такелаж!»
Ладно. Сел на койку и стал расшнуровывать ботинок.
Поставил его, стянул носок. Пошевелил пальцами. Песку‑то! С пляжа остался. Как ни вытряхивал, а остался… Майами‑бич пляж называется. По‑английски.
Подошел, вцепился в щетку скрюченными пальцами. И затанцевал.
Ладно, переживать не будем… «Нам сказали – мы пошли». Ничего особенного. Андрей, конечно, тоже смотрел. Но ему можно, а мне нельзя.
Щетка ударилась углом в плинтус и выскользнула из‑под ноги. Я остановился. Жара липла, как мокрая тельняшка. За окном приглушенно вякал джаз. Штора опущена. Ладно…
Что ладно‑то? Что?
Драить здесь палубу… Какую, к черту, палубу – натирать в номере паркет! Нашел работу… Боцманская его душа иначе не может – вот это мне «понятно»! «Чтоб как яичный желток!» Никакого желтка не получится – мастика ведь темная. Окно закрыл, чтобы не смотрел. Кому‑то можно, а мне нельзя. За нравственность мою опасается. Оберегает!
Я сплюнул на паркет и обутой ногой изо всех сил наподдал по щетке. Она отскочила от противоположной стены, ударила по ножке стола – рухнул мой небоскреб! Оберегает? Хорошо…
Сел на койку, надел ботинок, зашнуровал его, как футболист бутсу, – накрепко. Поднял штору и забрался на подоконник. Сначала смотрел – ничего не видел. От злости. Потом разглядел кое‑что. Та золотоволосая появилась снова. Но не на сцене, а в окне рядом, которое раньше было темным и вдруг осветилось. Она тоже меня заметила – опять помахала рукой.
Я ухмыльнулся. Тогда она отошла немного от окна – теперь я видел ее всю – и стала снимать платье.
У меня закружилась голова – как от первой сигареты. Я сполз с подоконника. Опустил штору. Добрался до койки и лег.
Устрица несчастная!
Было очень одиноко. Я лежал и думал: когда мы с отцом ходили в баню, он, конечно, знал, что через пять лет я тоже буду пить пиво. Все к черту перепуталось…
Я лежал долго, пока не услышал, что наши возвращаются. Наконец‑то! Встал, разгладил койку, подошел к столу и сложил в коробку домино.
Первым вошел Кравченко. Он сразу взялся за коробку, высыпал костяшки на стол и уселся.
– Федя, давай! Кто еще «в козла»? Сейчас мы вам адмиральского. – Обернулся ко мне: – Дневальный, подними штору – жарко!
Я стал смотреть в сторону.
– Савенков, не слышишь? О чем задумался?
– О положении негров! – сказал я, глядя на боцмана.
Он стоял в дверях – громадный, торжественный такой в «форме раз» и смотрел на меня внимательно, щуря свои ресницы.
– На место щетку‑то положи…
– Есть!
Щетка лежала под столом. Игроки в домино уже уселись. Нагнувшись, я увидел их ботинки, четыре пары. Вели они себя по‑разному: елозили от азарта, постукивали в такт джазу, шевелили носками, стояли спокойно. Елозили у Кравченко – вот уж не думал, что он такой заядлый! Беда, если проигрывает – сразу бросается доказывать: «У тебя, кроме дупля, три‑пять было? Было! Вот если бы ты ее поставил, тогда Феде пришлось бы проехать, я бы отдуплился двоечным, он бы поставил два – пусто, ты бы дал мне, я бы закрыл… мы бы выиграли!»
Я положил щетку под тумбочку боцмана. Огляделся незаметно. Номер теперь, когда все пришли, стал похож на кубрик, даже потеснел вроде. Каждый занимался своим делом. На меня никто не смотрел.
За столом царило напряженное молчание, только стучали костяшки домино. Потом смолкли.
– У тебя три‑один было? – начал закипать Кравченко. – Почему не ставил? Тогда бы…
– Смирно! – скомандовал я.
В дверях стоял командир.
– Газеты, товарищи, – сказал он и шагнул к столу.
«Вольно» так и не пришлось скомандовать – все сразу окружили капитан‑лейтенанта, и он стал раздавать газеты. Я стоял в стороне – дневальному не положено. Смотрел на них. Дед Мороз и дети… Месяц наших газет не видели!
– «Комсомолочку» мне, – окал Пустошный. – «Комсомолочку»!
– У тебя «Правда»? Потом поменяемся, понял?
– Я сам еще не читал, – говорил командир. – Сразу сюда.
– Может, вслух? – предложил я.
– Подожди ты! – сказал Андрей.
Интересная получилась политбеседа: пристроились кто куда, и – полная тишина. Только газеты шелестят… Командир сидел за столом, читал. Я боялся даже ходить по кубрику. Стоял, чтобы не мешать. Прислушивался к этой тишине: она, казалось, прибывала незаметно, как прилив, и была уже не просто тишиной: в ней пахло нагретым железом, качалась сырая мгла, палуба уходила из‑под ног, и было так здорово холодно! Еще с того дня, когда мы возвращались в базу в составе конвоя, когда я выбрался из Костиной койки и стал натягивать сапоги, а Гошин налил мне супу, я, сам толком не зная почему, не трогал то, что мне помнилось. Теперь понял, почему не трогал, – слишком дорого! Двое суток на корабле, из них почти сутки в море. «Усов не припалило», – сказал тогда боцман. Да что он понимает? Если бы не это в моей жизни, что тогда в ней было бы ценного?
– Кравченко, Женька! – сказал вдруг Федор.
– Я вижу, – негромко отозвался Кравченко.
Все повернули головы к нему.
– Деревня Сердюки освобождена, товарищ командир, – сказал боцман.
Капитан‑лейтенант кивнул, глядя на Кравченко.
– У вас кто там оставался?
– Мама, – сказал Кравченко. И добавил: – Из Мурманска можно было бы написать, узнать, как она.
А здесь нельзя… По всяким там военно‑цензурным соображениям. Я посмотрел на командира. Он что‑нибудь придумает. Он все может.
Но капитан‑лейтенант молчал.
Через полчаса, сдав дневальство, я тоже читал газеты, а потом, после отбоя, долго ворочался в темноте, сбив к ногам горячую простынь.
Сочинял письмо.
«Костя, привет!
Пишу тебе из Майами, штат Флорида. В переводе с испанского Флорида – значит «цветущая». Тропики, сам понимаешь… А Майами – это город‑курорт, вроде нашей Ялты. Видишь, куда нас завезли.
Сегодня узнали, что деревня Сердюки освобождена. У Женьки Кравченко там ведь старушка мать оставалась, а он даже написать отсюда не может, узнать, жива ли…
Но расскажу тебе, как здесь.
Сначала‑то мы пришли в другой порт – на границе с Канадой. Оттуда пульманом ехали через все Штаты в Майами.
Заниматься приходится много. Ведь вся аппаратура и оружие на катерах незнакомые. Американские. Боцман и тот потеет. Отметок нам не ставят, а то он бы двоек нахватал… (Это надо зачеркнуть.) Поселили нас пока – до получения катеров – в отеле. Тут, кроме нас, американские моряки живут. Неплохие в общем ребята. Сувениры любят. Но это ты знаешь, они и в Мурманске за сувенирами охотятся.
Ходим в «форме раз». Стирать приходится все время… Зато как дадим строем по улице – весь город из баров высыпает, честное слово! Понимаешь, в чем дело, – американские моряки вообще строем никогда не ходят. Ну, а нам смешно смотреть, как они, например, в столовую идут… Кучей.
Столовая в другом конце города, вот и представь себе: мы три раза в день туда и обратно, да с песнями. И «Варяга», и наши североморские… Мэр города просил наше командование объявить от него лично и от жителей Майами благодарность русским морякам за прекрасные песни! Представляешь? Не знаю вот, в карточку поощрений и взысканий внесут нам эту благодарность? …Здесь, в Майами, отличный пляж – Майами‑бич. Километра три шириной, а в длину и конца не видно. Песок белый и мелкий‑мелкий – ни за что из носков не вытряхнешь. И представь себе такую картинку: мол выдается в океан, а там на посту сидит матрос со свистком. Как увидит акулий плавник в воде, свистит что есть мочи, и все, кто купается, сразу – шурух на берег! Свисток – и ни одного человека в воде… Представляешь?
Акулы в общем есть.
Ну, пиво отличное. Бананы. Мы их с молоком едим – вкусно. Бананы сюда привозят с Кубы, морем. Она ведь тут недалеко. Командир говорит, что, когда получим катера и будем их испытывать, может, и в Карибское море пойдем.
А когда мы сюда приехали, вот что было. Два местных миллионера каких‑то поспорили… Наши войска стояли под Выборгом, а англичане – под Тобруком. Вот эти двое заключили пари – кто первый, наши или англичане, возьмет город. То есть Выборг первым будет освобожден или Тобрук? Ну, тот, который ставил на англичан, проиграл. А выигравший с радости закатил бал в городском парке – для русских моряков. Пиво, бутерброды, и на машинах с окрестных ферм фермерских дочек привезли – танцевать с нами.
Я танцевал с одной… Папа энд мама ее сидели на скамейке и улыбались, как жениху. (Все вычеркнуть!) Ну, в общем ничего особенно интересного.
Тут, в Майами, есть негритянский квартал. Шлагбаумом отгорожен. Командир предупредил нас: мы, мол, в гостях, и нечего соваться со своим уставом… В общем в негритянский квартал ходить не рекомендуется. Боцман, правда, ходил. Вместе с Федором. Федя мне и рассказал. А работают негры на самых унизительных местах – швейцарами например. Прислугой в общем.
У нас все по‑прежнему. Тебя ребята вспоминают часто. Это, правда, не Ливерпуль, но, как ты говорил, «все равно»…
Да, забыл совсем. В столовой у них и, говорят, даже на кораблях, на камбузах, бачковых нет. Берешь поднос – и к окнам на выдачу. А там коки стоят – человек десять, представляешь? И один тебе полстакана сока на поднос ставит, другой – хлеб, третий – суп, четвертый – котлету, пятый – картошку, а шестой – подливку к ней… последний – послеобеденную сигару!
И идешь с этим подносом к столу, садишься – рубаешь.
Но я тебе не об этом даже хотел написать. Понимаешь, ничего особенного… Ждем, когда будет команда получать катера, испытаем их, освоимся – и домой.
Видел недавно, как в порт входил американский авианосец – ну, громадина! Радаром солнце закрыл… Представляешь?
Радиотехнику нам Джон Рябинин объясняет. Имя Джон, а фамилия что ни на есть русская. Сын эмигранта. У него машина шикарная, белая вся…
Я при командире сейчас вроде как вестовой. Он меня всюду с собой берет. Были с ним недавно у американского начальства. У коммодора Прайса. Коммодор – это американский капитан первого ранга. Но, по‑моему, этот Прайс больше дипломат, чем моряк. По глазам видно. У него каждый взгляд отработан. Я заметил. Взглянет на меня – щелк: что‑то там выключится, и глаза пустые, будто не видят. На нашего атташе – щелк: вежливая улыбка, внимательность: на своего офицера – щелк: строгость или, бывает, ухмылка.
Но когда он смотрит на командира, у Прайса человеческие глаза. С удовольствием смотрит… И по‑настоящему, знаешь, внимательно. Заинтересованно.
Мне это понятно: видишь особенного человека – всегда хочется разгадать, что в нем за секрет. Правда ведь?..»
Днем бараки из гофрированного железа, в которых мы занимаемся, раскаляются так, что дышать нечем. В проеме двери виден бело‑желтый, залитый солнцем песок, бетонная лента шоссе, темно‑зеленый кустарник, а за ним – выпуклый бледно‑голубой горизонт – океан. Жара такая ослепляющая, что даже цвет кустарника перестаешь различать – сначала он кажется черным, потом просто режет глаза, и все. Но океан голубеет.
Если подольше посмотреть туда, в проем двери, то, обернувшись, в помещении с минуту ничего не видишь. Постепенно только начинаешь различать самые заметные части аппаратуры, но прежде всего – безукоризненно белую сорочку Джона Рябинина. Он тут акклиматизировался, ему жара нипочем. Не видел еще на лице Джона ни одной капельки пота. И сорочка, даже под мышками, у него всегда свежая.
К вечеру, после пяти, голубая полоса океана густеет, а перед дверью ложится недлинная тень от барака.
Занятия кончились, но мы с Федором решили еще покопаться в радиолокаторе – кое‑что неясно, и Джон остался.
Федор слушает старательно, я вижу: у него в таких случаях на скулах начинают ходить желваки. Потом говорит удовлетворенно:
– Ага, понял!
– Ага! – подхватывает Джон. – Прекрасно остроумная схема, не правда ли? О, американская техника это может, иес!
– Ес‑ес, – торопливо соглашается Федор. – А этот блок?
– Этот блок… – Джон начинает объяснять. – Тут создается магницкое поле…
– Магнитное, – поправляю я.
– Виноват… Магнитное поле.
Федор смотрит на меня: мол, поделикатнее надо.
– О! О! Нет проще репы – один блок в этом ящике, запасные части – вот. Пять минут – ол райт – все готово. Не правда ли? Американцы это могут отлично!
Все говорит, говорит… Когда он говорит, я в этих блоках и схемах ничего понять не могу, смотрю на него и думаю: «А сам‑то ты кто?»
Отсюда океанский прибой не виден. А он хорош!.. Длинные мощные гребни идут издалека. Если лечь на песок – кажется, они возникают на той стороне океана…
– Ты куда смотришь? – спрашивает Федор.
– Да я слушаю.
– Атлантический океан! – говорит Джон. – Это прекрасный океан. Флорида – прекрасное место на земле. Не правда ли? У меня есть отличная яхта…
Я смотрю на него и, когда глаза привыкают, вдруг спрашиваю:
– Хорошо вам здесь?
Федор ест меня глазами – ему бы все в схемах копаться.
Джон улыбается:
– О да. Очень. Мне повезло во всем. Америка – страна великолепных возможностей, и она никогда не была для меня мачехой. Я имею пост ведущего инженера на очень крупном заводе фирмы, отличная работа, не правда ли? – Он говорит сейчас почти без акцента, улыбаясь белозубо и спокойно.
Но я вдруг замечаю, что на лбу у него выступили мелкие бисеринки пота.
– Женаты? – зевнув, подключается Федор.
– О да. Я уверен, что лучшая жена…
Джон достает пачку сигарет, протягивает нам и щелкает зажигалкой.
Я тоже наклоняюсь прикурить, но Федор выдергивает сигарету у меня изо рта и деликатно объясняет Джону:
– Ему не надо привыкать, он не курит.
Джон кивает, затягивается. Улыбается. Потом, словно спохватившись, достает платок и тщательно вытирает лоб.
Мы выходим из барака. Сразу становится легче дышать.
У края шоссе стоит наш боцман. Ему что‑то объясняет американский моряк. Жестикулирует. Сошлись… Наверно, по габаритам друг друга заметили – оба высоченные, здоровые. Американец хохочет, толкает боцмана в плечо – тот как глыба.
Со всех сторон к ним подходят моряки, наши и американские. И мы с Федором. Джон пошел было к своей машине, но тоже заинтересовался.
Американец, не переставая, говорит, показывает боцману наручные часы.
– Да что ты мне «бест», «бест»! – Пустошный достает из кармана свои. – Наши‑то «Кировские» чем хуже?
– Позвольте перевести, – улыбается Джон. – Тони говорит, что гордится своими часами, которые лучшие в мире. Они заводятся сами, не боятся воды и пыли, а также имеют противоударное устройство.
Пока Джон переводит, этот самый Тони смотрит, не отрываясь, на боцмана, кивает и растягивает в добродушной ухмылке толстые губы. А боцман недоверчиво косится на Рябинина.
– Как это – противоударное? Бить их, значит, можно? А пусть вот на бетон‑то бросить попробует…
Джон переводит.
Тони теперь озирается, очень довольный, и опять что‑то быстро‑быстро говорит.
– Пожалуйста, – оборачивается Джон к боцману и чеканит с таким видом, будто делает невесть какое важное дело. – Тони согласен бросить свои часы на это бетонное шоссе с высоты роста… вашего общего. Но при условии, что вы тоже бросите свои… «Кировские».
Эх, боцман, боцман! Авралить на палубе – это да, а дипломат из тебя никудышный… И чего сунулся с часами? Нарвался теперь.
– Понятно, – говорит боцман. – Пусть он первый бросает.
Американец снимает с руки квадратные, плоские, небольшого размера часы в золотой оправе, держит их за ремешок в пальцах вытянутой руки.
Матросы, загомонив, расступаются. Молчание.
Тони разжимает пальцы, часы глухо звякают о бетон и…
Ничего не вижу – все разом сбиваются в кучу. Я пролезаю у кого‑то в ногах, поднимаюсь. Американец держит разбитые часы около уха, грустно мотает головой.
– Что? – спрашивает боцман.
– Да. Не уцелели. Не идут, – констатирует Джон. – Теперь вы.
– А ну, разойдись!..
Боцман все проделывает так же.
И опять все в кучу. На этот раз я и в ногах пролезть не могу.
Расступаются. Боцман показывает часы американцу.
– Понятно? Идут, послушай! Лучше слушай‑то… А то «бест», «бест»!.. Бестолочь ты, бросать надо уметь, понятно?
Тони внимательно слушает, потом хлопает себя ладонью по лбу и начинает хохотать… Хороший парень, честное слово!
– Ребята, – вдруг совершенно по‑русски спрашивает Джон, – а среди вас из Николаева есть кто‑нибудь? – И добавляет, тоже вроде бы по‑русски: – Мои родители имели там дело.
– Какое дело? – спрашивает кто‑то.
Мы идем прочь.
В кубрике Пустошный достает из кармана свои «Кировские», кладет их на стол, потом еще одни, точно такие же, но с треснутым стеклом.
– Не идут… Починить придется.
– Какие ты бросал? – спрашивает Федор.
– Родительские. Эти‑то я за шлюпочные гонки получил, их жалко.
Все смеются довольные, а я смотрю на Пустошного – дипломат!..
(Продолжение следует)
Роберт ХЕЙНЛЕЙН
ВЗРЫВ ВСЕГДА ВОЗМОЖЕН
Рисунок В. НИКОЛАЕВА
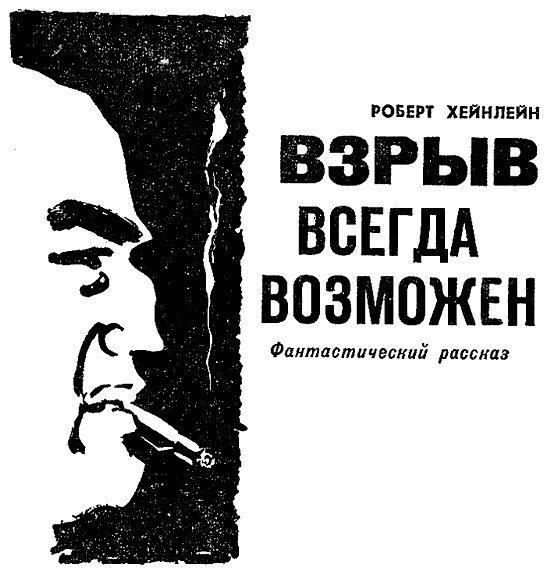
– Положите ключ на место!
Человек, к которому это относилось, медленно повернулся и взглянул на говорившего. Лица нельзя было разглядеть под странным шлемом тяжелого меднокадмиевого панциря.
– Какого черта, док?
Оба смотрели друг на друга, как два гладиатора, ожидающих только сигнала к бою. Голос первого прозвучал из‑под маски тоном выше и повелительнее:
– Вы меня слышали, Харпер? Положите немедленно ключ и отойдите от этого триггера! Эриксон!
Из дальнего угла контрольного зала к ним приблизилась третья фигура в панцире.
– В чем дело, док?
– Харпер отстранен от дежурства. Пошлите за его сменщиком! Дежурным инженером назначаетесь вы.
– Хорошо.
Судя по голосу и манерам, третий был флегматиком, казалось, что все происходящее его нисколько не касается. Инженер, которого подменил Эриксон, положил гаечный ключ на место.
– Слушаюсь, доктор Силард! Только и вы пошлите за своим сменщиком. Я потребую немедленного разбора дела!
Возмущенный Харпер круто повернулся и пошел к двери.
Силарду пришлось дожидаться сменщика минут двадцать. Это были неприятные минуты. Может быть, он поторопился. Возможно, он вообще напрасно решил, что Харпер не выдержал напряжения работы с самой опасной машиной в мире – комплексным атомным реактором. Но если он и ошибся, то ошибся в нужную сторону, ибо в этом деле заскоки недопустимы, потому что любой заскок может привести к атомному взрыву почти десяти тонн урана‑238, урана‑235 и плутония.
Силард попробовал представить, что тогда будет. Ему это не удалось. Он слышал, что мощность атомного взрыва урана превосходит мощность тринитротолуола в двадцать миллионов раз, но эта цифра ничего ему не говорила. Он пытался думать о реакторе, как о сотнях миллионов тонн самого сильного взрывчатого вещества или о тысячах Хиросим. И это тоже не имело смысла. Однажды он видел взрыв атомной бомбы – его пригласили для проверки психической реакции персонала ВВС. Но он не мог себе представить взрыв тысячи таких бомб – его разум отступал.
Возможно, инженерам‑атомникам это удается. Возможно, с их математическими способностями и ясным пониманием процессов, происходящих там, в недрах реактора, они живо представляют себе, какое непостижимо ужасающее чудовище заперто за щитом. И если это так, нет ничего удивительного, что их преследуют и страх и искушение…
Силард вздохнул. Эриксон оторвался от приборов линейного резонансного ускорителя.
– Что случилось, док?
– Ничего. Мне жаль, что пришлось отстранить Харпера.
Силард уловил подозрительный взгляд невозмутимого скандинава.
– А вы, часом, сами не того, док? Иногда и белые мыши, вроде вас, тоже взрываются…
– Я? Не думаю. Я боюсь этой штуковины. И был бы сумасшедшим, если бы не боялся.
– Я тоже, – сумрачно ответил Эриксон и опять занялся настройкой регулятора ускорителя.
Сам ускоритель находился за щитом ограждения: его сопло, извергая поток розогнанных до немыслимых скоростей элементарных частиц на бериллиевый стержень в центре самого реактора, исчезало за вторым щитом, расположенным между ускорителем и реактором. Под ударами этих частиц бериллий испускал нейтроны, которые разлетались во всех направлениях, пронизывая массу урана. Некоторые нейтроны, сталкиваясь с атомами урана, разбивали их и вызывали деление ядер. Осколки превращались в новые элементы: барий, ксенон, рубидий – в зависимости от того, как делилось ядро. Новые элементы – как правило, нестойкие изотопы – в процессе радиоактивного распада и цепной реакции, в свою очередь, делились на десятки других элементов.
Но если вторичное превращение элементов не представляло особой опасности, то первичное, когда раскалывались атомы урана, высвобождая энергию чудовищную и невообразимую, – это превращение было самым важным и самым рискованным.
Потому что уран, превращаясь под действием бомбардировки нейтронами в атомное топливо, при делении тоже испускал нейтроны, которые могли попасть в другие атомы урана и, в свою очередь, вызвать их деление. И если возникали благоприятные условия для цепной реакции, она могла выйти из‑под контроля и в какое‑то неуловимое мгновение, в одну микросекунду перерасти в атомный взрыв, перед которым атомная бомба показалась бы детской хлопушкой. Взрыв такой силы настолько превосходил все известное человечеству, что представить его было немыслимо, как нельзя представить собственную смерть. Этого можно бояться, но этого нельзя понять.
И тем не менее для того, чтобы промышленный атомный реактор работал, реакцию атомного распада необходимо было поддерживать на грани атомного взрыва. Бомбардировка ядер урана нейтронами бериллиевого стержня забирала гораздо больше энергии, чем ее высвобождалось при первичном делении. Поэтому для работы реактора было необходимо, чтобы каждый атом, расщепленный нейтронами бериллиевого стержня, в свою очередь, вызывал расщепление других атомов.
И в равной степени было необходимо, чтобы эта цепная реакция постоянно затухала. В противном случае вся масса урана взорвалась бы за такой ничтожно малый промежуток времени, что его невозможно было бы измерить никакими способами. Да и некому было бы измерять.
Инженеры‑атомники контролировали работу реактора с помощью «триггеров» – слово, под которым подразумевался линейный резонансный ускоритель, бериллиевый стержень, кадмиевые замедлители, контрольные приборы, распределительные щиты и источники энергии. Иначе говоря, инженеры могли понижать или повышать интенсивность нейтронного потока, уменьшая или увеличивая скорость реакции, могли с помощью кадмиевых замедлителей менять «эффективную массу» реактора и могли, сверяясь с показаниями приборов, определять, что реакция укрощена – вернее, была укрощена мгновение назад. Знать же о том, что происходит в реакторе сейчас, они не могли, потому что скорость элементарных частиц слишком велика. Инженеры походили на птиц, летящих хвостами вперед: они видели путь, который уже пролетели, но никогда не знали, где они находятся в данную секунду и что их ждет впереди.
И тем не менее инженер и только он один должен был обеспечивать высокую производительность реактора и одновременно следить за тем, чтобы цепная реакция не перешла критической точки и не превратилась во взрыв. А это было невозможно. Инженер не мог быть уверен и никогда не был до конца уверен, что все идет хорошо.
Он мог работать с полной отдачей, используя весь свой опыт и глубочайшие технические знания, чтобы свести роль случайности до математически допустимого минимума, однако слепые законы вероятности, которые, по‑видимому, господствуют в царстве элементарных частиц, могли в любой момент обратиться против него и обмануть все его самые тонкие расчеты.
И каждый инженер‑атомник это знал, Он знал, что ставит на карту не только свою жизнь, но и бесчисленные жизни. Потому что никто не мог толком предугадать, во что выльется такой взрыв. Наиболее консервативно настроенные ученые считали, что взрыв реактора не только уничтожит завод со всем его персоналом, но заодно поднимет на воздух ближайший многолюдный и весьма оживленный железнодорожный узел на линии Лос‑Анжелос – Оклахома и зашвырнет его миль на сто к северу.
Официальная, более оптимистическая точка зрения, согласно которой и было получено разрешение на установку промышленного реактора, основывалась на математических выкладках Комиссии по атомной энергии, предусматривавших, что масса урана дезинтегрируется на молекулярном уровне, – таким образом, процесс локализуется прежде, чем захватит всю массу и приведет к взрыву.
Однако инженеры‑атомники в большинстве своем не очень‑то верили в официальную теорию. Они относились к теоретическим предсказаниям именно так, как они того заслуживали, то есть не доверяли им ни на грош, пока эти теории не подтверждены опытом.
Но далее с официальной точки зрения инженер‑атомник во время дежурства держал в своих руках не только свою жизнь, но и жизни многих других людей, а скольких – об этом лучше не думать! Ни один рулевой, ни один генерал, ни один хирург никогда еще не нес такого бремени повседневной постоянной ответственности за жизнь своих собратьев, какую взваливали на себя инженеры каждый раз, когда заступали на дежурство, каждый раз, когда прикасались к регуляторам настройки или считывали показания приборов.
Поэтому инженеры‑атомники должны были обладать не только острым умом, знаниями и опытом, но также иметь соответствующий характер и неослабевающее чувство ответственности перед обществом. Для этой работы отбирались люди чуткие, интеллигентные, которые могли до конца осознать всю значительность доверенного им дела, – другие здесь не годились. Но бремя постоянной ответственности было слишком тяжелым для интеллигентных, чутких людей.
Поневоле возникала психологическая неустойчивость. И помешательства становились профессиональным заболеванием.
* * *
Доктор Каммингс, наконец, появился, застегивая на ходу пряжки защитного панциря, непроницаемого для радиации.
– Что произошло? – спросил он Силарда.
– Пришлось отстранить Харпера.
– Так я и думал. Я его встретил на выходе. Он был зол как черт, и так на меня зыркнул…
– Представляю. Он требует немедленного разбора. Поэтому и пришлось послать за вами.
Каммингс кивнул. Потом, мотнув головой в сторону инженера, безликой фигуры в панцире, спросил:
– Кого мне сегодня опекать?
– Эриксона.
– Ну что ж, неплохо. Квадратноголовые не сходит с ума, не так ли, Густав?
Эриксон на мгновение поднял голову, буркнул: «Это уж ваше дело», – и снова погрузился в свои вычисления.
– Похоже, психиатры не пользуются здесь особой популярностью? – проговорил Каммингс, обращаясь к Силарду. – Ну ладно. Смена принята, сэр.
– Смена сдана, сэр.
Силард прошел через зигзагообразный коридор между щитами, окружающими контрольный зал. В раздевалке за последним щитом он вылез из своего похожего на жесткий скафандр панциря, поставил его в нишу и вошел в лифт. Кабина лифта высадила его глубоко внизу – на площадке пневматической подземной дороги. Он отыскал пустую капсулу, сел в нее, завинтил герметическую дверцу и откинулся на сиденье, чтобы резкое ускорение подействовало не так сильно.
Пять минут спустя он уже стучал в дверь кабинета генерал‑директора, в двадцати милях от реактора.