Выбирая для очередного привала это укрытие, Самусев руководствовался двумя соображениями. Прежде всего надо было вновь сориентироваться в обстановке – группа приблизилась к густонаселенным местам. Кроме того, следовало дать людям хоть короткую передышку. Измотанные многокилометровыми ночными переходами, недоеданием, беспрерывным нервным напряжением, бойцы буквально валились с ног.
Отдых не сулил быть особенно сытным: арбузы, варенная на жарком пламени сухого бурьяна кукуруза, по паре ломтей хлеба на брата да по кусочку сала размером в спичечный коробок – вот и весь дневной рацион. Но был у старшего лейтенанта один план, осуществление которого позволило бы отдохнуть по‑настоящему и точно сориентироваться.
Володя Заря, уроженец Ставрополья, бывал здесь у родственников. Правда, достаточно давно. Однако связь со станичниками во многом могла бы упростить и обезопасить фуражировку. Когда Заря в первый раз увидел переброшенный через овраг мостик, он как будто признал эти места. И утверждал, что совсем неподалеку находится хутор, где жила его бабка.
– Что ж, – сказал Самусев, – тебе и карты в руки. Возьми Зою да еще человека три и отправляйся.
Ближе к вечеру нанесло тучи, стал накрапывать дождь. Поначалу редкий, словно нерешительный, он постепенно набирал силу. К тому времени, когда Володя, я и трое бойцов прибрели к хуторскому лугу, дождь сыпал безостановочно.
Резкие порывы ветра размалывали капли в водяную пыль. За такой завесой уже в трех шагах ничего не было видно. Во всяком случае, мальчишка‑пастушонок, прикрывший голову и плечи вдвое сложенным кулем, не замечал пеня, пока я не подошла почти вплотную.
Поговорили. Выяснилось, что с утра фашистов на хуторе не было, да и вообще они здесь не задерживаются – «бои тут были дюже сильные, уси хаты скрозь покорябаны, та йисты нема чего».
А потом произошло неожиданное.
Заря, поначалу издалека наблюдавший за встречей, подошел ближе. Он узнал в пастушонке Петьку Шкодаря, жившего через три хаты от дома его бабки. Мальчонка тоже вспомнил парня, фотографию которого в парадной форме, с орденом Красной Звезды и теперь часто показывала соседям бабка Уля. Но теперь этот человек был в немецком мундире!
Стиснув зубы так, что на посиневших от холода скулах явственно проступила россыпь веснушек, Петька подхватил кнут и, несколько раз изо всех сил перетянув ближайшую корову, не отвечая на оклики, кинулся бежать на хутор.
Всерьез расстроенный Заря только руками развел:
– Тьфу ты, напасть! Пропала разведка. С утра многое могло измениться, а придется вслепую на хутор топать.
– А стоит ли, Володя?.
– Конечно, не стоит. Только как быть? Обстановку не разведали. Насчет харча тоже непонятно. А потом, скажу я тебе, за бабку боязно. Этот Шкодарь на весь хутор меня ославит, ежели не расшифруюсь теперь – житья старухе не видать. В общем пошли, деваться некуда.
Прогноз, сделанный старшим сержантом, был достаточно точным. Когда мы подошли к калитке, подвешенной на самодельных, вырезанных из сыромятного ремня петлях, у тына уже толпилась кучка оживленно «балакающих» соседок. Ни дождь, ни холодный ветер не помешали им терпеливо дожидаться на перекрестке внука всем известной кумы, а взгляды их были настолько красноречивы, что, проходя сквозь их строй, Володя непроизвольно поежился.
Ульяна Андреевна встретила нас на пороге. В руках у сухонькой, маленькой старушки была большая, тяжелая кочерга, взятая как ружье, наизготовку.
– А ну, геть витсиля! Ишь, паскудник! Явился, тай шалашовку с собой волоче. Гоните его, люди добрые! – И Ульяна Андреевна, вскинув кочережку, пошла врукопашную.
При всей комичности ситуации мне с Зарей было в ту минуту не до смеха. Как унять разбушевавшуюся бабку? А тут еще соседки, собравшиеся за плетнем, вот‑вот кинутся ей на подмогу.
Нет, я не думаю, чтобы все женское население хутора отличалось такой уж безудержной храбростью и было готово встретить с оружием, пусть даже «печным», любого представителя оккупантов. Будь на месте Зари другой «гитлеровский» солдат или, допустим, русский, но незнакомый полицай, реакция, наверное, была бы куда менее воинственной.
Но если любой другой человек в чужой форме был бы для улицы таинственным, непонятным и поэтому по‑настоящему опасным, то в «Вовке Зареныше», которого большинство женщин знало еще в детстве, никто не мог признать «полноценного» фашиста. Это был хоть и вызывавший общее возмущение предатель, но в то, же время в какой‑то степени свой и оттого не такой уж страшный.
Трудно сказать, чем бы кончилась вся эта глупая неразбериха, если бы мне не пришла в голову простая мысль. Выхватив из‑за пазухи свою смятую, с алой звездой пилотку, я кинулась к Ульяне Андреевне, протягивая эту пилотку как документ, как секретный мандат советского разведчика.
– Вот! Смотрите!.
Хотя в ту пору каждый вышедший за околицу мог без труда обзавестись какой угодно формой, а зачастую и оружием обеих армий, это подействовало. То ли мои уверенность и искренность сыграли решающую роль, то ли просто в любой ситуации большинству людей свойственно охотнее верить в хорошее, чем в плохое, но пилотка‑удостоверение как‑то сразу погасила разбушевавшиеся страсти.
Ульяна Андреевна выронила кочергу и, опустившись на ступеньки, зашлась в тихом старушечьем плаче. Соседки, еще не очень уяснившие ситуацию, но в немалой мере умиротворенные, отошли от плетня, о чем‑то переговариваясь.
Вошли в хату. Володя, уже несколько пришедший в себя, – к чему, к чему, а к такому он не был подготовлен, – снял немецкий мундир, остался в одной рубахе. Я, наспех накинув сухое платье хозяйки, пристроилась у печи, выгоняя из настывшего тела озноб.
В этот момент за дверью раздалось хрипловатое, громкое:
– Чи можно к вам, Ульяна Андреевна?
– Входи, входи, Мефодьич, – откликнулась бабка и, успокаивая, повернулась к Заре: – Це Трофим Мефодьич, наш бригадир.
В хату, отряхивая с пышной раздвоенной бороды капли дождя, вошел пожилой, но крепкий, как колода, казачина.
Если бы не пустой рукав старенького чекменя, булавкой подколотый к правому плечу, его, наверное, и сейчас признала бы годным к строевой самая придирчивая медкомиссия. В бороде, в брюнетистой шевелюре ни одного седого волоса, зубы ровны, белы как рафинад, под уверенной поступью поскрипывают, гнутся половицы. Только густая сеть морщин, избороздивших кирпичное от степного загара лицо, да голос выдавали немало пожившего человека.
Степенно поздоровавшись, он прошел к столу, опустился на лавку.
– С гостями вас, Ульяна Андреевна. Чи сдалека будут?
– Да так, по соседству наведались… – не очень любезно ответил Заря, настороженно поглядывая на пришельца.
– А куда збираетесь?
– Про кудыкину гору не слыхивал, батя? – с язвинкой в голосе полюбопытствовал Заря.
Трофим Мефодьевич, видимо, рассердился, резко поднялся. Добродушно‑хитроватое его лицо отяжелело, речь потеряла украинскую певучесть, стала рубленой.
– Дурак ты, парень. Перед кем юлишь? Мне седьмой десяток идет. Три войны прошел. Кавалер и «георгия» и Красного Знамени. Понял? Такого, как ты, хитреца, насквозь вижу. Насчет дороги разведать пришел, так время не переводи, говори прямо. А то не ровен час… Лучше меня никто тебе дислокацию не нарисует. – И снова сел, левой рукой вытягивая из кармана шаровар длиннейший кисет.
Трофим Мефодьевич действительно оказался для нас сущим кладом. Единственный в хуторе владелец радиоприемника, детекторного, не нуждавшегося ни в электросети, ни в батареях, он регулярно слушал сводки Совинформбюро, прекрасно представлял себе положение на этом до последнего хуторка известном ему районе Северного Кавказа.
– Двигаться надо на Кизляр, через песчаные степи. Много вас? – твердо сказал Трофим Мефодьевич.
– Да так, поменьше роты, побольше взвода, – ответила я, не обращая внимания на укоризненный взгляд Зари. Я окончательно прониклась доверием к Трофиму Мефодьевичу и не считала нужным скрываться.
– Вон оно что… – Старик на мгновенье задумался. – Тогда так. – Сдвинув в сторону миски и стаканы, уже приготовленные Ульяной Андреевной, он острым концом кресала прочертил на столе извилистую линию. – Смотри. Вот хутор. Здесь река. Не знаю, как по карте, а казаки ее Солоницей зовут. Мелкая, к осени ее вброд перейти можно. Водой здесь запасетесь. От Солоницы прямо на восток держать надо. Переход тяжелый, ни колодцев, ни озер, но и немцев там не должно быть. Суток за четверо пеши до калмыцкой степи доберетесь. Запомнил?
– Так точно, – как старшему по званию, ответил Заря.
– Це дило, – враз надевая личину степенного хуторянина, закончил деловой разговор бригадир. И по‑хозяйски обратился к Ульяне Андреевне, хлопотавшей у потрескивающей кизяками печи: – Мы вже побалакали, а шось «дымки» не видать. Тай на яешню я б тоже остався.
Впрочем, «погостевать» как положено ни нам, ни Трофиму Мефодьевичу не пришлось. Стрелки часов, за которыми я следила, напоминали и о неблизкой дороге, и о мокнущих под дождем трех бойцах охранения, и об отряде, где с нетерпением ожидали вестей.
Мужчины опрокинули по стаканчику самогона, закусили яичницей с салом, картошкой, кислым молоком. Трофим Мефодьевич не прочь был и продолжить, но Заря, почувствовав, как разом ударил в голову хмель – сказывалась трехдневная голодовка, – решительно поднялся.
Ульяна Андреевна рассердилась:
– А я як же?
– Баба Уля, – укоризненно начал Заря. – Я ж солдат, мое место…
– Де тоби место, я и сама знаю. Тики как мени людям в очи глядеть? Мени от тебя одно треба, Щоб знали сусиды, що не який ты не германець. По хатам ходить та кажному доказувать я не можу.
– Ладно, баба Уля, что‑нибудь мы придумаем, – поспешил утешить старушку Заря, не очень, разумеется, веря в то, что говорит всерьез. Однако судьбе вольно было распорядиться иначе…
Трофим Мефодьевич, опрокинувший перед уходом еще одну чарку, пошел нас проводить. Видимо, «дымка» все же подействовала, потому что старый казак по дороге очень уж разговорился. Он рассказал о том, что в бригаде успели припрятать и посевное зерно, и горючее для сева яровых, и даже трактор, оставшийся на стане, «бабий батальон МТС» успел загнать на старый ток и тщательно укрыть соломой.
Потом попрощались. И, расставаясь, совсем не думали, что новая встреча состоится через несколько часов.
В отряд вернулись перед рассветом – в темноте сбились с пути и изрядно проплутали по степи. Дождь перестал. Хлюпая сапогами по раскисшей земле, поминутно оскальзываясь, подходили мы к месту стоянки. Еще издали, за несколько сот метров, услыхали натужное, захлебывающееся гудение автомобильного мотора. Стало ясно, что произошло нечто непредвиденное.
Маскируя место стоянки, Самусев завел тяжелый «даймлер» на дно ложбины. Но усилившийся дождь погнал по склонам тысячи мелких ручейков. Машина оказалась в ловушке. Спохватились поздно. Задний мост почти по диффер влип в размягшую почву.
Полночи под проливным дождем боролись за машину. В иную погоду или будь у нас трос, пятьдесят человек без особых усилий вызволили бы застрявший грузовик. Но сейчас сапоги скользили по грязи, и «даймлер» никак не желал поддаваться. Только побросав под колеса вороха ореховых прутьев, шинели, плащи, машину все же вытащили из глиняной западни. Но подняться по склону она не могла, юзила, буксуя, скатывалась назад, поминутно угрожая покалечить подталкивающих.
А самое скверное было то, что на первой скорости выжгли почти все горючее – оставалось не больше четверти бака. Бочка же была пуста еще со вчерашнего дня.
Выслушав доклад Зари, Самусев немного успокоился. Обстановка благоприятствовала, можно было не спешить. «Чумазая команда», раздевшись, выкручивала обмундирование, прыгала, стараясь согреться. Нечипоренко и Самусев, не так продрогшие, поочередно сменялись у руля, каждый надеялся, что именно ему повезет. Заря примостился на подножке.
– Ну, и как думаешь быть, лейтенант? – задумчиво спросил Самусев, разминая пальцами затекшие от напряжения плечи. – Бросать грузовик, идти пешком? Далековато.
– Н‑да, сотни две верст… Без машины плохо. Вообще‑то часа через три подсохнуть должно. На небе, видишь, ни облачка. Только на оставшемся бензине мы далеко не уедем. А что у нас есть? Полфляги спирта.
– Товарищ старший лейтенант, – встрепенулся Заря, – так горючего я вам хоть бочку доставлю!
– Родишь? – неприветливо отозвался Нечипоренко, – Шутник ты, старший сержант, а нам сейчас не до трепа.
Но обрадованный неожиданной идеей Володя даже не обиделся за несправедливый упрек.
– Да нет же, я на полном серьезе. У нас на хуторе припрятали запас колхозники, поделятся. Вот только…
– Что только? – нетерпеливо перебил Самусев, еще не веря в подобную удачу.
– Я вам не рассказал, как меня на хуторе встретили. Ну, постеснялся, что ли. Мефодьич, конечно, свой человек, но не он один, там хозяйничает. А бабы… бабы – они другое дело. Очень уж колхозницы за отступление обижаются.
– Обижаются, говоришь? – задумчиво повторил Самусев. И резко, всем телом повернулся к Нечипоренко, – Слушай меня, Жора. А что, если…
Несколько часов спустя «даймлер» на последних литрах горючего добрался до хуторского луга, остановился у большой скирды. Две хорошо вооруженные группы бойцов обошли Подгорье – так назывался хутор – с флангов, с обеих сторон перекрыли дорогу, проходившую через хутор. А «парадный взвод», кое‑как приведший себя в – порядок, счистивший грязь с оружия, ступил на улицу хутора!
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой…
Если бы и был на Подгорье какой‑нибудь глухой и слепой паралитик, то и он наверняка в эту минуту выбежал из хаты. Гневная и грозная, каждому известная мелодия набатом прозвучала в утренней тишине. Дружно вбивая в землю каблуки, проходила по широкой хуторской улице колонна. Сбоку вышагивал Володя Заря, затянувший до предела широкий командирский ремень с кобурой трофейного парабеллума, вскинувший на плечо винтовку с оптическим прицелом. На его груди сияла рубиновой эмалью Красная Звезда.
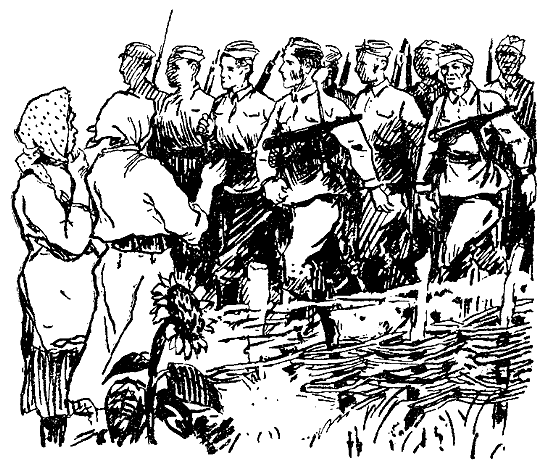
И хотя второй год войны уже напрочь отучил людей от какого бы то ни было рода сентиментальности, голодные и ослабевшие бойцы в эти минуты чувствовали себя не обычными солдатами – чрезвычайными послами Москвы, будущими победителями настолько остро, настолько сильно, что комок подступал к горлу.
То, что они делали в эту минуту, было лишено какого‑либо практического смысла. Маша и я, наведавшись на хутор, уже договорились о горючем. Но в том, чтобы здесь, в тылу у фашистов, вот так, парадным строем, пройтись по главной улице, был свой, особый, не очень четко формулируемый, но всем и каждому ясный высший смысл.
Он был нужен и тем, кто вбухивал полуразбитые сапоги в еще не подсохшую уличную грязь, и тем, кто смотрел на все это. И никто, наверное, не мог бы определить, для кого из них все это было значительнее и важнее.
Пять дней назад под Ейском бойцы из госпитальной команды оказались в тылу у врага. После первой схватки они стали солдатами. Теперь они были победителями, и любой из них понимал, что это чувство, это ощущение человека‑освободителя навсегда вошло в их жизнь и уже останется с ними до последней минуты.
А те, кто смотрел на них со стороны, кто бежал перед строем, не утирая радостных слез, кто кидался к тайникам, чтобы вытащить и отдать последний шмат съестного?
Едва ли кто‑нибудь из участников или зрителей импровизированного парада анализировал тогда свои мысли и чувства. Просто каждый из нас понимал, что ему в эти минуты хорошо, очень хорошо, так хорошо, как давно уже не было, но как должно было быть и обязательно будет всегда на нашей земле.
Вечером того же дня досыта напоенный горючим «даймлер» снова пылил по степи. Воротившиеся к сумеркам разведчики подтвердили «сводку» Трофима Мефодьевича – ни патрулей гитлеровцев, ни даже следов коротких встречных схваток боевых охранений в направлении Кизляра не было. И потому Самусев рискнул посадить в кузов всю свою команду.
На третий день, 17 сентября 1942 года, мы соединились со своими частями в районе Кизляра. Для бойцов нашей группы закончились шесть дней неожиданного рейда по тылам противника. Впереди оставалось 964 дня Великой Отечественной войны.
Литературная запись Ивана ВОРОНИНА
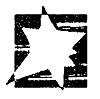
Константин АЛТАЙСКИЙ
РАКЕТА [2]
Рисунки Г. МАКАРОВА
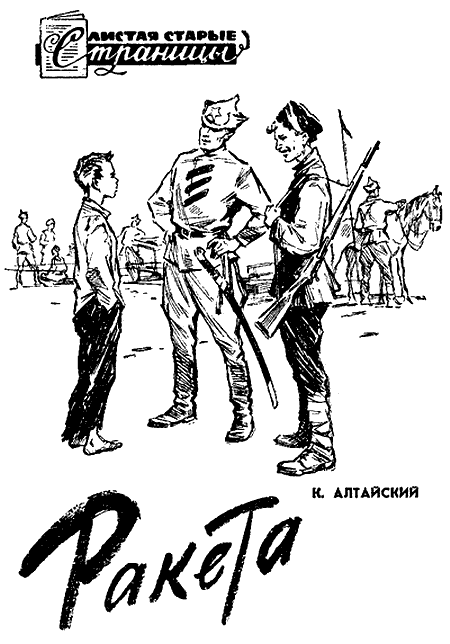
I
Свистели суслики. Ныли мозоли. Был кирпичный чай, и не было сахару. Седой, пепельно‑серебряный ковыль расстилался вокруг, и ломило глаза от сверкающего солнца.
Каменные бабы, освистанные ветрами тысячелетий, смотрели на нас с кургана удивленно и непонимающе.
Что могла понять древняя каменная баба в славном походе на Врангеля?
В этот жаркий день в наш отряд явился хлопец лет двенадцати‑тринадцати и заявил:
– Как хотите, а я останусь у вас.
У хлопца не было вовсе бровей, зато был маленький вздернутый нос и волосы цвета льна с таким странным вихром, словно хлопца лизнула корова шершавым ласковым языком.
Мы дали мальчугану краюху хлеба и напоили его чаем без сахара.
Обжигаясь чаем и шмыгая носом, хлопец рассказывал:
– Матка умерла, когда маленький был. Не помню матки. Отца белые повесили на воротах, а хату сожгли.
– За что отца порешили?
– Красноармейцам дорогу указал к белому штабу.
За чаем без сахара мы усыновили хлопца. Назвался он Санькой. Фамилию не спросили.
II
Санька пришелся ко двору. Он был отменно весел, как зяблик. Веселость, удаль и беззаботность всегда скрашивают походы. Саньку полюбили.
Мы двигались к Перекопу, не зная, что взятие его будет греметь в веках больше, чем Бородино и Аустерлиц.
Командовал фронтом Фрунзе, большевик, выросший в подполье текстильной Шуи. Фрунзе был прост и храбр. За храбрость его уважали, за простоту любили.
Еще были в нем широкий кругозор вождя и большевистская воля.
Санька наш, захлебываясь, рассказывал о Фрунзе:
– Идет это он, навстречу красноармеец. «Куда, – говорит, – товарищ?» Взглянул красноармеец, видит – перед ним Фрунзе. Испугался. Лицо сделалось как все равно алебастр. «Простите, – говорит, – товарищ Фрунзе. Я больше не буду». – «Чего не будешь‑то?» – «С разведки убегать». Красноармейца‑то, молодого крестьянского парня, первый раз в разведку послали, он с непривычки и струсил. Фрунзе покачал головой и говорит: «Идем, брат, вместе». Так разведку и провели вдвоем – красноармеец и Фрунзе.
Саньку очень огорчало то обстоятельство, что он Фрунзе не видел ни разу.
– Хоть бы в щелочку посмотреть на него! – мечтал Санька. – Хоть бы краешком глаза!
Кашевар наш, весельчак и человек с подковыркой, подмигивая, говорил Саньке:
– Тебе Михаила Васильевича Фрунзе не увидеть, как ушей своих. Он только героям показывается.
Санька сопел, как еж, и отходил от кашевара расстроенный.
III
Мы неуклонно шли к Перекопу. Свистели в степи суслики. Свистели над степью пули.
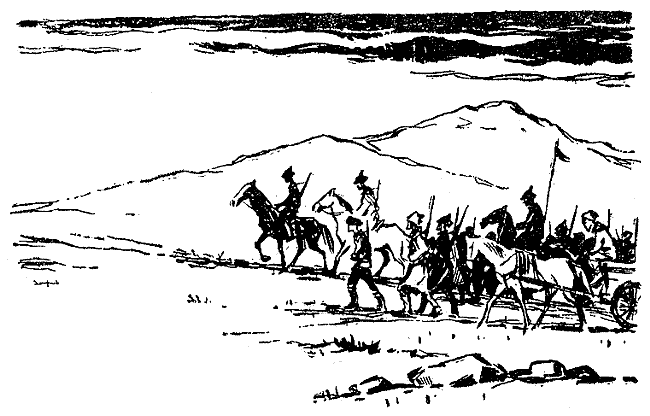
У одной степной станицы, название которой теперь переименовано, стоял отряд штабс‑капитана Уткина.
На фоне разлагавшейся врангелевской армии уткинский отряд выделялся своей дисциплинированностью и боеспособностью.
Дьявольски хорошо разместил Уткин своих пулеметчиков.
Мы изучили работу двух пулеметов на плоской высокой крыше. Они срывали все наши планы. Стоило нам чуть‑чуть двинуться вперед, как с крыши начинался шалый ураганный огонь. Свинцовый ливень извергался на нас.
Мы дважды ходили в атаку и дважды отступали с потерями.
Был назначен день третьей атаки. Станица должна была быть нашей.
Разведчик Миша Чечевицын, парень отчаянный и изобретательный, вражеский кабель полевого телефона соединил с нашим.
Мы подслушали невеселые вести. Вечером с востока в станицу должно было прийти сильное подкрепление.
Положение наше было обоюдоострым. Идти в атаку днем – значит устлать подступы станицы трупами.
Идти в атаку ночью – допустить прибытие подкрепления.
Трудно установить, в чьей светлой башке возник этот чудесный план.
Впрочем, это неважно. Важно, что план был принят и положен в основу операции.
С величайшим старанием, высунув язык, склонив курчавую голову набок, наш каллиграф и борзописец Кучко с час пыхтел, подделывая почерк штабс‑капитана Уткина. На счастье, у нас была перехвачена маленькая записка Уткина. Под уткинский почерк работал Кучко.
И сработал! Кажется, покажи мы кучковскую записку самому его благородию господину штабс‑капитану, крякнул бы Уткин, потрогал бы себя за ус и признал записку своею.
Дали Саньке записку, ракету, сухарей, флягу воды и попрощались на всякий случай…
Санька растаял в степи, как махорочный дым. А мы стали чистить винтовки да писать домой письма. У некоторых это были последние письма.
IV
Санька идет, а думы у него невеселые. Надо пробраться в станицу. А как проберешься?
Еще вечером – туда‑сюда, а днем трудно. Дозор!
Километра за четыре от своей части повстречал Санька автомобиль. Черный, лаковый, как огромный жук, автомобиль летел, словно не касаясь земли, по степной дороге, вздымая голубоватую струйку пыли.
Вдруг выстрел!
Автомобиль остановился. Шофер быстро слез и стал возиться над задним колесом. Оказалось – не выстрел, а шина лопнула.
В автомобиле сидели двое. Один молодой, бритый, долговязый, с глазами голубыми и холодными. Другой широкоплечий, немного сутулый, с бородкой, с темными выразительными глазами.
Увидел человек с бородкой Саньку – улыбнулся. Светло, тепло, хорошо так улыбнулся. Словно не чужой это, в первый раз встреченный человек, а родной. Вроде отца или брата.
– О чем задумался? – спросил человек с бородкой, когда Санька поравнялся с автомобилем.
– Военная тайна, – ответил Санька.
Бородач, все еще улыбаясь, посмотрел на бритого. Потом подозвал Саньку.
– А ну‑ка, Аника‑воин, посвяти нас в военную тайну. Нам можно. Мы из штаба армии. Можем документы показать.
Посмотрел Санька на людей в автомобиле – видит, народ солидный. Возьми и расскажи.
Видит Санька, бородач перестал улыбаться. Наоборот, глаза его подернулись как будто печалью.
– Малыш, – говорит бородач бритому, – совершенный малыш, а воюет, как взрослый. Не один он. Много у нас в армии малышей.
Выслушав Саньку, бородач присоветовал ему обратиться к деду Онуфрию, который жил в землянке неподалеку.
Шину сменили. Автомобиль умчался. Санька пошел к деду Онуфрию. Дед сидел на пороге своей степной хижины и сосал трубку. Увидев Саньку, плюнул и сказал:
– Вот. Пусть расстреляют, а я из своей норы не уйду. Сурок имеет свою нору. Суслик тоже. А я чем их хуже?
По‑видимому, дед продолжал давно начатый разговор.
– Дедусь, как в станицу пробраться? – спросил Санька.
– А чего в нее пробираться? Не вор, чай. Иди прямо по дороге и в станице будешь. Верста отсюда.
– Не, дедусь. Мне не в эту станицу. Это красная. А мне в ту, где беляки, врангелевцы сидят.
– А почто тебе туда?
Путаясь и мямля, Санька рассказал выдуманную историю об отце, пропавшем без вести.
Дед посмотрел на Саньку и сказал:
– Вон ту балку видишь? Иди той балкой до самой речки, а речка в самую станицу течет. В кустиках там лодчонка есть. Отвяжи и езжай на дне. Может, не заметят. А заметят – чего с тебя взять? Мал ты. Несмышленыш.
Санька двинулся к балке, дошел до речки. А на речке в зарослях ивняка качались лодки.
V
Сиреневые сумерки ползут на степь. Тишина. Станица словно вымерла. Это не простая тишина и не простое безлюдие. Штабс‑капитан Уткин узнал о третьей решительной атаке. Отряд наготове. По первому сигналу ливни свинца обрушатся на головы наступающих.
Тут математика, простая математика. Чудес нет вообще. На войне нет даже иллюзии чудес. Выбритый, причесанный, штабс‑капитан Уткин ждет с минуты на минуту рапорта о том, что с востока из‑за реки показались части врангелевцев. Это подкрепление.
Конечно, придется открыть огонь, если противник дерзнет перейти намеченную им, Уткиным, черту. Но лучше было бы огня не открывать до прихода подкрепления. Тогда станица стала бы фортом, опорным пунктом. Пожалуй, можно было бы ударить на красных…
Штабс‑капитан Уткин спокоен: дозоры на местах, пулеметчики, краса и гордость уткинского отряда, бодрствуют.
Зорок и хищен похожий на степного волка пулеметчик Любченко, засевший на плоской крыше. Это он, главным образом он отбил две атаки. У него выгоднейшая позиция.
Сиреневые сумерки ползут на степь, и все еще нет сигнала открывать огонь.
Сигнал привычен: сполох станичной звонницы.
Тишина. Любченко хочется закурить. Нельзя. Скоро дело. Вдруг чуткое ухо пулеметчика слышит шорох. Кто‑то лезет на крышу. Тихо, как мышь. Осторожно, как ласка.
Врагов тут нет, не может быть. Кто же?
Лицо мальчугана на несколько мгновений показывается над крышей.
– Записка… от Уткина… Секретная… – шепчет мальчуган.

Любченко берет записку. Ого! Коль Уткин перед делом посылает записку, значит дело серьезное.
«Совершенно секретно.
Нас обошли. Враг близок. Наступающий противник стройными колоннами покажется с восточной стороны станицы. Срочно перестрой пулемет. До сигнала – полнейшая тишина. В виде сигнала будет пущена ракета. По сигналу открывай немедленно ураганный огонь по противнику на востоке (дорога с ветлой). Бей как можно сильнее и – главное – безостановочно.
Штабс‑капитан Уткин».
Любченко прочел и нахмурился. Слово «обошли» на фронте всегда звучит тревожно. Веет холодом могилы от этого слова. Но характерный, твердый почерк Уткина вселяет бодрость.
– Есть, ваше благородие! Красные обошли нас, но они не знают, что с этой крыши на восток бить еще сподручнее, чем на север.
Любченко быстро перестроил пулемет, взяв на прицел ветлу на дороге. Сиреневые сумерки ползут на степь.
Санька лежит на скирде. Записка передана. Остается последнее – пустить ракету в нужный момент.
Санька протирает глаза. На восточной дороге маячит большая дуплистая ветла. Скорей бы, скорей бы… А то будет темно, не увидишь.
Степь молчит. Молчит беспощадный пулемет на крыше. Красноармейцы изучили его коварный нрав. Он молчит до поры до времени. Он подпускает до роковой черты, до верного прицела. Переступи эту смертную черту – и начинается огненный крутень, ярый водопад пуль…
Никто не знает, где дугой изогнулась по степи невидимая черта, после которой начинается ад.
VI
Стемнело. Уже смутно маячит ветла. У Саньки ракета наготове. Вот что‑то шевельнулось в сумерках. Может быть, это от набежавшей слезы в глазу?
Нет, теперь уже ясно видно – это отряд. Усталый вид, вялый шаг – видно, трудный и дальний был переход.
Санька зажмурился. Ракета взлетает ярко и ослепительно.
Она рассыпается в недосягаемой вышине изумрудно‑зелеными звездами. Звезды сыплются куда‑то в ковыльную степь.
Одна минута томительной, душной тишины. Потом тишина лопается. Остервенело, бешено обрушивается пулемет. Он бьет, как чудовищный глухарь на току, – в одиночку. Его никто не поддерживает.
Если бы не этот обезумевший пулемет, была бы над станицей, над колыхающимися усталыми отрядами тишина.
Но – пулемет сумасшествует. И отряд смят.
Офицерье смачно и выразительно ругается. Роты рассыпались, ищут прикрытия. Пулемет неистовствует. По цепи уже ползут панические слухи:
– В станице красные… Уткин повешен…
В станицу посылается первый недружный залп. Потом второй, дружнее.
Измученные долгим переходом, лишенные близкого и желанного отдыха врангелевцы ожесточенно обстреливали врангелевцев.
Санька, поднявший всю эту суматоху, глубже и глубже зарывается в скирд. Он не слышит, как к Любченко подъезжает адъютант Уткина и, громыхая бранью, кричит:
– Прекратить! Отставить!
Впрочем, не слышит его и Любченко, ставящий новые рекорды в быстроте стрельбы.
Уткин носится по станице на своей гнедой кобыле и, потрясая кольтом, орет:
– В своих стреляют, мерзавцы! Это заговор!
К бешеному пулемету Любченко присоединяют свои голоса еще два пулемета. Залпы со стороны подкрепления сбивают с толку Уткина. У него бьется жилка на виске.
В суматохе и горячке штабс‑капитана посещает такая маленькая, такая остренькая, такая предательская мыслишка: а что, если противник ухитрился зайти с тыла и берет станицу голыми руками?!
Не щадя себя, Уткин выезжает на дорогу, всматривается. Во мгле трудно что‑нибудь разглядеть. Ясно одно: на восточной дороге – цепи. Не отряды, а цепи. Не идут, а ползут. Ползут, чтобы перекусить горло уткинскому отряду, а самого Уткина повесить на той дуплистой ветле. Уткина бьет озноб.
Он больно бьет гнедую кобылу и скачет перестраивать отряд. В душистой степной тьме завязывается бой врангелевцев с врангелевцами.
Санька сидит глубоко в недрах скирда и ждет своих. Он плохо соображает, что творится в станице.
Громовое, ликующее «ура» с севера решает дело. Уткину становится понятным все. Мгновенно оценив положение, он находит один только выход – бегство. Впрочем, этот выход находит не он один.
Отряд, потеряв ориентацию, не слыша команды и не видя командира, бежит. Мчат тачанки. Бегут солдаты с перекошенными от ужаса и ярости ртами. Загорается хата. Багровое пламя вьется, завивается в чудовищные кудри.
Пулеметы замолкают один за другим…
VII
Вечером у золотых костров много говорили о Саньке.
Но пришло утро. Внезапно возникла перестрелка. Перестрелка разрослась в яростный бой. И начался откат врангелевских банд к Сивашу, к Перекопу, к увитому виноградниками изумрудному Крыму.
В огне и дыму мы позабыли, казалось, свои имена. Где тут помнить о Санькином подвиге?
Нас перебрасывали. Мы делали чудовищные по стремительности переходы. Мы все знали, что настал последний и решительный бой с бароном фон Врангелем.
Передышка была у самого Перекопа.
Горели чудовищные напряженные зори ноября. Каждый из нас – и Санька тоже – был маленькой песчинкой в великом историческом самуме.
Мы опомнились, пришли в себя и оглянулись друг на друга в Крыму, когда барон фон Врангель оставил нам в виде трофея клочки своего последнего в России «манифеста».
«Пути наши неизвестны, – горько сетовал барон, – казна пуста, и ни одно государство не дало еще согласия на прием беженцев…»
Черное море бушевало штормами. Горы холодной воды штурмовали берега, разбиваясь о камни на миллиарды мельчайших брызг.
Было похоже на то, что и море не дало согласия на прием врангелевских беженцев и хочет выплюнуть их назад.
На берегу, у самого моря, стояли двое, прислушиваясь к шуму прибоя. Сидя на буром диком камне, Санька хорошо разглядел их.
Один был высокий, в гимнастерке, на которой против самого сердца было привинчено два ордена Красного Знамени.
Другой – коренастый, крепко сложенный, с бородкой, с ласковыми глазами.
Санька сразу узнал его. Это он с лакового автомобиля в степи посоветовал Саньке идти к деду Онуфрию.
В сверкающем огнями доме раздались аплодисменты. Потом все стихло.
– Концерт кончился, – сказал высокий. – Так мы, Михаил Васильевич, и не услышали концерта.
Широкогрудый человек с бородкой кивнул головою задумчиво. Потом они пошли к дому. Санька – за ними.
Встречные козыряли. Улыбались. Уступали дорогу.
– Кто это? – спросил Санька встречного командира.
– Это? Из Реввоенсовета Первой Конной.
– Он с двумя орденами?
– Да.
– Нет, я о другом… с бородкой.
Командир посмотрел на Саньку укоризненно, словно осуждая Санькино непростительное незнание, и сказал твердо и почтительно:
– Это Фрунзе!


[1]Публикуемый очерк взят из сборника документальных рассказов о лучших представителях советской молодежи «Звезды‑1967», который выходит в издательстве «Молодая гвардия».
[2]Впервые рассказ был опубликован в журнале «Всемирный следопыт» в 1930 году.