Он посмотрел на Адькины брюки с заклепками и сказал:
– Раньше мы такие всегда в Сингапуре покупали. Так и звали: сингапурские штаны. Приходим в Сингапур, и вся команда на берег – за штанами. Крепкая вещь.
Адька обрадовался случаю потолковать о Сингапуре и бросил ножницы. Через несколько минут к ним присоединился и Колумбыч.
– А чего мы здесь сидим? – сказал капитан. – Пойдем ко мне сливянку пробовать, – и тут же зычно, даже удивительно было, что в сгорбленном стариковском теле мог сохраниться такой пиратский голос, рявкнул в пространство: – Маня, добывай сливянку, гостей веду!
Они крепко пришвартовались у капитана на прохладной веранде. Десятилитровая бутыль со сливянкой, добытая из глубокого цементного подвала, тоже была прохладной, и ее лиловые чуть отпотевшие бока приятно холодили ладони. Жена у капитана оказалась ему под стать – до белизны седая, приветливая старушка, она больше даже походила на его сестру, чем на жену. Два здоровенных рыжих кота расхаживали по веранде, обвитой плющом, и, мурлыкая, выцыганивали рыбьи головы.
Сливянка оказалась до ужаса крепкой и вкусной. В шестом часу вечера они все еще сидели за столом и слушали повести о капитанах былых времен.

– Сейчас капитанов нет, а раньше были. Попал я очень давно на угольщик «Трапезунд». На судне – кошмар. Команда разболтана, на палубе грязь. А капитана нет. Никто его не видит. За весь рейс из каюты не выглянул. В Индийском океане, попали мы в шторм. Страшный шторм, кидает нас по килю и борту так, что того гляди кувыркнемся. И в этот ураган вдруг вылазит на палубу маленький старикашка. Встал раскорякой на мостике и как закричит ужасным голосом: «Что я вижу? Корабль это или свинарник? Боцман! Немедленный аврал на уборку!» Высыпали мы по боцманской дудке драить и чистить все подряд, а над нами висит страшный рев и проклятья капитана, такие загибы, что даже сейчас мороз меня по коже берет. А потом шторм стих и капитан исчез. Но все мы уже знали: есть капитан!
Через час Адька с Колумбычем, дружески поддерживая друг друга, шли к своему дому.
– Колумбыч, – говорил Адька, – а как же виноград не обрезан, от вредных насекомых не опрыскан? Погибнет природа.
– А ну его, – отвечал Колумбыч. – Завтра. Все завтра. Сельское хозяйство – утомительная вещь.
Вслед им неслось:
– А около Фарерских островов в Атлантике после войны прибегает ко мне помощник: «Капитан! Справа по борту мина!» – «Ну и что?» – говорю я спокойно…
Голос морского волка стал помаленьку слабеть и глохнуть в глубине комнат. Многоопытная капитанская жена знала свое дело.
Летние дни прыгали, как целлулоидные шарики, с бездумным легким постукиванием в бездумном хаосе, но для Адьки прыжки этих шариков были ограничены по крайней мере двумя стенками. Первой стенкой была необходимость уговорить Колумбыча, а второй стенкой, ах, являлась акробатка.
Конечно, они встретились с ней после ее поездки с мальчиками, среди которых был и Изумруд. Встретились они на пляже, куда прикатили с Колумбычем после попыток привести виноградники в надлежащий вид.
– Ну его к псам, – сказал Колумбыч. – Ты знаешь, он в Уссурийском крае просто в тайге растет. И ни черта с ним не делается.
– Правильно, – сказал Адька и зашвырнул ножницы. – Едем обмывать трудовую пыль.
Казалось, что в этом дурацком городе имелся только один «Запорожец», а так сплошные «Волги» по шоссе, и Колумбыч компенсировал чувство неполноценности тем, что старательно «делал» каждую «Волгу». Водитель он был классный, еще с монгольских времен, и мотор, надо отдать должное аккуратисту Колумбычу, у него всегда был отрегулирован до тонкости. А может, все дело заключалось в том, что за рулями тех «Волг» сидели пузатые собственники‑копеечники, у которых страх за добро начисто съел самолюбие.
На пляже Колумбыч миновал стоянку, что размещалась на площадке плотного грунта рядом с дорогой, проехал дальше и лихо, с разгона взлетел на песчаный вал, отделявший полоску пляжа от простой суши. Так он и встал в высоте, маленький зеленый «Запорожец», над всей человеческой суетой и грохотом, а люди и прочие классные машины были просто внизу… Колумбыч на сей раз не похвастался, но ехидная радостная ухмылка так и растягивала без того щелевидный рот.
Тотчас внизу из коричневого мельтешения вынырнула акробатка и побежала к ним, приветствуя Адьку словами:
– Адька, ты где ж пропадал?
– А ты уже вернулась? – спросил Адька. – Как отдых на лимане?
– Да ну их, – простодушно ответила акробатка. – Я вначале поехала, а потом передумала.
Сказала и оставила Адьку размышлять над загадочным смыслом этих слов. Сейчас она опять походила на свойского конопатого парнишку. Куда она ухитрялась спрятать в себе ту рыжеволосую мадонну с полупудовой короной волос и мерцающим взглядом, оставалось неизвестным.
– Поплывем? – сказала акробатка. – Тут одни склеротики и паралитики. Плавать умеют, а подальше уплыть боятся.
– Конечно, – сказал польщенный Адька.
И опять они болтались вдвоем на зеленой воде где‑то около противоположного берега Азовского моря, и весь пляж с публикой, машинами и мачтой спасателей казался отсюда маленьким и ничтожным.
– Давай, кто глубже опустится, – сказала акробатка.
Они опускались в прозрачную зеленую воду, в которой можно было отлично видеть друг друга, только все казалось зеленым и расплывчатым. Там, на каком‑то метре глубины, Адька ее поцеловал, после чего, конечно, пришлось спешно выбираться наверх, ибо воздуху не хватало. После того как они отдышались, акробатка посмотрела на Адьку и хмыкнула так, что его бросило в жар, несмотря на прохладу воды и вообще неподходящую морскую обстановку.
Весь этот день акробатка вела себя по‑ангельски и не покидала их трио из Адьки, Колумбыча и «запорожца»; домой она возвращалась вместе с ними, а вечером они с Адькой отправились в кино на фильм «Брак по‑итальянски».
Опять Адька провожал ее в благоухании южной ночи. Акации над асфальтовым тротуаром в темноте казались могучими столетними липами, звук шагов четко раздавался в тишине, и казалось, что они идут в каком‑то тоннеле или черт его знает из каких детских воображаемых картинок взятой аллее средневекового, парка. Он и она, там, за спиной, за деревьями, прячется замок со всеми своими мостиками, рвами и силуэтными на фоне молчаливыми часовыми на гребне стены, а ему завтра ехать в Палестину бить нечестивых, а она будет ждать его три тысячи лет подряд – и, между прочим, все эти три тысячи лет оставаться все такой же молодой и прекрасной.
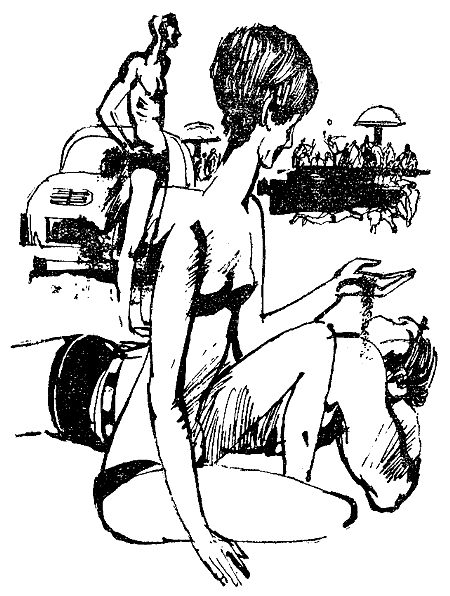
Пятачки света от фонарей позволяли посмотреть друг на друга при свете. Акробатка была молчалива на сей раз, и, когда Адька смотрел на нее в очередном световом пятачке, она улыбалась смущенно и хорошо.
Около одноэтажного домика почты, где светилось в этот поздний час только крыльцо круглосуточного телеграфа, она сказала:
– Подожди, я к девчонкам забегу.
И убежала поговорить о чем‑то с подружками, дежурными телеграфистками, а Адька сидел в тени акации за столом. Стол был окован жестью, на нем курортники, отсылающие пуды фруктов в ящиках с дырочками, упаковывали эти свои ящики.
Адька взволнованно курил, цикл его сумбурных мыслей можно представить примерно так: «Да‑а, юг, черт возьми. Обстановка действует. И вообще…» О ребятах, которые маются сейчас с теодолитами на далеких горных вершинах или дрогнут в отсыревших спальных мешках, он не вспоминал.
Потом они спускались вниз по опасному для обуви переулку, и опять был ночной крик: «Ларка! С кем ты там?»
Он попробовал ее торопливо поцеловать, но она ловко подставила щеку и прошептала скороговоркой:
– Завтра увидимся.
Когда Адька вернулся домой, Колумбыч сидел за столом в очках. Очки он надевал, когда надо было что‑либо мастерить. На столе на газетке лежала куча всяких приспособлений.
– Знаешь, – сказал Колумбыч. – Ложа‑то у меня у ружья лаком покрыта, а у порядочных ружей она только с полировкой, без всяких лаков. С ореховым маслом отполирую – будет высший класс моя двустволочка. Осенняя охота скоро, а утки здесь – пропасть.
Адька ничего ему не сказал, посидел, посмотрел, как Колумбыч работает, всегда было приятно смотреть, как Колумбыч что‑либо мастерит своими лапищами величиной с пол журнального столика каждая, и знать, что из этих рук обязательно выйдет вещь.
Потом Адька ушел спать счастливый. В палатке он долго лежал с открытыми глазами. На землю гулко хлопались недозрелые яблоки. Они попадали почти все, ибо зной иссушил землю, а до поливки у Колумбыча как‑то не доходили руки. Во тьме южной ночи собаки вели разговор из одного конца городка в другой, иногда по улице с приглушенным треском проносился мотоцикл: шла сложная потайная жизнь городка.
Адька чувствовал спиной, как где‑то на необозримой глубине под ним дышат, шевелятся и живут земные пласты глинистой майкопской толщи, той самой, о которой Адька знал по геологическому курсу в институте, что она дает нефть. Адька успел уже заметить, что в здешних краях нет привычных ему камней, а есть глина разных цветов и немного плохого песка.
Ему еще много ночей предстояло пролежать вот так в палатке с открытыми глазами. Легкомысленное прыганье целлулоидных шариков завораживало, и весь план Адькиного отпуска летел к черту. А он должен был, именно должен, а не то чтобы здорово хотелось, посетить еще все эти Ялты, Мисхоры, Симеизы и прочие Сочи, чтоб потом твердо ответить как положено: «Был на юге». Может, даже и пластинку привезти: «О море в Гаграх…» – или что там сейчас привозят. И фотографии: куча ничем не примечательных типов, на углу фотографии надпись: «Гурзуф. Скала Трех Любовников. 196…» И указывать пальцем – это вот я. И хранить эти фотографии до гроба, а потом, когда будет свой дом и, естественно, гости, которых нечем занимать, вынимать из комода на вежливую муку пришедшим.
Но все это летело к черту, ибо Колумбыч вел себя как впавший в склероз конь, не желающий понимать простых вещей. Он уходил от серьезного разговора под предлогом забот о большом хозяйстве: крышу красить, яблони окопать, виноградник весь зарос, забор надо чинить, пса подстричь, построить хозяйственный настоящий сарай, где будут зимой храниться лодка и лодочные моторы, и так без конца.
Но Адька ясно видел, что все это хозяйство идет само по себе, все зарастает и забор не чинится. Начав чинить забор, Колумбыч вдруг вспоминал о машине и уже не отходил от нее сутки, регулируя какой‑то волосяной зазор в зажигании. А когда Адька предлагал строить этот пресловутый сарай, Колумбыч вдруг начинал сортировать патроны и вообще ревизовать охотничье хозяйство – охота‑то осенняя на носу.
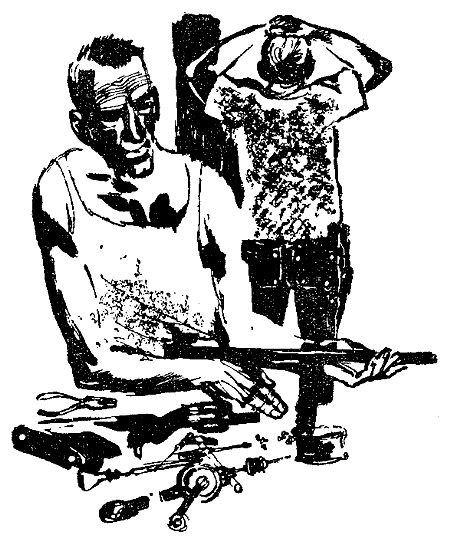
Все‑таки в один из вечеров Адька заставил Колумбыча заговорить.
– Что ты, Адик! – сказал Колумбыч. – Я уже поистаскался и к дальним перемещениям не способен. Здесь мой дом и окончательная крыша. А интересного я и тут кучу найду. Знаешь, какие на Тамани идут раскопки?..
Адька пресек разговоры о таманских раскопках.
– Не могу бросить, – сказал Колумбыч. – Оставить так – все придет в полную разруху. Здесь это быстро делается. Продать – ну подумай, в мои годы и опять без угла своего и вообще с неясными перспективами, оставайся лучше ты здесь. Проживем.
Столь наглого предложения Адька не ожидал, и упрямство его ожесточилось.
А с акробаткой дело обстояло не лучше. Она вела себя примерно так, как ведет себя знак электричества на выводах динамо‑машины переменного тока. То он видел ее на пляже среди кучи парней, которые, сделав из рук мостик, подбрасывали ее в воздух, а она крутила двойное сальто. Адька смотрел и сгорал от ревности. То она говорила: «Шумно очень, давай отойдем», – и они отходили в сторонку и лежали на ракушке, а она сыпала на Адьку эту ракушку из ладони и бормотала разную женскую чепуху, которую приятно слушать. Внешние ее метаморфозы были просто поразительны. Иногда они днем ходили по городку, выбирая какие‑то нужные ей пустяковые покупки, и все встречные мужики прямо брякались на знойный песок от нахлынувших чувств и зависти, что такая девушка идет под руку с Адькой, а не с ними. Наверное, у Адьки был слишком многообещающий вид готового на все человека, и потому приставать, заговаривать и даже отпускать замечания они не решались.
Вечера они проводили в основном вместе. Именно в основном, ибо она частенько вдруг бросала Адьку: «Подожди, мне надо поговорить вон с тем мальчиком», – и говорила с ним по часу и больше, а он должен был изучать витрины. Плюнуть на все, повернуться и уйти было делом бесполезным. Адька и это пробовал, но она через час приходила к ним, вызывала Адьку и спрашивала простодушно: «А чего ты меня на улице бросил?» Простодушие ее обезоруживало, оставалось только клясть свою душу, способную на грязные подозрения. Иногда она попросту исчезала.
Колумбыч в этих делах был не советчик, да и вообще за все годы самых задушевных бесед они никогда не касались женского вопроса.
С горя Адька стал ходить в заведение буфетчика Ильи и там искать забвения в обществе Трех Копеек. Адьке требовалось не вино, а та доза вяло‑циничного отношения к жизни, которым Три Копейки был так и пропитан.
Адька клял свое сибирское упрямство, без него было бы проще. Далась ему эта акробатка, вон сколько девчонок ходит, да и без них можно прожить. И пусть Колумбыч остается со своим заросшим огородом.
– Упрямство – опасная вещь, можно сказать, подсудная, – сказал ему Три Копейки. – У моего друга инспекция сети сняла. Он из упрямства поставил их опять на том же самом месте. Их опять сняли. Он из того же упрямства поставил третий раз – теперь отбывает. У инспекции тоже нервы есть, браток, как и у судьбы, запомни это.
С Колумбычем все оставалось по‑прежнему. Старик ехать никуда не хотел и ловко увиливал от ответов. Начав опять чинить забор, он вдруг с остервенением переключился на постройку душа во дворе, чтоб спасаться от жары. Взгромоздил на столбы жестяную ванну и так мудро пристроил, что стоило нажать ногой дощечку – так текла вода, отпустить дощечку – вода течь переставала. После этого Колумбыч плотно ушел в изобретение специального прицела для дробового ружья, так, чтобы из гладких стволов далеко стрелять пулей.
Акробатка вела себя не лучше и даже больше мыкала Адьку. Правда, у них появился сейчас укромный угол, метров за двести от ее дома, где они могли долго и тщательно целоваться в поздний час. От всех этих бед Адька отупел и пал духом. Он только ждал, чтоб скорее кончился проклятый отпуск, ехать же никуда не хотел – зной и разлагающая южная обстановка высосали из него всякую инициативу. Он забрал у Колумбыча гоночный велосипед и часами гонял на нем по мглистым азовским пустыням. Адька отощал, с лица и спины у него уже слезала девятая загарная шкурка.
В одиноких мотаниях на велосипеде Адька стал помаленьку открывать для себя азовскую землю, древнюю Тмутаракань. Открытие началось для него с запаха полыни. Растение диких степей – полынь лучше всего пахла в вечерний час, когда земля отдает накопленный днем жар. Запах этот как бы концентрировал в себе целые тома русской давней истории. И удивительная стать здешних девчонок теперь не удивляла его, видно, эти стройноногие дивы просто унаследовали красоту амазонок, ибо именно здесь поселила амазонок фантазия древних греков и здесь находилось святилище Афродиты Апатуры, женского божества плодородия. Через эту землю бежала, спасаясь от гесперид, несчастная нимфа Ио, и, может, по дороге она успела родить и оставить здесь дочку, и именно отсюда не зря же была взята за чрезвычайную красоту жена для Ивана IV – «Шемаханская царица».
Древняя земля греческой Меотиды открывалась для Адьки сквозь посвист ветра в одиноких, сожженных солнцем травинках и блеске гигантских лиманов в закатном солнце.
Купаться он ездил все на том же велосипеде, но не на пляж, который возненавидел, а в район заброшенного порта, где остались только длинный цементный причал и обломки взорванных надолб времен войны. В Старый порт купаться ездили любители одиночества, и там Адька всегда видел двух девушек, тихих, почему‑то печальных и прекрасных.
Он никогда с ними не разговаривал, а только так день на десятый стал здороваться. А разговаривать было не надо, так лучше – не знать, почему они вдвоем удалились от общества и почему печальны.
Дорога в Старый порт проходила мимо причалов действующего рыбацкого. Там стояли малогрузные сейнеры и шхуны, на шхунах тех сидели, свесив босые ноги с борта, моряки и удили бычков, а на леерах сушились мужские постирушки. Бродили по деревянным настилам жирные и важные морские коты. Адька думал иногда, что вот именно только сейчас, под конец, для него и начался отпуск, а так была – мука.
В конце августа у Адьки был день рождения. Он пригласил Ларису и старого капитана с женой. Больше приглашать было некого. Жена капитана взяла на себя заботу о столе и предложила зарезать пару кур для разных блюд.
– Конечно, – сказал Колумбыч и вдруг замолк. – То есть как? – сказал он наконец. – Зарезать? Марию‑Антуанетту зарезать? И съесть? – Весь Колумбычев вид отражал напряженную работу мысли.
– Ну конечно, – сказала жена капитана.
– Не могу, – твердо отрезал Колумбыч. – Пусть их режет, кто хочет, и ест, кто хочет, а я не могу. И вообще непонятно. Есть же в Индии священные коровы, например.
Но, видно, сам факт, что куры, в том числе и Колумбычевы, для того и существуют, чтобы их в конце концов съесть, крепко Колумбыча надломил. Он стал странно задумываться.
День рождения прошел не особо весело. У старого капитана в этот день сдало здоровье, и, отпробовав пару стаканов вина, он отправился на покой. Колумбыч был задумчив, а мадонна вообще никогда ничего не пила и тоже не очень веселилась.
– Знаете что, – сказал вдруг Колумбыч, – махнем‑ка мы сейчас в Анапу. Засядем в приличном ресторане, как приличные люди, счистим с себя мох.
Закипела деятельность. Мадонна помчалась домой наводить лоск, Колумбыч и Адька начали хрустеть крахмалом с запонками.
Через полчаса Колумбыча можно было вполне везти к английскому двору: сухощавая фигура в темном костюме, сен‑симоновский нос и стальной блеск глаз на загорелом лице вполне допускали это. А мадонна превзошла себя. Ее волосы казались сделанными из тяжеленной меди, приходилось думать о том, как может тонкая шея выдержать эту тяжесть, и потому жалеть и оберегать эту девушку от бед.
В Анапе, в южном ресторане с пальмами в кадках, где был какой‑то полуцыганский оркестр, и шорох моря доносился сквозь раскрытые двери, и имелась курортно‑чадящая публика, они устроили загул. Какие‑то люди были у их стола, был какой‑то очень смешной актер оперетты с печальными глазами и очень много коньяка.
Проснулся Адька в машине и вначале долго старался понять, где он. Он видел потолок машины и сообразил, что лежит в верном «Запорожце», переоборудованном Колумбычем для кочевой жизни. Рядом кто‑то дышал. По тяжести волос на своей руке Адька понял, что это мадонна. Он скосил глаза и увидел, что она спит, легко и доверчиво прижавшись к нему, вроде ребенка. Похмелья в голове не было, и Адька понял, что выпито не так уж много, а больше шума и вообще волнений. Он высвободил руку и выглянул в окно. Машина стояла у моря, в задах какого‑то строения. От моря шел человек в тельняшке и нес два ведра воды. Было раннее утро.
– Эй! – окликнул человека Адька, – Где мы?
– В Анапе, браток, – ответил человек, прошел мимо и вдруг заржал по‑лошадиному, развеселился. Лариса проснулась.
– Слушай, – Сказал Адька. – Давай жениться.
– Давай, – сказала она, потерла помятую во сне щеку и чмокнула Адьку теплым ртом.
В окошко просунулась рука с бутылкой кефира.
– Кефир алкоголикам полезен, – сказал голос Колумбыча.
– Где ты ночь был? – спросил Адька.
– Знаем, да не скажем, – ответил Колумбыч.
Они поели кефиру с теплыми булочками, потом Колумбыч предложил заехать на пляж искупаться. Но перед этим они решили забрести в магазин и купить маску с ластами.
Чистенькая утренняя Анапа постепенно нагревалась солнцем. Около газировщиц уже начинали скапливаться маленькие водовороты очередей, потоки людей с пляжными кошелками двигались к морю. Поливочные машины разбрызгивали на асфальт первую воду.
В магазине пришлось долго выбирать маску, потому что сен‑симоновский нос Колумбыча не желал в ней вмещаться.
Пляж здесь был не то что в их городке. Во‑первых, он культурно отделялся от местности каменной оградой, во‑вторых, внутри той ограды было негде ступить. С трудом они разыскали свободное местечко.
– Пойду поплаваю, – сказал Колумбыч. Он надел ласты, маску, просунул под резинку дыхательную трубку, потом лег зачем‑то на песок и мгновенно уснул. Адька прямо завелся от смеха, глядя на все эти манипуляции.
– Только ты и не думай, – глядя на киснувшего от смеха Адьку, сказала Лариса. – Ты и думать забудь про свою Сибирь.
Ветер донес до них жареный запах. Адька сориентировался и быстро отыскал будочку, где характерно толпилась кучка мужчин. Он помчался туда, взял палочку шашлыка и прибежал к Колумбычу.
Колумбыч, не снимая маски, сжевал шашлык, потом снял маску и сказал ясным голосом:
– Ну вот что. Хватит дурака валять. Я, Адька, еду на Амур, а ты как хочешь. За сегодняшнюю бессонную ночь я понял, что куры, огород и я находимся на разных полюсах. Или я огород угроблю, или он меня угробит. А раз я кур своих есть не могу, так зачем их растить? И потом сегодня ночью я прочел, что на юге переизбыток населения.
Адька с Ларисой зарегистрировали законный брак в загсе городка и стали жить в одной из комнат у Колумбыча.
Колумбыч же начисто ушел в сборы и приготовления к отъезду. Это была тысячелетне знакомая и вечно волнующая участников и зрителей процедура подготовки экспедиции. Колумбыч составлял списки, укладывал таинственные коробочки и ящички в угол комнаты и бурчал себе под нос загадочные слова.
Адька с Ларисой были заняты изучением и исследованием неизведанных континентов любви и семейной жизни, потому не особо досаждали Колумбычу, и потом Адька просто страшился приступить к решению возникшей перед ним главной проблемы. Но проблема та уже всплывала и начинала бурлить в ночных семейных разговорах.
В один из дней озабоченный Колумбыч сунул на ходу Адьке проштемпелеванную казенную бумагу. Это была дарственная на дом, приусадебный участок со столькими‑то лозами винограда, столькими‑то яблонями, сливами и абрикосами. Заверено нотариусом, уплачены пошлины, сборы и налоги. Обо всем подумал в эти дни мудрый Колумбыч.
– Вот, – сказал Колумбыч. – Ты парень хозяйственный, у тебя пойдет. Взамен давай мне денег на дорогу. А работу здесь найдешь. Найдешь работу?
– Лариса узнавала, – подавленно сказал Адька. – Есть место землемера в сельхозуправлении. Землеустроителя.
– Ну и отлично, – сказал Колумбыч. – Ребятам я все объясню. Поймут.
Адька не сказал Колумбычу, что сегодня ночью был крупный разговор.
– Нет, – сказала Лариса. – Никакие экспедиции не для меня. Ты же видишь, что я городская. Мне юг и море нужны. И муж нужен живой, а не отсутствующий, которого по три года ждать. Я ведь изменять не могу, потому мне трудно ждать мужа. Ты меня любишь или там речки‑горки какие‑то?
– Тебя, – сказал Адька.
Колумбыч отбыл на автобусе в Краснодар в сопровождении громадного багажа.
– Знаю я тех балбесов и остолопов, – объяснял он на стоянке. – У них, поди, сапог починить нечем, а про прочие деликатные работы и говорить нечего. Все везу, – и он любовно кивал на ящики.
День был мокрый, холодный, и было, как всегда, неуютно при прощании, когда один уже весь в дороге, его здесь уже нет, а у других мысли здешние. Колумбыч стоял в своем извечном коричневом плаще, лицо у него тоже было не шибко веселое. Загорелое, обветренное лицо пожилого человека, обдутого ветрами окраин государства, крупноносое лицо запойного бродяги, который, раз начав, где‑то в далекой юности, уже не может остановиться или не считает пока нужным остановиться.
Колумбыч уехал. До землемеровой работы оставалось еще месяца полтора‑два. Лариса должна была уехать на три месяца в конце октября, чтобы закончить счеты с институтом, и дни шли в осточертевшем безделье.
Адька стал освежать в памяти науку землеустройства и помаленьку знакомиться с задачами будущей работы. Шла семейная жизнь: завтрак, приготовленный женой, поход на рынок за продуктами, и еще он собирал у соседей советы, рецепты и правила ухода за культурным садом.
Грызущая печаль сидела в Адьке, и день ото дня червь ее становился все злее, и никакой велосипед, никакое ошалелое купание не могли от этого спасти.
В сентябре пляж опустел, как ветром сдуло кричащую, хохочущую коричневую, толпу и исчезли самозабвенные вопли ребятни, что копошилась у кромки воды, стояли только столбы ободранных зонтов, запертый на железные полосы павильон, где продавались чебуреки и вино, оставались неистребимые обрывки газет, которые ветер гонял по пляжу до тех пор, пока их не смоет и все не очистит волна осенних штормов. Адька полюбил ездить сюда и лежать в ложбинке между небольшими дюнами, слушать свист ветра.
Еще он любил взбираться наверх, на обрыв, где имелась какая‑то неизвестного назначения башня давних времен, и смотреть с высоты на разноцветное от мелководья Азовское море… Около той башни он вспоминал загадочно запавшие в память стихи древнего китайского поэта:
Еду‑еду, плыву
Вдоль дороги в родные края.
И считаю я дни,
Когда старый завидится дом…
Куда он плывет и где его старый дом? И, размышляя об этом старом доме, который должен быть у каждого, ибо человек без корней – только полчеловека, Адька дошел до открытия, что он сделал солидную подлость, по крайней мере по отношению к Колумбычу. И уж тут, как ни крутись, необходимо ее исправлять, вроде Наполеона, который во время московского отступления как бы в виде наказания для себя часами брел вместе с солдатами по снегу, а его санки ехали рядом. Но в Наполеоне император взял верх над человеком, и он смылся на тех санках в Париж, а ему, Адьке, императорские штучки недозволены.
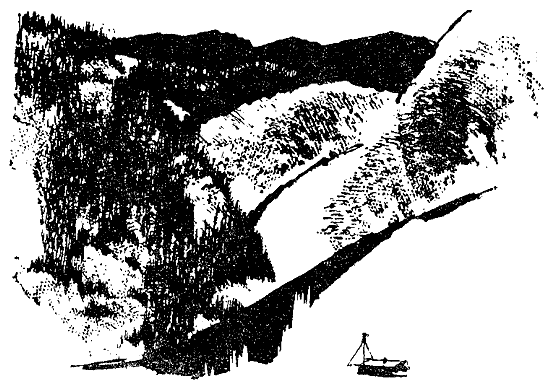
Оставалось дать сакраментальную телеграмму южного отпускника: «Шлите телеграфом деньги на дорогу», что Адька и исполнил в конце сентября.
Заглушая все печали, запела труба странствий. Труба та рождала энергию и четкую логику действий. Было много слез, первых семейных сцен и решительных объяснений. Но неумолчный зов трубы стоял надо всем, и тонкий пустынный звук ее звал к выполнению долга.
Автобус шел слишком медленно, и Адька пересел в такси, чтобы ехать сто сорок километров до Краснодара, а дорогой смотрел в затылок шоферу, чтоб ехать быстрее. В самолете он смотрел в дверцу пилотской кабины, чтоб сквозь ее металлическую преграду внушить пилотам, чтоб они быстрее гнали тяжелый реактивный лайнер, гнали к Хабаровскому аэродрому, где в ресторане «Аквариум» заливают горе вином потерпевшие крушение неудачники, коротают время до вылета сонмы горящих надеждами и радужными мечтами отпускников, летящих на юг, на каменных плитах и в модерновых креслах аэровокзала мается в ожидании бродячий северный и восточный люд – от могучих диктаторов золотых приисков до молодых специалистов и жилистых бывалых работяг горных разработок.
В городке после суматошного и исполненного волнений лета осталась одна Лариса, владелица трехкомнатного особняка, энного количества плодовых деревьев и удравшего мужа.
А самолет летел слишком медленно, ибо, кроме Адьки, он вез еще и тяжелый груз Адькиных жизненных шрамов: первых семейных сцен, слез и ночных объяснений. Хуже всего было то, что Адька оказывался в стане странного племени однолюбов. Шрамы на Адькиной душе с хрустом оформлялись, а он думал о том, что часто скрывается за рядовой и привычной телеграммой «Шлите денег на дорогу», и вспоминал, как они всегда дружно гоготали над этими телеграммами и с гоготом отправляли посыльного с монетой до ближайшей почты. Его, мужская семья, конечно, сделала так же.
Отдохнул в общем Адька на юге. Впрочем, кто знает, чем все это кончится…
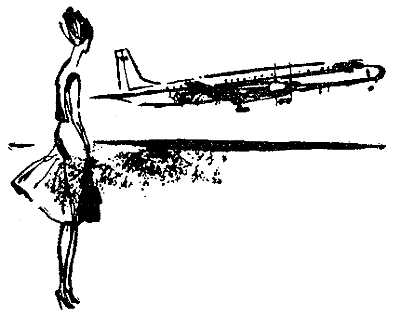
Александр ШАМАРО
УРАЛ, СТАНЦИЯ САН‑ДОНАТО
Рисунки Г. ЮРЬЕВА
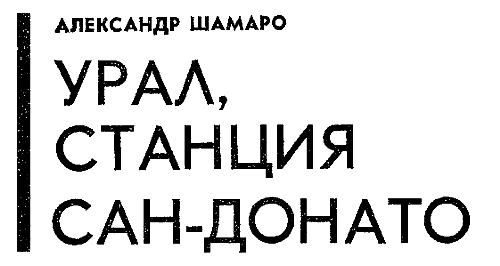
Какое странное, непривычное сочетание географических названий, не правда ли?.. Урал – сердцевина России, и вдруг – Сан‑Донато!.. Название «дворянского гнезда» в Италии на вывеске маленькой железнодорожной станции неподалеку от исконно русского города Нижний Тагил.
Сколько таких загадочных названий встречается нам, когда мы разъезжаем по стране или, на худой конец, «путешествуем» взглядом по ее карте! Привычное объяснение услужливо приходит на ум: «Игра случая, всякое бывает…» Да, это так, конечно… Но загляните поглубже в историю хотя бы одной из таких «случайностей», и вы увидите, сколько закономерного и характерного стоит за ними.