Любовь к Мадлен ещё усилила желание Люсьена освободиться от пут, которыми его связывали понятия и предрассудки, царившие в семье Капоралей.
Он видел, как горячо радовалась Мадлен каждый раз, когда он возмущался царящим неравенством и твердил, что будет бороться против угнетателей.
Люсьен готовился стать адвокатом, когда началась война с Пруссией и отечество оказалось под угрозой чужеземного нашествия. Одним из первых он отозвался на призыв империи и пошёл добровольцем в армию. В то время во Франции ещё не было всеобщей воинской повинности, и каждый имел право нанять вместо себя кого‑нибудь из числа не обязанных служить в армии. Богатый Капораль пожелал оградить сына от опасностей войны и нашёл Люсьену такого «заместителя». Но молодой человек отверг предложение отца.
Мадлен Рок не только не удерживала жениха, но, напротив, поощряла его желание стать под ружьё для защиты родины. Когда Люсьен ушёл на войну, она терпеливо переносила разлуку и своими письмами поддерживала в нём мужество и бесстрашие.
Плен прервал их переписку, и Капораль оказался оторванным от Парижа, без моральной поддержки Мадлен, к которой привык прибегать в минуты сомнений и душевных тревог.
О мартовских событиях Капораль получил совершенно искажённое представление от тайных агентов Тьера, которые возбуждали у пленных французских офицеров и солдат враждебное отношение к Коммуне. По сговору Тьера с прусским командованием, эти офицеры должны были вместе со своими войсковыми частями выступить против рабочего Парижа.
Среди пленных офицеров Альбер Колар был одним из немногих, с кем теснее сошёлся Люсьен. Колар казался замкнутым, малообщительным, но с более близкими людьми он делился своим беспокойством за судьбы Франции и не скрывал тревоги по поводу раскола между Парижем и Версалем, обвиняя восставших парижан в отсутствии патриотизма.
|
|
– Когда иноземные войска топчут нашу землю, у нас не может быть иной цели, как разбить врага, – сказал он однажды Люсьену.
– Это верно, – подтвердил Люсьен. – Однако четвёртого сентября парижский народ вышел на улицы именно потому, что правительство придерживалось иных взглядов.
– Ну, и что же из этого следует?
– Из этого следует, – продолжал Люсьен, – что, по‑видимому, не всегда мир между гражданами способствует достоинству и благополучию отечества.
– Да, так было до четвёртого сентября. Но правительство национальной обороны поклялось изгнать неприятеля из Франции, – сказал Колар.
– В чём оно клялось, не знаю. Не многое доходит к нам сюда, в плен. Ясно одно: Версаль и Берлин не воюют, а сотрудничают…
– Да, сидя тут, нам, конечно, трудно разобраться… Ваша невеста не подаёт никаких вестей? – перевёл вдруг Колар разговор на другую тему.
– Ничего о ней не знаю, – сокрушённо ответил Люсьен.
– Судя по тому, что вы о ней рассказывали, она, вероятно, с инсургентами.[41]Их фантастическая затея соответствует её пылкому характеру. Жаль, конечно, что в такой опасный для неё период вас нет рядом с ней.
– Много бы я отдал, чтобы быть там, возле неё!
– А я, признаюсь, предпочитаю оставаться здесь, – холодно отозвался Колар. – Лучше, чтобы тебя схватили немцы, чем взяли в плен свои.
– Ну, это, знаете ли, дело вкуса, – не без иронии ответил Люсьен.
|
|
В тот день разговор дальше не пошёл, но вскоре Колар к нему вернулся:
– Я очень вам сочувствую: вы так тоскуете по своей возлюбленной, так рвётесь к ней! Неожиданный случай даёт мне возможность вам помочь. Один из немецких командиров заинтересован в судьбе близких ему людей в Париже. Люди эти страдают там от голода, и немец хочет переправить им десять тысяч франков. За эту услугу он обещает снабдить нужными документами то лицо, которое возьмётся ему услужить; немецкие кордоны сразу откроют ему проходы. Конечно, дело рискованное, но, если хотите, я вас порекомендую как человека, заслуживающего доверия.
– Я пойду на любой риск, – вскричал, не раздумывая, Люсьен, – если есть хоть маленькая надежда попасть в Париж.
На следующий день Колар, держа в руках десять тысячефранковых билетов, объяснял Люсьену:
– От вас ничего не требуется, кроме сохранения полной тайны и передачи этих денег Гансу Эггеру по адресу: Сен‑Жермен, сорок три. Согласны?
– Согласен! Если это всё, чем я обязан человеку, возвращающему мне свободу и возможность увидеть Мадлен.
– От себя дам вам дружеский совет: выполните поручение тотчас, как пройдёте ворота Парижа… Мало ли какие неожиданности могут встретиться. Лучше не иметь при себе столько денег. Вот и всё… Да! Чуть не забыл: остаётся ещё небольшая формальность. Я вам вполне доверяю, но не знаю, каким доверием пользуюсь сам у вашего освободителя. Поэтому прошу подтвердить, что я передал вам полностью все десять тысяч франков.
Колар протянул вместе с деньгами листок бумаги, на котором было написано:
«Получил от господина Альбера Колара десять тысяч франков для передачи в Париже господину Гансу Эггеру или архиепископу д’Арбуа».
|
|
– Д’Арбуа? – удивился Люсьен. – Ведь вы называли мне только Ганса Эггера.
– Лицо, посылающее деньги, объясняет это тем, что Ганса Эггера может не оказаться в Париже, тогда как известно, что архиепископ там, и он‑то уж переправит деньги по назначению. Но сперва, конечно, вы должны зайти по указанному вам адресу.
После этих разъяснений Люсьен, не колеблясь, скрепил расписку своей подписью.
Через несколько дней, следуя наставлениям Колара и при помощи указанных им людей, Люсьен очутился в Париже. Верный данному слову, он прежде всего направился на квартиру Ганса Эггера.
Но каково было его изумление, когда на звонок вышел… Альбер Колар.
– Не удивляйтесь, – сказал он совершенно спокойно. – Чудес не бывает. Если одному военнопленному удалось проделать путешествие из немецкого лагеря в Париж за пять дней, то почему бы другому не пройти по этому же пути ещё быстрее?
– А господин Эггер?.. – спросил только Люсьен, предчувствуя ещё более неприятную неожиданность.
– Не разыгрывайте невинного младенца, – вдруг грубо оборвал его Колар. – Вы политический деятель, поощряли стачки, поддерживали социалистов, добровольно взяли ружьё, чтобы бить неприятеля, посягнувшего на вашу отчизну. И что же? Стоило прусскому офицеру предложить вам встретиться с вашей возлюбленной, и вы сразу же с полной готовностью идёте на то, чтобы стать его тайным агентом!
– Да как вы смеете! – закричал Люсьен, сжимая кулаки.
– Бросьте! Меня не обманете! – злобно сказал Колар. – Вы не маленький и должны были знать, на что идёте. Кстати, епископ д’Арбуа, которому вы так охотно взялись помочь, заключён в тюрьму Сатори вместе с многими другими почтенными обитателями Сен‑Жерменского предместья.[42]Они, знаете ли, пришлись не по вкусу переплётчикам и сапожникам, которые сейчас хозяйничают в Париже… Впрочем, ступайте к своей невесте, можете снова цепляться за её юбку и кричать вместе с ней: «Да здравствует Коммуна!» Я знаю, вашего энтузиазма ненадолго хватит. Подышите немного парижским воздухом, и отрезвление наступит скоро. Вы быстро поймёте, что надо делать.
– Возьмите ваши деньги! – Люсьен швырнул тысячефранковые билеты на стол и повернулся к выходу.
– Деньги не мои, – остановил его Колар. – Они получены из Французского банка, предназначены вам, и вы можете на них рассчитывать, когда убедитесь, что акции вашего папаши очень пали в цене… Да, ещё вот что…
Люсьен уже было приоткрыл дверь, но задержался на пороге.
– Помните, если вы не будете нам помогать, я отправлю вашу расписку прокурору Раулю Риго, а копию… мадемуазель Мадлен Рок. Сюда не трудитесь приходить: меня здесь больше не застанете. Мы вас найдём сами, когда это будет нужно.
Глава девятая
На крепостном валу
19 мая Гастон Клер вместе с сорока пятью подростками, под командой сержанта Национальной гвардии Жака Леру, прибыл к воротам Майо, на западном участке крепостной ограды Парижа.
Сначала они и в самом деле, как говорил Гастон своему другу, работали у Сен‑Флорентийского редута. Но на следующий же день их отправили к воротам Майо для исправления повреждений, причинённых неприятельскими снарядами.
Перед юными коммунарами предстала страшная, но величественная картина.
Укрепления превратились в груду развалин. Перед кучей каменных обломков стояло двенадцать орудий.
Командир батареи генерал Монтерре уже пять недель стойко держался под непрерывным дождём гранат. Осадная артиллерия версальцев, установленная на фортах Мон‑Валерьен, Курбевуа и Бэкон, выпустила за это время свыше восьми тысяч снарядов.
Вопреки ожиданиям, батальон школьников не получил оружия в Париже перед отправкой на внешние бастионы. Представ невооружёнными перед генералом Монтерре, юноши попросили выдать им шаспо.
– Шаспо? – переспросил генерал и внимательно осмотрел стройные ряды молодых коммунаров. – Я просил артиллеристов. С ружьём вам здесь нечего делать. Кто из вас умеет стрелять из пушки?
С минуту все молчали.
– Я никогда не стрелял из пушки, – раздался вдруг голос Гастона, – но видел, как это делают другие. Я справлюсь.
Взволнованность мальчика, решительность и уверенность, прозвучавшие в его словах, не оставляли сомнений в серьёзности и глубине его порыва.
«Этот юноша справится», – мелькнуло в голове у генерала.
– Имя? – спросил он.
– Гастон Клер.
– Ты пойдёшь со мной, Гастон, а остальные возьмут кирки и лопаты. Надо скорей подготовить новые позиции – тут, поблизости.
В первую минуту, когда Монтерре подвёл Гастона к пушкам, мальчик ничего не мог понять. Он слышал много рассказов о героических защитниках Коммуны, об их мужестве и стойкости; слышал он и о том, что версальцы в своём безжалостном разрушении французской столицы превзошли пруссаков. И всё же то, что он здесь увидел, его ошеломило.
Обнажённые до пояса артиллеристы, с чёрными от пороха грудью и руками, стояли у пушек и непрерывно посылали снаряды. Их было всего десять человек, а стрелять приходилось из двенадцати пушек.
Краон управлял сразу двумя семифунтовыми орудиями. С фитилём в каждой руке, он посылал два выстрела одновременно.
Рядом у орудия хлопотал раненый артиллерист Дерер, немолодой уже человек с забинтованной головой. Правая рука его была на перевязи. Он шатался от изнеможения и потери крови.
Генерал подвёл к нему Гастона.
– Будешь помогать Дереру! – прокричал Монтерре юноше. А Дереру он сказал: – Сядь и только указывай Гастону, как действовать.
Дерер будто только того и ждал. Словно выполняя привычную работу, он начал левой рукой указывать Гастону, как положить снаряд, как поднести фитиль.
Громко кричать Дереру было трудно, да к тому же его слабый голос Гастон и не услышал бы, поэтому указания канонира были безмолвны. Точную наводку орудия Дерер сделал сам, с усилием поднявшись на ноги.
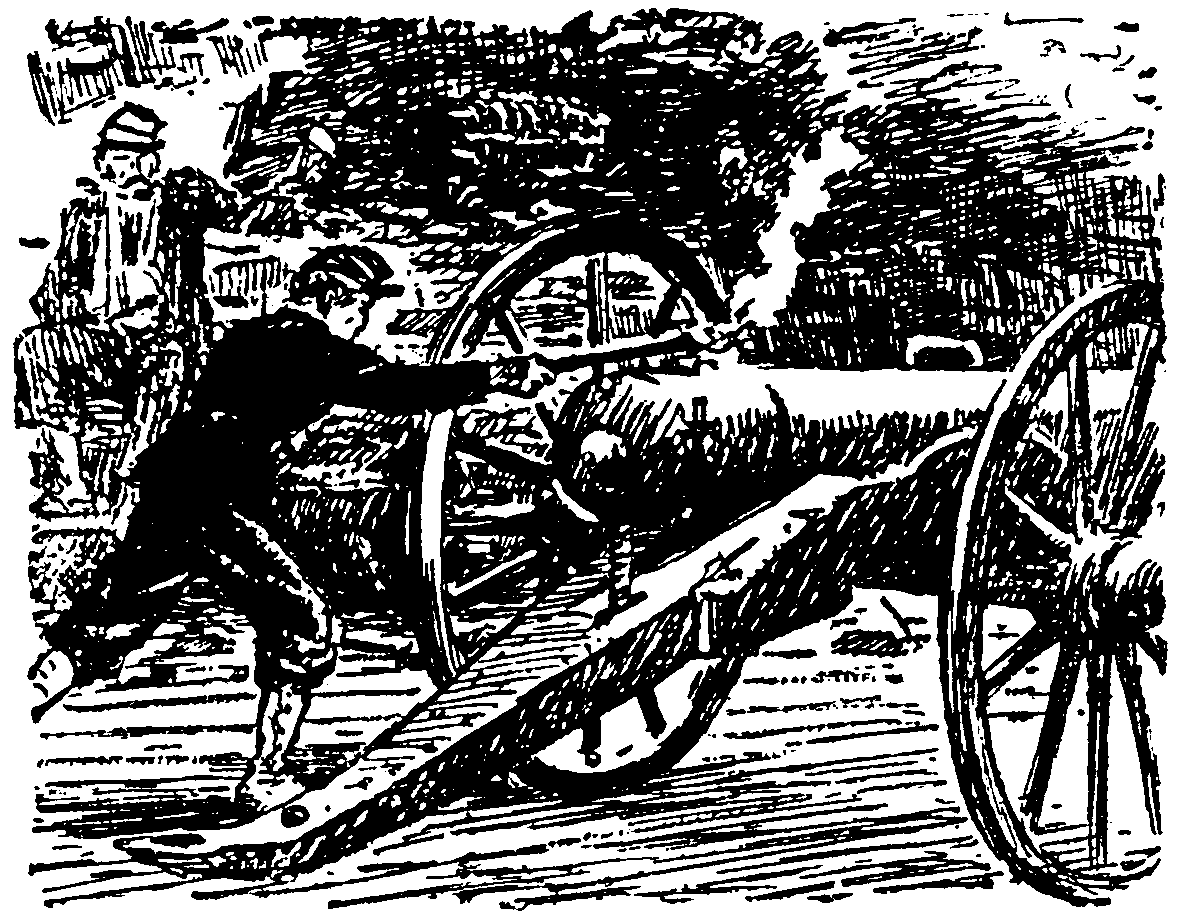
Наконец раздался первый выстрел, произведённый Гастоном.
Но с молодым канониром тут же случилась беда. Платформа под лафетом и приспособление, задерживавшее орудие после отката, давно уже требовали исправления. Гастон оказался впервые у орудия и не мог предвидеть последствий отдачи после выстрела; он вовремя не отошёл от платформы, и колесо лафета после отката прошло по его ступне. Никто не заметил, что приключилось с новичком. Гастон судорожно ухватился за лафет, но тотчас, преодолев боль, бросился за следующим снарядом. Бой захватил его целиком. Все мысли и чувства были направлены к одной цели: нанести врагу как можно больший урон.
Вскоре подошёл Монтерре. Он взглянул на юного артиллериста, молча постоял возле него и поспешил к другим орудиям.
Гастон оценил чуткость командира. Ему было приятно, что Монтерре не произнёс тех поощрительных слов одобрения, какие взрослые так любят расточать мальчикам за их хорошие поступки. Гастону казалось, что своим молчанием Монтерре признал за ним равенство со всеми славными защитниками Майо.
В течение нескольких часов, пока не спустилась ночь, Гастон напряжённо помогал Дереру, часто предупреждая его указания. Скоро пушка стала послушным орудием в его молодых, крепких руках.
С наступлением темноты перестрелка прекратилась с обеих сторон. Усталые бойцы повалились кто где мог: одни – у орудия, другие – поодаль, на подстилке из свежих ветвей и сена.
Они не задавали себе вопроса, кто приготовил им это ложе. Оно появилось как будто само собой.
Никто не руководил маркитантками.[43]Никто не распределял их по баррикадам. Они сами появлялись в опасных местах, чтобы дать бойцам то, что было им сейчас важнее всего, – тёплую пищу, вино и табак, а иногда и сказать ободряющее слово.
На форт Майо приходила Клодина. Оставив малыша Клода на попечении соседки, она помогала федератам со свойственным ей пылом.
Как только стало возможно пробраться к фронту, зеленщица выкатила тележку, на которой развозила по городу свежие овощи. Она умело поворачивала её между выступами, камнями и мешками, чтобы не растрясти свою поклажу. На возке возвышались караваи хлеба; прикрытые широкими листьями каштана, котелки с супом и горячим картофелем, фляги с вином.
Гастон почувствовал нестерпимую боль в ноге, когда опустился на постель из мягких ветвей. Охватив ступню обеими руками, он стал раскачиваться из стороны в сторону.
Клодина заботливо поднесла мальчику горячий картофель, аккуратно разложенный на листе. Она сразу заметила, что у него что‑то не в порядке. Гастон попытался принять непринуждённый вид, но обмануть маркитантку не удалось. Она опустилась на колени подле Гастона и взялась за сапог, чтобы стащить его с больной ноги. Мальчик стал сопротивляться:
– Не надо, не надо. Пройдёт!
– Ишь ты, какой прыткий! – прикрикнула на него Клодина. – Видишь – распухла. Куда ты годишься с такой ногой! Разве она пройдёт без лечения, глупый!
Напускной грубостью Клодина старалась прикрыть материнскую нежность, какую она сразу почувствовала к юному солдату, – так терпеливо выносившему боль. Впрочем, за короткое время своего пребывания среди федератов она уже узнала, что коммунары умеют молча переносить страдания.
Маркитантка осторожно сняла сапог с распухшей ноги мальчика, быстро развела костёр из сухих сучков и веток и нагрела воды. Горячие припарки, которыми она обложила ногу Гастона, скоро оказали своё действие, и боль успокоилась. Согретый теплом костра и участием ласковой маркитантки, Гастон уснул.
Один за другим чередовались сны. Гастону казалось, что он в лесу в знойный, нестерпимо знойный день. Гастон наколол ногу. Она горит и жжёт. Вприпрыжку, на одной ноге, мальчик выбежал на опушку леса. Вытянуться, лечь скорее!.. Вот так! Он прилёг на ласковую, мягкую траву… Почему она пахнет только что сорванными ветвями, из которых ещё течёт свежий, душистый сок?.. Кто‑то знакомый сопит над самым его ухом. Кто же это?.. Если бы можно было раскрыть глаза и посмотреть! Но глаза нельзя открывать, не то судебный пристав увидит Рыжую…
Сборщик налогов Кантра кричит матери: «Сколько не плачено! За корову – раз, за покос – два, за надворную постройку – три! Вот не уплатишь долга, последнюю твою коровёнку со двора уведу!..» А сопение у самого уха всё продолжается, становится всё громче и громче… Только бы не открывать глаз, и тогда нечего бояться!..
Вдруг сопение прекратилось и воздух прорезало страшное рычание. Гастон узнал голос кулака‑ростовщика… Опять он гонится за отцом! Погоди же! Рука Гастона тянется к пушке. Теперь бояться нечего. Можно открыть глаза… Катастрофа! Нет ядер!.. Гастон подбегает к Монтерре, просит его, умоляет: «Нам надо так мало, чтобы продержаться!» Но Монтерре молчит. Гастон посмотрел на него и вдруг увидел насмешливое лицо Кри‑Кри. «Сбивать на лету воробья – это ещё не всё, – язвительно говорит он. – Этого далеко не достаточно!» Гастон огорчён, обижен, но вдруг Мари протягивает ему букет фиалок. Её голосок звенит: «Поздравляю! Я так и знала! Весь квартал говорит, что ты славный артиллерист!..»
Гастон проснулся, протёр ладонью слипшиеся глаза, почти бессознательно дотронулся до правого кармана. Сюда он положил теперь уже совсем увядший букетик фиалок. Цел ли он? Не потерялся ли во время боя?.. Ощупав карман, Гастон убедился, что цветы там.
Было темно, и предрассветная пелена всё ещё скрывала очертания камней, орудий, человеческих фигур. Не сразу сознание Гастона вернулось к действительности. Где он? Что с ним?.. Тревожной казалась тишина. Её не нарушал сейчас гром пальбы, к которому мальчик привык за последние дни в Париже.
Гастон приподнялся, и занывшая от резкого движения ступня напомнила ему, что произошло. Он потрогал ногу: опухоль стала меньше.
Гастон решил снять повязку и надеть сапоги, пока командир батареи ничего не заметил. Вчера, как только он почувствовал боль в ноге, он вспомнил о Мари и Шарло. Как хорошо, что они не видели его неудачи! Будь они здесь, он сгорел бы со стыда. Тем более ему не хотелось, чтобы о его оплошности узнал командир. Хорош артиллерист, которому свой же лафет отдавил ногу!
Между тем бастион оживал. Очертания окружающих предметов становились всё резче, яснее. Послышались голоса бойцов.
Гастон направился к своему орудию, стараясь не хромать.
Около пушки уже хлопотали Монтерре и Дерер. Генерал ласково обратился к мальчику:
– Доброе утро, Гастон. Мы тут лечим твою пушку. А как нога?
– Нога?.. У меня всё в порядке, командир, – смущённо ответил Гастон. Он понял, что Клодина выдала его тайну, и огорчился.
– Прекрасно. Битый двух небитых стоит! – пошутил Монтерре.
Конский топот, донёсшийся со стороны ворот Дофина, привлёк общее внимание. Вскоре показался и всадник, мчавшийся галопом.
– Домбровский! – с уважением произнёс Монтерре и пошёл навстречу генералу.
– Какая зловещая тишина! – были первые слова Ярослава Домбровского.
Командующий фронтом выглядел очень молодым. По внешности трудно было угадать в нём непреклонную волю, решительность и мужество. Его ясные голубые глаза смотрели прямо в лицо собеседнику. Скулы чуть выдавались, белокурая бородка была подстрижена клинышком. Из‑под форменного кепи виднелись светлые волосы.
– Подозрительное затишье, – сказал он. – Дайте‑ка один залп. Посмотрим, как они ответят!
Монтерре стал обходить батарею, давая указания артиллеристам.
Домбровский взобрался на самую высокую груду камней. Он разглядывал неприятельский лагерь в бинокль.
Раздался залп из всех двенадцати орудий. Их прерывистый гул звал Париж к борьбе.
Ясный, солнечный день 20 мая, казалось, не предвещал никаких решительных перемен.
Орудия противника продолжали молчать.
Домбровский снял кепи и стал размахивать им над своей головой.
– Зачем он это делает? – спросил Гастон у Дерера.
– Он дразнит версальцев. Ему не нравится, что они прекратили стрельбу. Генерал не любит, когда наступает затишье.
Вокруг Домбровского засвистели пули.
Враги зорко следили за передвижениями командующего, и где бы он ни появлялся, их ружья встречали его потоком свинца. Какой‑то досужий человек подсчитал, что адъютанты Домбровского жили в среднем по восьми дней.
Не сгибаясь и не уклоняясь от пуль, Домбровский простоял на своей вышке несколько минут, затем не торопясь сошёл вниз. Обойдя все орудия, поговорив с каждым артиллеристом отдельно, он задержался около Дерера. Старый канонир опирался на плечо своего юного помощника.
Заметив, что командующий обратил внимание на мальчика, Монтерре его представил:
– Гастон Клер из батальона школьников. Он вёл себя как настоящий артиллерист.
Гастон вытянулся, как в строю. Дерер снял руку с его плеча.
Домбровский молча и внимательно глядел на молодого артиллериста.
– Это всё подкрепление, какое я получил, – продолжал Монтерре.
– Вы не исключение, – бросил Домбровский. – Делеклюз готовится к встрече с врагом на улицах Парижа. Там должна произойти решающая схватка. Тогда и будут введены в бой все резервы…
– Послушайте, Ярослав! – прервал Монтерре командующего. В своём возбуждении он даже не заметил, что назвал его запросто, по имени. – Я простой солдат, хоть и ношу звание генерала. Я привык драться с противником и научился разгадывать его планы, но в друзьях что‑то плохо стал разбираться. В апреле, когда мы погнали неприятеля, Клюзере не помог нам резервами, а теперь и новый военный делегат отказывает в подкреплениях!
– Сейчас не время разбираться в этих сложных вопросах, – ответил Домбровский. – Нам остаётся лишь стойко удерживать каждый сантиметр свободного Парижа, удерживать теми силами, какие имеются. Берегите, Монтерре, каждого человека, каждое орудие, каждый снаряд! Плохо, что ваши орудия больше ничем не прикрыты. От них останутся только осколки, когда неприятель возобновит штурм. Надо отойти на новые позиции. Я пришлю сюда женский батальон Луизы и Елизаветы.[44]Они быстро наладят земляные работы. Кстати, для передышки женщинам неплохо сменить ружья на лопаты… Как только установите на новых позициях первые три орудия, начинайте непрерывный, но не частый огонь по Булонскому лесу. Мешайте неприятелю готовиться к штурму!
Домбровский говорил, сохраняя, как всегда, внешнее спокойствие. Однако сегодня он особенно напряжённо прислушивался ко всем звукам, долетавшим с неприятельских позиций. Он внимательно обдумывал каждое, на первый взгляд маловажное, сообщение разведчиков.
С особым чувством горечи вспоминал сегодня Домбровский ошибки военного руководства Коммуны: они привели к потере мощных фортов, делавших Париж неприступной крепостью. Теперь эти форты стали опорой неприятеля для разгрома столицы.
Офицер русской армии, пламенный революционер, поляк Домбровский был осуждён царским правительством на вечную ссылку в Сибирь. Оттуда он бежал во Францию, где принял участие в революционном движении.
Когда Тьер напал на Париж, Домбровский был назначен генералом Коммуны и комендантом Парижа.
После неудач, которые коммунары потерпели в первых боях с версальцами, Домбровский стал во главе войск в Нейи.[45]Он сразу предпринял исключительные по своей смелости и упорству боевые операции. В его распоряжении было всего две тысячи человек, но он повёл успешное наступление на армию в тридцать тысяч солдат. Версальские войска отступали, оставляя раненых и убитых.
Бой начался бомбардировкой версальских позиций у Нейи, длившейся до самой ночи. После этого были спущены мосты через крепостной ров, и батальон Национальной гвардии под личным командованием Домбровского бросился на неприятеля в штыки и обратил его в бегство. Подоспевшие резервные батальоны отбросили версальцев дальше и, преследуя их, гнали до полуночи.
Наутро Домбровский с двумя батальонами из Монмартра напал на версальцев уже в другом пункте – в Аньере. Успешно вытеснив их оттуда, он овладел пушками, железной дорогой, блиндированными вагонами и открыл фланговый артиллерийский огонь по Курбевуа и мосту Нейи. Другой отряд, под командой Жаклара[46]и Теофиля Домбровского – брата генерала, с боем захватил замок Бэкон.
В боях с врагами Домбровский проявлял беспримерное мужество и храбрость. Генерал считал, что спасение Парижа в переходе от обороны к нападению. Но тщетно добивался он у правительства Коммуны изменения военной тактики. Коммуна оставалась глуха к его настояниям и ничего не делала, чтобы упорядочить руководство обороной Парижа и устранить безначалие, царившее в военном ведомстве. Тактика Домбровского встревожила версальское правительство. Тьеровские агенты в Париже тайно предприняли яростную атаку против генерала Коммуны. Злостные слухи, фальшивые документы широко распространялись повсюду с целью набросить тень на славное имя Домбровского.
Ничто не могло поколебать стойкость этого мужественного революционера, но происки тайных врагов всё же многого достигли: они помогли противникам Домбровского в военном министерстве опорочить его наступательные планы.
В этот день, объезжая бастионы крепостной стены, Домбровский особенно остро ощутил, как пагубна тактика военного министерства.
Он снова поднялся на самое высокое место крепостного вала и пристально смотрел туда, где должен был появиться неприятель. Военный опыт подсказывал генералу разгадку, почему противник ослабил вдруг наступательные операции.
– Несомненно, это затишье перед бурей, – сказал он, спустившись к Монтерре. – Зверь готовится к решительному прыжку. Пусть же он станет для него смертельным!
И Домбровский поскакал галопом к воротам Ла‑Мюэтт. Здесь, в центре западного участка обороны Парижа, помещался его полевой штаб.
Укреплённый район тянулся более чем на десять километров – от предместья Монмартра до самой Сены, в предместье Отей.
Именно сюда был направлен главный удар наступающего врага. Три корпуса версальских войск – около восьмидесяти тысяч солдат – было брошено против этого участка. Триста орудий поддерживали наступающих. Таким образом, здесь против каждого километра фронта неприятель располагал наступательной силой в восемь тысяч бойцов и тридцать полевых орудий.
Что было в распоряжении коммунаров? Чем они могли ответить?
В день, когда ожидался решительный, всеобщий штурм, у Домбровского было не более восьми тысяч бойцов, и те заметно убывали во время непрерывных упорных боёв. Незначительные подкрепления, поступавшие на внешние оборонительные бастионы, не могли покрыть потери. Таким образом, силы версальцев превосходили оборону в десять, а на отдельных участках даже в пятнадцать раз.
Сегодня и в Ла‑Мюэтт наступила неожиданная тишина. Неприятельская артиллерия молчала. В штабе Домбровского было также сравнительно спокойно. Офицеры сидели за столами, что‑то писали и подсчитывали.
Среди посетителей, ожидавших командующего, была Елизавета Дмитриева. Женский батальон послал её добиться у генерала отмены приказа о направлении женщин на рытьё рвов. Они не хотели менять ружьё на лопату.
Елизавета была одной из самых энергичных, предприимчивых и смелых русских женщин, ставших в ряды парижских коммунаров. Участница I Интернационала, она понимала, что, сражаясь на французских баррикадах, она борется в то же время и за освобождение своей: родины – России, где ещё не наступил час восстания.
В первом написанном ею воззвании к женщинам Парижа она говорила им:
«Настал решительный час! Надо покончить со старым миром. Мы хотим быть свободными! И не одна Франция теперь поднимается. Глаза всех народов направлены на Париж. Они ждут нашей победы, чтобы, в свою очередь, освободиться…»
Елизавета была талантливым организатором и пламенным оратором. Она хорошо владела пером и с одинаковой ловкостью держала шаспо и перевязывала раны.
Во время осады Парижа она основала Женский союз защиты Парижа и помощи раненым, а во время Коммуны состояла постоянной корреспонденткой Генерального совета I Интернационала и принимала горячее участие в создании женских клубов.
Природа не пожалела для неё даров: наделив её разносторонними способностями, она наградила её и замечательной внешностью. Нельзя было не обратить внимание на её чудесные, сверкающие чёрные глаза, мягкие, красивые, тёмные кудри и тонкие черты выразительного лица. В ожидании Домбровского Елизавета нетерпеливо ходила большими шагами взад и вперёд по просторной приёмной.
Адъютант генерала подсчитывал оставшиеся запасы боевого снаряжения, прикидывая, как его распределить по укреплённым районам. Взглянув на Дмитриеву, он отложил в сторону перо, встал и подошёл к ней.
– Вы надеялись на Международное общество помощи раненым, – сказал он. – Действительно, председатель общества обратился к Тьеру с протестом против его приказания стрелять в лазареты Коммуны. Но кровожадный Карлик ответил, что в войне с коммунарами хороши все средства и что он не намерен ограничивать действия своих войск какими бы то ни было предписаниями международных обществ.
– Этот негодяй – достойный союзник Бисмарка! – воскликнула Дмитриева. – Ведь прусский канцлер несколько раньше ответил тому же Тьеру не менее бесстыдно и нагло. «Вы жалуетесь, – написал ему Бисмарк, – что прусские солдаты стреляют в раненых, но ведь ваши солдаты поступают ещё хуже: они стреляют в наших здоровых солдат».
Адъютант хотел что‑то ответить Елизавете, но в это время в дверях появился Домбровский.
Генерал попросил адъютанта принести ему какую‑то справку, а сам направился в свою комнату, пригласив Дмитриеву следовать за собой.
Как только они остались вдвоём, он сказал:
– Я догадываюсь, зачем вы здесь. Не надо лишних слов! Как только будут готовы траншеи для батареи Монтерре, весь ваш батальон направится на укрепление и оборону Монмартра.
– Как это понять? – удивилась Дмитриева. – Неужели готовится отступление за крепостную ограду? Разве нет больше возможности держать неприятеля вдали от стен Парижа?
– Думаю, что есть… Но в военном министерстве придерживаются иных взглядов, иной тактики.
– Делеклюз – не Клюзере и не Россель и, полагаю, должен хорошо знать правила революционных боёв.
– Видите ли, Елизавета, к несчастью, революционный Париж так и не выдвинул военного вождя нового типа. Я никогда не сомневался в добрых намерениях ни Клюзере, ни Росселя. Но эти первые военные министры Коммуны примкнули к революции не ради интересов рабочих, а больше из‑за патриотического негодования против правительства капитулянтов. Они только честные военные специалисты, но не понимают духа революционной борьбы, не понимают её силы. Новый военный делегат Делеклюз, напротив, ценит в борьбе только моральный перевес и самоотверженность сражающихся за свою свободу рабочих. Поэтому‑то он тяготеет к уличным баррикадным боям и отвергает наступательные полевые операции.