Все были взбудоражены. Толпа, поддержанная вооружёнными отрядами Национальной гвардии, хлынула на площадь Согласия, к Бурбонскому дворцу, где заседала палата депутатов.
Двойная цепь полицейских и городской стражи, срочно вызванных к месту демонстрации, отрезала путь к законодательному корпусу. Встретив эту преграду, передовой батальон Национальной гвардии остановился.
Но старший барабанщик не растерялся. Это был статный человек высокого роста. Он повернулся спиной к полицейским, поднял над головой барабанную палочку и двинулся к палате. Весь батальон, как один человек, последовал за ним. Оторопевшие полицейские расступились. Препятствие было преодолено – цепь прорвана.
С ликующими криками «Долой империю!», «Да здравствует республика!» народ проник во дворец.
Когда толпа увидела председателя палаты Евгения Шнейдера, со всех сторон раздались возгласы: «Долой убийцу наших отцов и братьев!»
Сторонник власти Бонапарта, Шнейдер был собственником крупнейших металлургических и сталелитейных заводов и беспощадно подавлял стачки. Незадолго перед тем он приказал расстрелять мирную демонстрацию рабочих, объявивших забастовку на его пушечном заводе в Крезо.
Никому не известная женщина, в простом пальто из грубой шерстяной ткани, с клетчатым платком на голове, первая подошла к заводчику и бросила ему в лицо:
– Убийца! Вон отсюда!
Шнейдер попытался спорить, но кто‑то схватил его за шиворот, дотащил до выхода и выбросил за дверь.
– С империей покончено! – крикнули из толпы.
Это послужило сигналом к решительным действиям.
Народ заставил депутатов объявить о низложении Наполеона и его династии. Никто из приверженцев императора не осмелился выступить в его защиту. Толпа тотчас направилась в ратушу. Здесь без всяких промедлений провозгласили республику и создали новое правительство.
|
|
Как ликовал тогда Париж! «Вот, – думали, – кончилась власть богатых над бедными! Наконец‑то неприятель, неудержимо приближающийся к столице, почувствует, что Франция снова стала сильна!» Весь Париж рвался в те дни навстречу пруссакам, чтобы прогнать их с французской земли. С каким нетерпением Париж ждал часа, когда новая власть, назвавшая себя «правительством национальной обороны», призовёт его на решительный бой с врагом отечества!..
Но недолго пришлось радоваться. Вскоре народ справедливо окрестил кучку новых правителей «правительством национальной измены».
Новая власть только на словах выдавала себя за республиканскую. На деле она ничем не отличалась от монархической и также служила капиталистам.
Глава правительства Трошю был откровенный монархист. Адвокат Жюль Ферри, назначенный после 4 сентября мэром Парижа, во время осады нажил целое состояние за счёт голодающей столицы. Министр иностранных дел Жюль Фавр был уличён в мошенничестве и подделке документов для личного обогащения.
Неудивительно, что на следующий же день после захвата власти это правительство обратилось к иностранным державам, умоляя о помощи против своего же народа.
Между тем наступление прусских войск на Париж всё развивалось и грозило Франции полным разгромом.
Опасаясь нового революционного взрыва, правительство решило впустить неприятеля в столицу и с помощью прусских солдат подавить народное движение.
|
|
Тайно договорившись с Бисмарком, правительство громогласно оповестило население, будто командование напрягает все силы для защиты Парижа. 20 января Трошю и в самом деле перешёл в наступление, сделав, однако, всё для того, чтобы оно окончилось неудачей. В первом же большом сражении наступавшие французские войска оказались без резервов и без орудий, а в то же самое время прусские войска беспрепятственно подвозили артиллерию и подкрепления. Артиллерийские офицеры‑монархисты, такие же предатели, как и сам Трошю, получили приказ стрелять, не причиняя вреда неприятелю.
Так наступление окончилось позорным провалом, который был тщательно подготовлен главой французского правительства. На следующий же день Трошю заявил, что дальнейшее сопротивление невозможно и немедленная капитуляция неизбежна. Столица Франции была сдана пруссакам, которые перед тем тщетно осаждали её в течение ста тридцати двух дней.
Измена Трошю и позорное поражение армии вызвали всеобщее возмущение. Как и 4 сентября, народ снова вышел на улицы. Батальоны Национальной гвардии двигались из предместий к ратуше. Повсюду раздавались крики: «Долой правительство национальной измены!»
Но у ратуши, превращённой генералом Винуа в крепость, уже стояли войска, выведенные им заблаговременно из окопов. И на безоружные толпы народа, собравшиеся на площади, посыпался град пуль из окон и с крыши ратуши.
Революционное выступление было подавлено.
Подписав соглашение о капитуляции французской армии, правительство передало пруссакам большую часть фортов, гарнизоны которых сложили оружие к ногам победителей. С парижских укреплений были сняты пушки и выданы неприятелю. Побоялись тронуть только Национальную гвардию Парижа, так как она в значительной части состояла из пролетариев. Бисмарк и Трошю хорошо понимали, что Национальная гвардия не даст себя разоружить. Вооружённый рабочий Париж притаился и только ждал подходящей минуты для нового революционного выступления.
|
|
Зная это, прусское правительство торопило Трошю подписать мирный договор. Опасаясь, что французский народ восстанет против позорных условий, на какие согласилось французское правительство, Бисмарк потребовал немедленно назначить выборы в Национальное собрание. Он рассчитывал добиться избрания реакционного большинства. Это было не трудно: третья часть страны была оккупирована прусскими войсками; многие решительные и смелые люди, из тех, кому доверяли народные массы и кто мог ими руководить, были арестованы, а те, кто остались на свободе, не могли за короткий срок открыть глаза избирателям, в особенности в провинции, на хитросплетённый сговор Трошю и Бисмарка.
В результате таких скороспелых и подтасованных выборов, происходивших под давлением французских и прусских властей, в Национальное собрание прошло подавляющее большинство реакционеров. Главой нового правительства стал теперь Адольф Тьер.
Бисмарк торжествовал. Тьер согласился на все его притязания, и прусский канцлер фактически полновластно распоряжался судьбами Франции.
Первым делом Тьер поспешил обезоружить парижских рабочих и прежде всего лишить их артиллерии. Для этого был задуман коварный план.
Готовясь к сдаче города немцам, генералы Тьера «позабыли» вывезти четыреста пушек, установленных в тех районах Парижа, какие подлежали оккупации по условиям перемирия. Эти пушки принадлежали парижской Национальной гвардии, так как были куплены на собранные народом средства. Генерал Винуа предпочитал отдать орудия врагу, лишь бы они не остались в руках их законного владельца – народа.
Только 1 марта, в последнюю минуту перед вступлением пруссаков в Париж, батальонам федератов удалось увезти эти орудия за черту немецкой оккупации. Большинство пушек было поднято и установлено в рабочих предместьях, на возвышенностях Шомона, Бельвиля и Монмартра – самых высоких точках Парижа.
В спасении пушек, которые пришлось тащить на себе, приняло горячее участие население Парижа.
Генералы встревожились. Они решили во что бы то ни стало отобрать орудия и разоружить парижан.
Тьер отдал приказ применить военную силу и назначил генерала Винуа главным руководителем этой операции.
Подготовка к нападению на народ велась в строжайшей тайне.
На рассвете 18 марта три тысячи правительственных солдат под командой генерала Леконта прибыли на Монмартр, беспрепятственно взошли по склонам, арестовали часовых, перебили нескольких захваченных врасплох национальных гвардейцев и овладели пушками.
Выстрелы разбудили национальных гвардейцев и жителей предместья. Мужчины, женщины и дети бросились на улицы. Они убеждали солдат правительства не стрелять в своих, а там, где уговоры не помогали, окружали солдат и обезоруживали их.
Кри‑Кри хорошо помнил день 18 марта. Он до некоторой степени чувствовал себя тоже участником этих больших событий. Хвастаться перед сверстниками он стеснялся, однако при случае не прочь был изобразить себя героем в их глазах, рассказывая, что с ним тогда произошло.
А случилось вот что. Когда генерал Леконт отдал приказание стрелять в толпу, осаждавшую пушки, солдаты взяли ружья на прицел. Дядя Жозеф схватил Кри‑Кри за руку и, выйдя вместе с ним вперёд, сказал, обращаясь к солдатам:
– Стреляйте! Но знайте, что где‑нибудь в другом месте другим солдатам приказывают в эту минуту стрелять в ваших отцов, сестёр и детей. Нигде народ не хочет больше жить в рабстве, голодать и терпеть измену правительства!
Вслед за Жозефом бросились вперёд женщины и дети. Малыши хватались ручонками за штыки, цеплялись за колёса орудий. Отовсюду раздавались крики:
– Да здравствует Коммуна! Да здравствует свобода!
Тогда произошло то, что должно было случиться, но чего не предвидели Тьер и его приспешники: солдаты отказались стрелять в толпу, бросились на своих офицеров, арестовали их и, повернув ружья прикладами вверх, начали брататься с народом.
Всеобщее ликование охватило рабочие районы. Федераты, люди в гражданском платье, женщины, дети пожимали друг другу руки, обнимались, пели песни, плясали.
Генерал Леконт, который утром рапортовал Тьеру о своей «победе» над восставшим Парижем, во второй половине того же самого дня был взят в плен.
Главнокомандующий Винуа отдал приказ об общем отступлении и, удирая, второпях потерял на бульваре Клиши своё кепи…
Так Париж стал свободным.
Теперь в ратушу вступили подлинные народные представители. Это была первая в мире рабочая власть.
Свергнутое «правительство национальной измены» во главе с Тьером бежало в Версаль – старую резиденцию[25]французских королей…
Вспоминая и вновь переживая эти события, Кри‑Кри невольно сравнивал те дни, полные самых радужных надежд, с тревожными, хотя и по‑прежнему бурными днями, какие Париж переживал сегодня. Отчего так произошло? На это он не мог дать ответа. Он знал только, что в последние дни парижане с небывалой до сего времени поспешностью начали готовиться к встрече врага, а укрепления внутри города вырастали как из‑под земли.
Глядя на эту торопливую стройку, было трудно сказать, кто ею руководит. Казалось, что каждый выполняет свою повседневную работу. Одни копают землю, другие носят камни; дети работают лопатами, возят тачки; женщины шьют мешки и наполняют их землёй.
Кри‑Кри ускорил шаг. Его сжигала неутолимая жажда деятельности.
Обойдя строящиеся заграждения на площади Бастилии, на улице Ла‑Рокетт и на бульваре Вольтера, он повернул в сторону улицы Рампонно, где возводили баррикаду по плану Жозефа Бантара.
Здесь было занято всего несколько человек. У тротуара стоял седой, благообразного вида старик. Он окидывал проходящих внимательным взглядом и настойчиво повторял:
– Граждане, ваш камень! Каждый должен принести свою лепту Коммуне и дать хотя бы один камень!
Парижане не спрашивали, что это означает. Теперь, когда баррикады стали неотъемлемой частью парижских улиц, все знали, что каждый вывернутый из мостовой булыжник усиливает шансы на победу.
Красивая дама, постукивая высокими каблуками по плитам тротуара, пересекла путь Кри‑Кри. Пугливо озираясь по сторонам, она хотела проскользнуть незамеченной.
Чуть повысив свой бесстрастный голос, старик произнёс:
– Гражданка, ваш камень!
Женщина испуганно повернулась в сторону старика и произнесла скороговоркой:
– Я тороплюсь к больному отцу, мне некогда!
– Если вы сами не можете, пусть кто‑нибудь сделает это за вас, – настаивал неумолимый старик.
Весеннее, майское солнце, выглянув из‑за облака, осветило золотыми лучами вывернутые камни мостовой, нагромождённые кучи щебня, брёвен, балок и растерянную даму рядом с федератами, трудившимися над постройкой баррикады.
Кри‑Кри неизвестно почему вдруг стало весело. Повернувшись к незнакомке, он залихватски подбросил в воздух кепи и крикнул:
– Для вас, мадемуазель, я готов вывернуть хоть три камня! – И, заметив, что его слова понравились, лукаво добавил: – А для Коммуны – тридцать три!
Старик поднял голову и из‑под нахмуренных бровей взглянул на Кри‑Кри. Всегда улыбающиеся чёрные глаза мальчика и чуть приподнятые кверху уголки губ придавали насмешливое выражение его лицу. Старик ласково похлопал его по плечу:
– Хорошо, мальчик, хорошо! Тебе бы надо под ружьё!
А дама, смутившись, неловко ухватилась обеими руками за камень, приподняла его и снова опустила. Кри‑Кри не заставил себя долго ждать, и камень был тотчас благополучно присоединён ко всё растущей куче булыжника.
Дама бросила мальчику благодарный взгляд, но Кри‑Кри уже совершенно позабыл о ней.
Подражая взрослым федератам, он скинул куртку и, сидя посреди мостовой, начал усердно выворачивать камни из земли. Старик, улыбаясь, глядел на мальчика. А Кри‑Кри, жалуясь не то самому себе, не то старику, бормотал:
– «Под ружьё»! Я и сам хочу под ружьё, но попробуйте убедите моего дядюшку Жозефа Бантара, что я взрослый. Не кочет он меня пускать, да и всё! Говорит, мне ещё рано. А я показал бы, как надо громить версальцев!
И, наверное, Кри‑Кри почудилось, что у него в руках версалец, – с такой силой он набросился на подвернувшийся ему большой булыжник.
Старик понимающе кивнул головой:
– Тебя не пускает дядя, а меня – сын. Говорит, что я повоевал достаточно. Это верно! Немало дрался я на своём веку. И немало выпустил пуль в таких же господ, как те, что наступают сейчас на горло Коммуне. Но стать под ружьё ради Коммуны – это совсем другое дело. Ну ничего, мы ещё пригодимся! Правда, сынок? – И он лукаво посмотрел на Кри‑Кри. – Ну‑ка, подсоби Пьеру!
Кри‑Кри вскочил и подошёл к молодому человеку, который трудился над железной бочкой, подкатывая её к груде булыжника, сваленного посреди мостовой.
– Ваш камень! – продолжал взывать голос старика.
– Ты тут сидишь с утра, и все дают тебе камни. А вот хлеба, наверное, никто не догадался тебе принести! – послышался звонкий голос зеленщицы, подкатившей свою тележку к ногам старика.
Она протянула ему небольшой свёрток.
– Спасибо, Клодина, не откажусь! А как поживает твой маленький коммунар? Всё сидит под капустным листом?
Оба громко рассмеялись, точно два товарища заговорщика, а лицо Клодины, как всегда при упоминании о её единственном сыне, приобрело то особенное выражение, какое свойственно только лицам счастливых матерей.
С первыми лучами солнца пускалась Клодина в путь по улицам квартала с тележкой, нагружённой свежими овощами, на которых блестели капельки росы. Её голос звонко раздавался в утреннем воздухе, когда она выкрикивала на разные лады: «Морковь, петрушка свежая, салат, сельдерей, редиска!..» Живописно выглядела её повозка, на которой были аккуратно разложены шары зелёной и красной капусты, горки тёмной фасоли, кучки ярких, золотившихся на солнце помидоров. Между овощами Клодина втыкала целые букеты из сельдерея, петрушки и укропа. А посреди всего этого великолепия восседал трёхлетний Клод. Ну и радовался же он своей ежедневной прогулке по утреннему Парижу! Ему никогда не надоедало глядеть по сторонам, а матери – перебрасываться с ним весёлыми шутками. Время от времени Клод запускал пухлую ручонку в букеты пунцовой редиски, выбирал самую крупную и с аппетитом вонзал в неё белые, острые, как у маленького зверька, зубы.
Домашние хозяйки, которым Клодина поставляла овощи, охотно оделяли гостинцами весёлого бутуза. Не было человека в квартале, который не знал бы зеленщицы Клодины и её Клода.
Вдали раздался раскатистый залп, за ним последовал другой, но занятые своим делом люди не обратили на них никакого внимания.
Кри‑Кри весь ушёл в работу. Вместе с федератами он таскал камни, укладывал их рядами, громоздил на них мешки и брёвна.
Если и в работе он не отставал, то в песне безусловно был первым. В ритм движениям он затянул куплеты, которые распевал в те времена весь революционный Париж:
Я – Марианна.[26]Марианну
Все в мире знают – друг и враг.
Я веселиться не устану,
Заломлен красный мой колпак!
Иди же, Марианна,
И будет враг разбит.
Буди – уже не рано –
Того, кто спит!
Молотобоец возле горна,
Кузнец, моряк на корабле,
Шахтёр, в дыре сокрытый чёрной,
И старый пахарь на земле!
Вас буржуа лишает хлеба,
Суля на небе радость дней…
Одна издёвка! Пусто небо,
А наши ямы всё полней!
Иди же, Марианна,
И будет враг разбит.
Буди – уже не рано –
Того, кто спит![27]
Глава четвёртая
Три друга
Однако время шло. Как ни был Шарло увлечён своей работой, он отнюдь не собирался опаздывать на торжество свержения колонны. Отбросив в сторону лопату, он стал надевать куртку.
– Здорово, Кри‑Кри! – услышал он позади себя.
Кри‑Кри обернулся и увидел высокого складного юношу. Это был его приятель Гастон Клер. Поверх синей куртки на нём был кожаный фартук, на руке болталась пара деревянных колодок. Он казался значительно выше и старше крепкого, коренастого Кри‑Кри, хотя по возрасту они были почти однолетки. В день объявления Коммуны Гастону исполнилось пятнадцать лет. Кри‑Кри недоставало до пятнадцати трёх месяцев.
У Гастона были мягкие светлые волосы, немного мечтательные голубые глаза. Чуть заметный пушок слабо вырисовывался над верхней губой.
Мальчики подружились не так давно.
Однажды мадам Дидье понадобилось починить туфли, и она послала Кри‑Кри к сапожнику. Там он увидел Гастона, недавно приехавшего в Париж.
Деревенский житель вначале боялся большого города. Шум и непрерывное движение на улицах столицы смущали его.
Кри‑Кри позабыл, что он сам уроженец провинции, и, считая себя теперь истым парижанином, свысока отнёсся к долговязому подмастерью, ничего не понимавшему в деликатной городской обуви. Вместе с другими подмастерьями и мальчишками дома, где жил сапожник, Кри‑Кри называл Гастона «деревенщиной» за его привязанность к сельской жизни. Предметом постоянных шуток была корова Рыжая, принадлежавшая семейству Клер. Простодушный Гастон сам давал повод для таких шуток, делясь получаемыми из дому новостями: сколько Рыжая даёт молока, когда ей время отелиться…
Однажды дядя сердито упрекнул Шарло:
– С каких это пор ты причислил себя к чванным аристократам и начал с презрением отзываться о деревенской жизни? Кому‑кому, а тебе не пристало забывать о том, как тяжела доля крестьянина, который до глубокой старости работает на земле, чтобы платить помещику непосильные подати. Можно только уважать Гастона за то, что он интересуется хозяйством своих родителей. Он‑то не позабыл, что значит для них корова.
Кри‑Кри смутился. Он не сразу понял, почему так обрушился на него дядя Жозеф, и стал было оправдываться:
– Я не хотел обидеть Гастона…
– Ещё бы! – прервал его Жозеф. – Этого только не хватало! Для Гастона тут нет ничего обидного. А за тебя мне стыдно. Ты должен учиться у Гастона, а вместо этого смотришь на него свысока.
С тех пор Шарло стал по‑иному относиться к Гастону. К тому же молодой сапожник оказался охотником до чтения книг, для чего всегда находил время.
Своими увлекательными рассказами о прочитанном Гастон вскоре завоевал уважение Кри‑Кри. Вместе с уважением росла и горячая привязанность к Гастону.
Мадам Дидье по‑своему оценила «долговязого», как она окрестила Гастона с первого дня. Он очень угодил ей своей работой, и она требовала от сапожника, чтобы её ботинки непременно чинил Гастон. И в самом деле, юноша с крестьянским долготерпением готов был десять раз переделать заплатку, если она почему‑либо не нравилась ему самому или заказчику.
Восемнадцатое марта ещё теснее сблизило мальчиков.
В тот памятный день, когда Кри‑Кри рука об руку с дядей Жозефом бесстрашно стоял перед солдатскими штыками, Гастон вдруг заметил поблизости офицера, который вытащил из кобуры револьвер и стал целиться в одного из Бантаров. Гастон тотчас бросился к офицеру, но его опередили: чей‑то приклад опустился на плечо врага и оружие выпало из его рук.
Гастон подобрал револьвер.
Когда солдаты опустили ружья и стали брататься с восставшими парижанами, Гастон подбежал к другу, держа в руках оружие.
– Возьми, Шарло! – крикнул он. – Это твой трофей! В нём пуля, которая предназначалась тебе или дяде Жозефу.
И Гастон рассказал всё, что видел.
Оружие, правда, не досталось мальчикам: его отобрал Жозеф Бантар. Но трофейный револьвер связал их нерушимой дружбой.
Все недоразумения и обиды первых дней знакомства казались давно минувшими. Да и были ли они когда! Ни Кри‑Кри, ни Гастон не помнили об этом…
– Ты что? Камни выворачиваешь? Это дело! – обратился Гастон к Шарло. – Послушай, что я тебе предложу: давай‑ка запишемся в батальон школьников. Я уже договорился с командиром. Да чего там, в самом деле! И Пьер, и Антуан, и Леон уже в батальоне. Сначала туда не принимали до пятнадцати лет, а теперь берут уже и четырнадцатилетних.
– Вот это здорово! – протянул Кри‑Кри, с завистью глядя на товарища. – И я пошёл бы, да… – И Кри‑Кри смущённо почесал затылок.
– Боишься хозяйки? – насмешливо спросил Гастон.
– Что там хозяйка! – рассердился Кри‑Кри. – Очень она мне нужна! Ты же знаешь, мне не велит дядя Жозеф. Не пускает ни за что и всё приговаривает: «Я сам позову тебя, Шарло, на баррикады, когда настанет время». Видно, время ещё не наступило! – в голосе Кри‑Кри послышалась досада.
– Д‑да… – протянул Гастон. – Жозеф Бантар – это дело серьёзное.
– И потом, как оставить Мари? Ей так плохо приходится! Мать всё время хворает.
– Да, Мари без тебя будет трудно, – серьёзно подтвердил Гастон. – Но всё‑таки жаль, что ты не пойдёшь со мной в батальон!
Прислушиваясь к орудийному гулу, он добавил:
– Не унимаются, негодяи! Когда же наконец мы заставим их замолчать! Дядя Жозеф тебе ничего не рассказывал? Ему небось всё известно…
– Кому же, как не члену Коммуны, всё знать! – снова оживился Кри‑Кри. – Дядя говорит, что версальцам никогда не пройти в Париж.
– Так‑то оно так! Но когда наконец наши погонят их подальше от Парижа? – продолжал допытываться Гастон.
– Чудак ты! Версальцам помогают пруссаки, а Париж – один, – объяснял Кри‑Кри своему другу. – Надо подождать, пока не придёт помощь других городов.
– Хорошо бы! Да вот в Лионе и Марселе восстание уже подавлено.
– Ну и что ж из этого! – возразил Кри‑Кри с оттенком упрёка в голосе. – Сегодня подавлено, а завтра снова начнётся. Только бы удержаться, и тогда рабочие повсюду сделают то же, что и в Париже.
– Я и сам так думаю, – согласился Гастон с мнением более осведомлённого Кри‑Кри: официанту кафе чаще выпадает случай услышать интересную новость, чем подмастерью сапожника. Всё же Гастон добавил: – Плохо только, что мы подпустили версальцев так близко к Парижу!
Но И Кри‑Кри не сдавался.
– Это ещё ничего не значит, – с важностью сказал он. – Ты позабыл, что первого марта пруссаки вошли даже в самый Париж. Тогда и вовсе им ничто не мешало, никто в них не стрелял. А долго они тут погуляли? Через два дня убрались восвояси! Невесело им тогда показалось в Париже!
– Ещё бы! – подхватил Гастон. – В какой магазин ни сунутся, всюду висит надпись в чёрной раме: «Закрыто по случаю национального траура». Один молодчик пришёл к тётушке Пишу – у неё своя коза – и просит продать молока, а она ему: «У козы молоко пропало по случаю национального траура». Немец как завопит: «Разрази вас гром! Проклятый город весь населён ведьмами да дьяволами!»
Мальчики весело рассмеялись, вспомнив, какую суровую встречу приготовило население Парижа немецким оккупационным войскам, занявшим район Елисейских полей[28]после позорного перемирия.
Вдруг оба насторожённо прислушались к звонкому голосу, донёсшемуся издалека:
– Душистые фиалки!
– Это Мари! – воскликнул Гастон.
В самом деле, пересекая площадь, к ним приближалась стройная, лёгкая фигурка цветочницы Мари. Слегка согнувшись под тяжестью корзинки с цветами, девочка шла, время от времени выкрикивая мелодичным голосом:
– Купите душистых фиалок! Всего два су!..
– Мари, Мари, сюда!
Вскочив на груду камней, Кри‑Кри стал махать рукой.
Заметив его, девочка ускорила шаг.
Гастон двинулся ей навстречу.
– Мадемуазель, – церемонно начал он, – позвольте представиться: Гастон Клер, бывший подмастерье сапожника Буле, ныне рядовой батальона школьников. Прощай колодки! Прощай передник!
– Может ли это быть! – с чувством произнесла Мари. Её лицо выразило искреннее восхищение. Она забросала Гастона вопросами: – У тебя будет настоящая военная форма? Ты придёшь мне показаться? Когда ты уходишь? Неужели ты получишь ружьё? Разве ты умеешь стрелять?..
Гастон хотел сказать, что умеет, но, бросив взгляд на Кри‑Кри, не решился солгать.
– Не знаю, не пробовал, – честно признался он. – Но хорошо бросаю камни, на лету сшибаю воробья.
– Версальцы мало похожи на воробьёв, – язвительно заметил Шарло. – Вот я так стреляю без промаха. Жаль патронов, а то я показал бы, как надо сшибать воробья не камнем, а пулей. Верно, Мари?
Но девочка не слушала Кри‑Кри. Она больше интересовалась Гастоном, которому было приятно её внимание.
– Не такое уж это трудное дело, – сказал он, взглянув с укором на Кри‑Кри. – Научусь и я. На школьников пока никто не жаловался. Они патронов зря не тратят!.. Но мне пора. Заболтался я тут с вами. Снесу сейчас хозяину вот эти игрушки, – он показал на колодки, – и… прямо на редут!.. Послушай, Мари, подари мне что‑нибудь на память. Уходящим на войну всегда дают какой‑либо пустячок на счастье. Так уж водится…
– С удовольствием! – вспыхнула Мари. – Но что я могу тебе дать? Вот разве цветы. Смотри, какие свежие! Сегодня я раненько пробралась в лес, пока не началась стрельба. Солнце ещё не вставало, а у меня уже были готовы букеты.
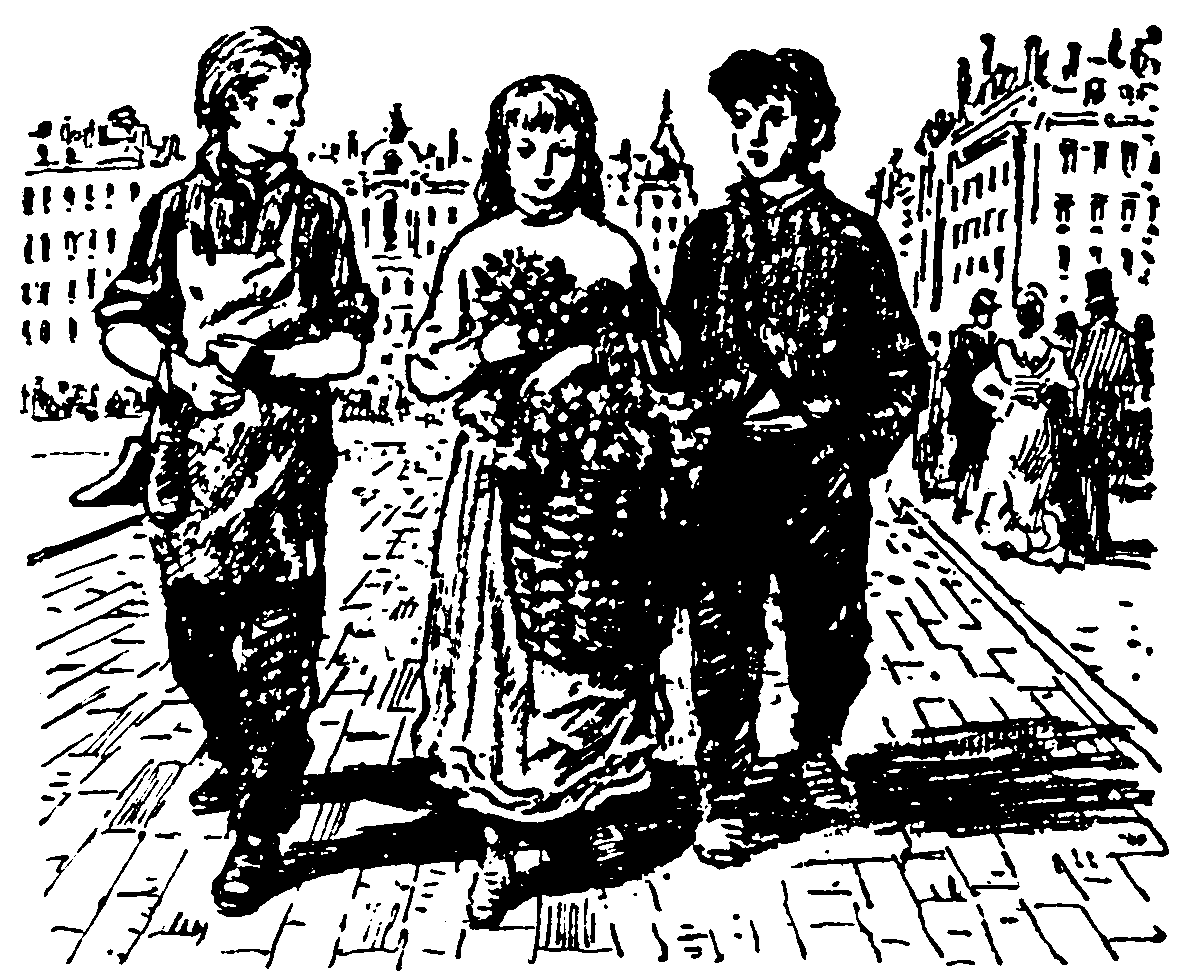
Она выбрала самый пышный букетик крупных фиалок, затем наклонилась и чуть коснулась цветов губами.
Это не укрылось от насмешливого взгляда Шарло. Равнодушным тоном он сказал:
– Уж не Аннет ли Ромар ты подражаешь? Она тоже целовала цветы, передавая их Грегуару, когда он уходил на форт Нейи. Но ведь Аннет его невеста.
– Кто знает, может быть, я не вернусь, – сказал Гастон, чтобы выручить Мари.
В его голосе не было страха, но Мари вздрогнула и схватила обеими руками руку Гастона. Взволнованная, она не находила слов, чтобы выразить переполнявшие её чувства.
После небольшой паузы она ещё раз поцеловала цветы и передала их юному коммунару.
Лицо Гастона просияло.
– До свидания, друзья! Убегаю! – заторопился он.
Стараясь скрыть беспокойство, Мари спросила:
– Ты ещё придёшь, Гастон?
– Непременно! – весело ответил Гастон и пошёл, не оборачиваясь, быстрыми шагами.
Кри‑Кри молча смотрел ему вслед.
Мари привыкла читать мысли своего друга, всегда отражавшиеся на его открытом, подвижном лице. Она без труда поняла, как хотел бы сейчас Кри‑Кри вместе с Гастоном и другими школьниками схватиться с врагом. Она выбрала ещё букет фиалок и протянула его Шарло:
– На, возьми, Кри‑Кри! Это самые лучшие.
– А мне за что? – неожиданно резко сказал Кри‑Кри, не принимая цветов. – Это ты из жалости? Нет уж, обо мне не беспокойся!
Глаза Мари наполнились слезами. Казалось, ещё мгновение – и она расплачется.
Кри‑Кри смутился. Он много бы отдал, чтобы вернуть обидные слова, и поспешил загладить свой промах:
– Я ведь пошутил, Мари… Ну и хорош же я! Совсем забыл! Посмотри, что я тебе принёс.
Он вытащил из кармана лепёшку из тёмной муки, смешанной с отрубями.
Хотя Мари не ела с утра, она обрадовалась не столько хлебцу, сколько раскаянию Кри‑Кри, и сказала:
– Как кстати! Я не могла сегодня купить хлеба. В булочной такие очереди! Если бы ждать, я пришла бы сюда не раньше двенадцати часов.
Она взяла лепёшку и уже откусила было кусочек, как вдруг спохватилась:
– А ты, Кри‑Кри? Это же твоя порция!
– Нет‑нет! – поспешил ответить Шарло. – Кушай на здоровье! Это я приберёг для тебя.
Мари с нескрываемым удовольствием продолжала уписывать лепёшку. Щёки её раскраснелись, глаза заблестели.
– Но мне надо идти! Я сегодня не заработала ещё ни одного су, – вдруг сказала она.
– Желаю тебе удачи! – покровительственно напутствовал её Кри‑Кри. – Мне тоже пора! Ведь сегодня повалят Вандомскую колонну. У меня есть пропуск.
К удивлению Кри‑Кри, сообщённая им важная новость не вызвала у Мари живого отклика. Взволнованная прощанием с Гастоном, она подняла с земли корзинку и медленно пошла вдоль баррикады.
Скоро снова послышалось издали: