Дмитрий Евгеньевич Галковский
Бесконечный тупик
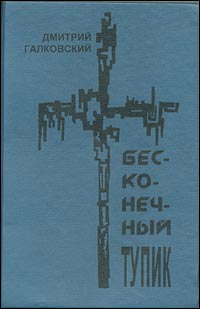
Дмитрий Евгеньевич Галковский
Бесконечный тупик
Моё произведение состоит из трёх частей: вступительной статьи «Закруглённый мир», исходного текста «Бесконечный тупик» и огромных «Примечаний к „Бесконечному тупику“», которые в народе собственно «Бесконечным тупиком» и называют. Фрагменты «Примечаний» в своё время публиковались в советской периодике. В 1997 году я наконец смог издать «Примечания» полностью. С титульного листа я слово «примечания» убрал, чтобы не морочить голову покупателям. Ведь на самом деле «Третья часть» – это совершенно законченное, замкнутое на себя произведение, не нуждающееся в каких‑либо дополнительных филологических конструкциях. По своей сути «Примечания» являются гипертекстом в самом прямом и точном смысле этого слова.
Думаю, что до сих пор это единственное серьёзное гипертекстовое произведение.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
(Москва, Самиздат, 1997 год. Тираж 500 экз.)
«Бесконечный тупик» я закончил в 1988 году. В начале 90‑х отрывки из этого произведения публиковались в более чем двадцати периодических изданиях, в том числе в «Новом мире», «Смене», «Континенте», «Нашем современнике», «Литературной газете», «Независимой газете», «Москве» и т. д. Одновременно в советской прессе против меня поднялась кампания травли. «Бесконечный тупик» категорически отказались печатать десятки издательств. Характерно, что сначала все они обращались ко мне с предложением сотрудничества, а потом всё шло по одной и той же схеме – несколько месяцев проволочек и окончательный вердикт: «Не это нужно нашему народу, потому что это нашему народу не нужно». Кампания травли шла «крещендо» и после последовательного обвинения в графомании, невежестве, антисемитизме, русофобии, хамстве и плагиате дошла, наконец, до степеней неслыханных, вплоть до обвинений в… порнографии!!! Кажется, никто из писателей не подвергался столь последовательному и «разнонаправленному» остракизму даже в годы застоя, особенно если учесть, что эмигрантские средства массовой информации действовали в моём случае в полном единодушии с внутрисоветскими. Постепенно я понял, что публикация фрагментов из моей книги делалась советскими редакторами большей частью специально, чтобы посмеяться. Тогда я отказался вообще от какого‑либо сотрудничества с советской прессой и решил издавать все свои произведения методом «самиздата». Надо сказать, что «Бесконечный тупик» и начал в своё время публиковаться как самиздатское произведение. Его полный текст с конца 80‑х годов ходил по рукам в машинописном виде и ксерокопиях. Я сам сделал около сорока экземпляров, как минимум столько же – сделали читатели. Кроме «столиц» копии моей книги встречались в Ростове‑на‑Дону, Новосибирске, Воронеже и других городах России. За рубежом, насколько я знаю, ксерокопии «Бесконечного тупика» есть в Париже и Токио. Но всё это, конечно, как по качеству, так и по количеству экземпляров не является полноценной публикацией. Типографским способом «Бесконечный тупик» публикуется впервые. И для меня лично, как автора, выход книги в свет осуществляется только сейчас.
|
|
Моя книга на самом деле называется «Примечания к „Бесконечному тупику"“ и состоит из 949 „примечаний“ к небольшому первоначальному тексту. Ввиду того, что „основной текст“ не имеет самостоятельного значения, он вынесен мною за рамки настоящего издания. (Интересующиеся читатели могут его прочесть в 81‑м номере журнала „Континент“ за 1995 г.)
|
|
Каждое из 949 «примечаний» книги представляет собой достаточно законченное размышление по тому или иному поводу. Размер «примечаний» колеблется от афоризма до небольшой статьи. Вместе с тем «Бесконечный тупик» является всё же не сборником, а цельным произведением с определённым сюжетом и смысловой последовательностью. Это философский роман, посвящённый истории русской культуры XIX‑XX вв., а также судьбе «русской личности» – слабой и несчастной, но всё же СУЩЕСТВУЮЩЕЙ.
Структура «Бесконечного тупика» достаточно сложна. Большинство «примечаний» являются комментариями к другим «примечаниям», то есть представляют собой «примечания к примечаниям», «примечания к примечаниям примечаний» и т. д. Для удобства читателей публикуется соответствующий указатель, помещённый в конце книги, а также схема, напечатанная в виде вкладки.
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
(Москва, Самиздат, 1998 год. Тираж 2000 экз.)
В этом издании исправлены замеченные опечатки, а также добавлен именной указатель. Также наконец напечатана вкладка‑схема.
Первое издание – 500 нумерованных экземпляров – вышло в свет в марте 1997 года и было распродано к декабрю. Советская интеллигенция, увидев, что её план «литературного умертвия» неудался, решила меня облагодетельствовать присуждением какой‑то издевательской («Антибукеровской») премии. План был по‑советски прост: заткнуть рот денежной подачкой и тем самым, с одной стороны, дискредитировать автора в глазах его читателей, представить обычным членом сообщества советских пропагандистов, а с другой стороны – избавиться от несмываемого позора девятилетней травли беззащитного человека. Премию советским благополучно вернули назад, по поводу чего было сделано соответствующее заявление (в «Независимой газете» от 14 января и «Русской мысли» от 21 января 1998 г.).
|
|
Первое издание было акцией заведомо некоммерческой. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Александра Паникина и Андрея Хлуса, пожертвовавших на «Бесконечный тупик» по 3 000 долларов. Если бы не помощь этих людей, я не издал бы свою книгу до сих пор. Хотел бы также помянуть добрым словом Александра Рудницкого и Максима Листовского, которые ещё раньше, в начале 90‑х выделили на издание по 1 200 долларов. Этой суммы было недостаточно даже для символического тиража, но на полученные деньги я смог сделать оригинал‑макет, да и просто некоторое время «жить».
Выражаю также большую признательность всем, купившим «Бесконечный тупик» по «коммерческой цене» в 100 долларов. Вот имена этих людей: Сергей Обогуев, Дмитрий Попов (купил 4 экз.), Дроздов, Владимир Фролов, Александр Бовин, Александр Нечипуренко, Анатолий Иголкин, Сергей Мирошников. Эти люди сделали существенный вклад в финансирование проекта и тем самым помогли не только мне, но и вам, читателям второго издания.
И конечно благодарю от всего сердца милую Валю Листовскую, бескорыстно проделавшую огромный труд по корректуре «Бесконечного тупика».
Если уж зашла речь, выражаю также чувство глубочайшего презрения советским литераторам, всем этим золотусским, баткинам, морицам, наврозовым, немзерам и тутти кванти, которые в своём социальном самодовольстве не только не шевельнули пальцем, чтобы помочь своему коллеге, но сделали довольно много, чтобы «Бесконечный тупик» никогда не попал в руки читателей, а я оказался на социальном дне и погиб. Эти люди травили молодого писателя только за то, что он, будучи чужд по своему происхождению и воспитанию касте советских литераторов, осмелился писать не от имени и по поручению той или иной литературной группировки, а «от себя». Делали они это не по принуждению коммунистического режима, а совершенно добровольно и бескорыстно, так сказать, «по зову сердца». Ну, что ж, «по труду и честь».
ЗАКРУГЛЕННЫЙ МИР
Эта небольшая статья была написана мной 15 лет назад для подпольного философского кружка, основанного в университете Дмитрием Барамом. Кружок вскоре распался. Отчасти из‑за слабого состава (единственным человеком, действительно имеющим отношение к философии там был Игорь Маханьков, последний секретарь Лосева), отчасти из‑за очень плохой обстановки в стране («андроповщина» и затем «черненковщина»). Доклад о Розанове я так и не прочёл, в перестроечные годы искажённый кусок «Закруглённого мира» был опубликован в журнале «Социум», а полностью он публикуется только сейчас. «Закруглённый мир» был первым моим произведением, «пошедшим по рукам». Из этого зерна возникла «Основная часть» «Бесконечного тупика», а затем и сам «Бесконечный тупик» («Примечания»). Чем «Закруглённый мир» и интересен. Для меня, а может быть, и для вас…
65 лет назад, 5 февраля 1919 года в Сергиевом Посаде скончался русский философ Василий Васильевич Розанов. С тех пор ни одно его произведение не публиковалось в советской России, а сам он был предан не анафеме даже, а полному и казалось окончательному забвению. И лишь в последние годы в советской печати появился ряд работ, дающих хотя бы краткие и отрывочные сведения о жизни и творчестве этого философа, философа, имя которого по праву занимает одно из первых мест в мартирологе деятелей «серебряного века» русской культуры.
Мережковский, Бердяев, Франк, Булгаков, Флоренский, Шестов – в этом ряду стоит и фамилия Розанова. Все эти люди принадлежали к специфическому явлению нашей культуры, которое носит название русской религиозной философии и берет свое начало в творчестве Владимира Соловьева.
В то же время и личность Розанова и его творчество настолько оригинальны, что он явно не вписывается в общую канву русской религиозно‑философской мысли.
Начнем с того, что, во‑первых, Розанов был гораздо старше своих коллег. Если он родился в 1856 году, то Шестов и Мережковский – в 1866, Булгаков – в 1871, Бердяев – в 1874, Франк – в 1876, а Флоренский – в 1882. То есть в среднем между ними был промежуток в 15 лет. Поэтому можно сказать, что Розанов принадлежал вообще к другому поколению русской интеллигенции. Вместе с самим Соловьевым (который был старше его на три года) он являлся одним из старейших представителей русской религиозной философии.
Во‑вторых, большинство современных Розанову мыслителей имело возможность продолжать свое творчество в эмиграции. Это, с одной стороны, позволяло им осмыслить и переработать пласт философских произведений, написанных в России (и следовательно, выйти на качественно более высокий уровень миропонимания, а с другой – позволило популяризировать и распространять свои мысли перед западной аудиторией. Розанов, как мы знаем, этой возможности был лишен. В результате лишь в 50‑60‑е годы западные исследователи русской философии стали обращать внимание на розановское наследие (Хотя следует оговориться, что в среде русской эмиграции Розанова не то чтобы зачитывали до дыр, но и не забывали. Так в 1929 году в Париже вышла брошюра Курдюмова «О Розанове», а в 1939 году в Берлине была опубликована небольшая работа Спасовского «В.В.Розанов в последние годы своей жизни»).
В‑третьих, Розанов отличался от подавляющего большинства русских философов по своему происхождению. Если отцом Соловьева был официальный историограф Российской империи, а отцом Мережковского – видный чиновник дворцового ведомства, если Бердяев принадлежал к знатной дворянской фамилии, а Шестов был сыном еврейского фабриканта, то Розанов родился в семье бедного провинциального мещанина.
Сам он так отзывался о своем происхождении:
«Удивительно противна мне моя фамилия. Всегда с таким чужим чувством подписываю „В.Розанов“ под статьями. Хоть бы „Руднев“, „Бугаев“, что‑нибудь. Или обыкновенное русское „Иванов“. Иду раз по улице. Поднял голову и прочитал: „Немецкая булочная Розанова“. Ну, так и есть: все булочники „Розановы“, и следовательно все Розановы – булочники. Что таким дуракам (с такой глупой фамилией) и делать.»
Конечно, это ирония. Однако, не только. Далее Розанов продолжает:
«Такая неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом простаивал (когда ученики разойдутся из гимназии) перед большим зеркалом в коридоре – и „сколько тайных слез украдкой пролил“… в душе я думал: – Нет, это кончено. Женщина меня никогда не полюбит, никакая. Что же остается? Уходить в себя, жить с собою, для себя (не эгоистически, а духовно), для будущего. Конечно побочным образом и как „пустяки“, внешняя непривлекательность была причиной самоуглубления.»
В детстве и молодости для Розанова его происхождение, как и его внешность, служило источником нравственных страданий. И лишь в зрелом возрасте он мог со спокойной уверенностью писать:
«На кой черт мне „интересная физиономия“ или еще „новое платье“, когда я сам (в себе, в комке) бесконечно интересен, а по душе – бесконечно стар, опытен, точно мне тысяча лет, и вместе юн, как совершенный ребенок.»
Итак, вроде бы все прошло и на этой стороне розановской биографии можно было бы и не останавливаться; тем более, что родовитым коллегам Розанова не было ровно никакого дела до его происхождения. Правда, «деятели демократического лагеря» любили величать Розанова как минимум «канцелярской крысой», а то и простым русским «хамом». Но на это он спокойно отвечал:
«Со времени „Уединенного“ окончательно утвердилась мысль, что я – Передонов, или Смердяков. Мерси.»
Ведь на что на что, а на тогдашнее «общественное мнение» ему было глубоко наплевать:
«Как мне нравится Победоносцев, который на слова: „Это вызовет дурные толки в обществе“, остановился и – не плюнул, а как‑то выпустил слюну на пол, растер и, ничего не сказав, пошел дальше.»
И все же я считаю, что о низком происхождении Розанова не следует забывать. Не следует уже потому, что он, органически войдя в состав русской духовной и интеллектуальной элиты, в то же время субъективно ощущал себя человеком неизмеримо более близким к народной толще России, знающим что‑то такое, чего окружающим его высоколобым интеллектуалам никогда не понять. Речь здесь идет не о вывернутом наизнанку снобизме, а о том, что Розанов, «сделав себя» исключительно благодаря собственному уму, и ничего кроме ума не имевший – ни знатного происхождения, ни богатства, ни связей, – всегда вольно или невольно относился к своим коллегам с позиции «хитрого мужичка», немного придурковатого, но досконально знающего всю подноготную окружающих его людей. Розанов писал:
«Трех людей я встретил умнее, или вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя: Шперка, Рцы и Флоренского. Первый умер мальчиком (26 лет), ни в чем не выразившись; второй был „Тентетников“, просто гревший на солнце брюшко… Прочие из знаменитых людей, каких я встречал: Рачинский, Страхов, Толстой, Победоносцев, Соловьев, Мережковский, – не были сильнее меня … еще сильнее себя я чувствовал Константина Леонтьева (переписка с ним). Но над всеми перечисленными я имел преимущества хитрости (русское „себе на уме“), и может быть от этого не погиб (литературно), как эти несчастные („неудачники“). С детства, с моего испуганного и замученного детства я взял привычку молчать (и вечно думать). Все молчу… и все слушаю… и все думаю… И дураков, и речи этих умниц… И все бывало во мне зреет, медленно и тихо… Я никуда не торопился, „полежать бы“… И от этой неторопливости, в то время как у них все „порвалось“ или „не дозрело“, у меня и не порвалось и, я думаю, дозрело.»
Действительно, с чего Розанов начал свою творческую биографию? С издания в 1886 году, то есть уже в возрасте 30 лет, серьезной профессиональной работы «О понимании», свидетельствующей о глубоком овладении автором немецкой классической философией. Какое разительное отличие от дебюта Булгакова, Бердяева, Франка и подавляющего большинства других русских философов! Ведь все они в молодости чуть ли не поголовно принадлежали к числу «легальных марксистов», и таким образом их философские взгляды целиком умещались в рамки «ярмарочного писка грошовой истины» и международного трясения зоциаль‑демократическими пеленками. Ужасно, но Бердяева в свое время выгнали из Киевского университета за социалистическую пропаганду. Бердяев член киевского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» – какое пошлое начало для такого крупного и оригинального мыслителя! Булгаков, автор «Света невечернего», был, к стыду своему, и автором «О рынках при капиталистическом производстве», а Шестов, едкий критик и изощренный диалектик, защитил в молодости диссертацию «о положении русского рабочего класса».
Создается впечатление, что русская интеллигенция испытывала в то время какое‑то болезненное влечение к марксистской идеологии. Одной из причин этого являлся в общем‑то низкий уровень философской культуры в тогдашней России. Достаточно сказать, что первый философский журнал («Вера и разум») был основан у нас лишь в 1884 году, то есть более чем столетнего существования русской журналистики. В таких условиях на читающую публику большое впечатление производили в частности научно‑популярные статьи Плеханова. Сам Плеханов был слабо знаком с трудами европейских философов, но любил употреблять выражения типа: «еще Аристотель говорил, что…» или «всем известно знаменитое высказывание Канта…»; или «как писал старик Гегель…» и т. д. Такое панибратское отношение к корифеям мировой философии совершенно деморализовало литературных противников Плеханова, но одновременно – и в этом неоспоримая заслуга русского марксизма – пробуждало интерес к изучению философии. Началось повальное увлечение философской литературой. От Плеханова, бывшего примитивным компилятором энгельсовской «системы», перешли к изучению работ самого Энгельса. При этом выяснилось, что «система» Энгельса есть не что иное, как очень грубая и поверхностная интерпретация гегелевской философии. Поэтому от «энгельсированного» гегельянства, «поставившего Гегеля с ног на голову», перешли к изучению собственно гегелевского наследия. При этом его система стала неизбежно осмысляться как всего лишь часть немецкой классической философии. Тогда от Гегеля перешли к Фихте и Шеллингу, затем к Канту. Возникло русское неокантианство. Оно не дало России первоклассных философов, но его культурное значение было огромно. Оно создало научные кадры и среду для возникновения (и существования) самобытных русских мыслителей.
(Следует оговориться, что приведенная здесь схема во многом условна. В частности, следует учитывать творчество классического славянофильства, но оно не оказало – увы – прямого воздействия на читающую публику. Философская аудитория появилась в России лишь в конце XIX века. И удалось ее создать именно пропагандистам марксизма. Кроме того, конечно трудно расчленить реальный процесс формирования отечественной философии на ряд строго определенных этапов. На самом деле все это было более слито, происходило одновременно на разных уровнях. Но в общем и целом картина была примерно такая.)
Однако причина популярности марксизма в конце прошлого века не исчерпывается его маскировкой под философию. Все‑таки нельзя объяснить все эти «мировоззренческие катаклизмы» русской интеллигенции лишь естественной эволюцией русских философских воззрений. Есть в этом и нечто болезненное, выявляющее какой‑то органический порок тогдашней культуры. Все эти скачки от поверхностной и плоской критики социальной несправедливости к глубочайшему и изощреннейшему умозрению свидетельствовали о каком‑то культурном распаде, о потере цельности и органичности миропонимания. Россия находилась на переломе и этот перелом искалечил и разбил на трудносоединимые звенья творчество русских философов. Где, например, духовное, или на худой конец даже стилистическое единство ранних и поздних работ Бердяева? Ясно же, что статьи о Михайловском и «Самопознание» писали разные люди. Что общего между ссыльным студентом– социалистом и одним из основоположников современного экзистенциализма? У них нет даже общей страны, общей среды, связывающей их хотя бы формально. «Распалась связь времен». Я уже не говорю о Булгакове, сменившем сюртук профессора политэкономии на рясу священника. Воистину, творческая эволюция русских философов преисполнена неожиданностями. Хотя во всех этих головокружительных скачках присутствует своя логика, но это логика превращения гусеницы в бабочку, логика, раскалывающая личность и свидетельствующая о какой‑то мучительной и в то же время наивной работе мысли. Зачем эти публичные раскаяния, это ломание табуреток и биение себя в грудь? Вспомним слова Розанова: «Я взял привычку молчать (и вечно думать)». Вот этого молчания, этой «неторопливости» и не было у других философов. А у Розанова было. И оттого «в то время, как у них все порвалось или недозрело», у него и «не порвалось» и «дозрело».
В самом деле. Розанов пожалуй единственный русский мыслитель, который никогда не менял своих взглядов. И в этом четвертое отличие Розанова. Конечно, в молодости он испытал период нигилизма и атеизма, зачитывался Боклем и Спенсером и т. д. (Говорю «конечно», так как в сущности материализм неизбежен для любого начинающего мыслителя.) Но он молчал. Весь процесс нравственной перестройки произошел у него внутри и не является этапом творческой биографии. Все его творчество вполне цельно и гармонично, и он со спокойной душой подписался под любым своим высказыванием.
Это может показаться парадоксальным, так как сплошь и рядом Розанов по одному и тому же поводу высказывал диаметрально противоположные суждения. По словам Бердяева для Розанова характерно «рабье и бабье мление перед сиюминутной действительностью»:
«(Розанов) не мог противостоять потоку националистической реакции 80‑х годов, не мог противостоять потоку декадентства в начале XX века, не мог противостоять революционному потоку 1905 года, а потом новому реакционному потоку, напору антисемитизма в эпоху Бейлиса, наконец, не может … противостоять подъему героического патриотизма и опасности шовинизма» («О „вечно бабьем“ в русской душе», «Биржевые ведомости», 1915 г., 14‑15 января)
На первый взгляд упрек Бердяева не лишен оснований. Действительно, Розанов всегда шел в фарватере общественных интересов. Его творчество отличалось необычайной «злободневностью». Будучи активнейшим и плодовитейшим публицистом (полное издание его статей займет десятки томов) и одним из ведущих сотрудников знаменитого «Нового времени», Розанов всегда находился в гуще событий, крайне чутко откликаясь на малейшие изменения общественного настроения. Причем, эти отклики могли идти на совершенно разных уровнях. Розанов одной рукой мог писать газетные фельетоны, а другой – философские эссе. Причем, факт удивительный, между тем и другим не было четкой грани. Часто фельетон завершался философским обобщением, а философская лирика прерывалась почти нецензурной руганью. Более того, Розанов мог одновременно оценивать событие с противоположных точек зрения и рассылать свои статьи в издания совершенно разных направлений: от махрово‑черносотенных до махрово‑красных и от научно‑популярных до эстетски‑декадентских. Он был всеяден. Но при такой пестроте, внешнем разнообразии и противоречивости, переходящей иногда в прямое «ренегатство», Розанов всегда оставался самим собой; и какое бы его произведение мы не раскрыли, всегда почувствуем, что автором его является именно Розанов.
Перед самой смертью Розанов в письме к Эриху Голлербаху особо подчеркнул, что его творчество «разрозненное, но внутренне стройное и цельное». В «Уединенном» же Розанов писал:
«Меня даже глупый человек может „водить за нос“, и я буду знать, что он глупый, и что даже ведет меня ко вреду, наконец, „к вечной гибели“: и все‑таки буду за ним идти … Иное дело – мечта: тут я не подвигался даже на скрупул ни под каким воздействием и никогда; в том числе даже и в детстве. В этом смысле я был совершенно „не воспитывающийся“ человек, совершенно не поддающийся „культурному воздействию“ … На виду я – всесклоняемый. В себе (субъект) – абсолютно несклоняем: „не согласуем“. Какое‑то „наречие“.»
Вот этой «абсолютной несклоняемости», этой «внутренней стройности и цельности» Бердяев видимо не смог тогда понять. Не смог понять или хотя бы почувствовать Розанова – «ужасного неряху» и «шалопая», но бывшего, как мы уже знаем, «себе на уме».
«Сочетание хитрости с дикостью (наивностью) – мое удивительное свойство. И с неумелостью в подробностях, в ближайшем – сочетание дальновидности, расчета и опытности в отдаленном, „в конце“.»
Так писал о себе Розанов в «Опавших листьях», произведении, состоящем из нескольких сотен «листьев», в беспорядке насыпанных в короб. Но все‑таки, в конечном счете, «в конце», «в отдаленном» все эти листья сливаются в нашем мозгу в ослепительную точку абсолютной истины, прожигающей перегородку между читателем и писателем. А после этого, после того как розановский мир становится нашим миром, и уже не ясно, где кончаются его мысли и где начинаются наши, после этого совершенно отпадает потребность в какой‑либо системе, то есть откуда‑то извне навязанной схеме. Ведь систематизация нужна для понимания других, а не себя самого. Розанов же становится частью нашего "я". В русской культуре, возможно, лишь еще один человек – Пушкин – обладал этой удивительной способностью органичного проникновения в мир чужого "я".
Пятой принципиальной особенностью Розанова является его глубокая «реакционность». Если большинство русских философов стояло на прямо социалистических или в лучшем случае элементарно либеральных позициях, то Розанов был искренним и последовательным монархистом. В этом отношении он не только стоял особняком к русскому образованному слою, но и подвергался систематическому гонению и травле, вплоть до исключения из числа членов Религиозно‑философского общества.
Это произошло в 1914 году, причем на его место был избран третьестепенный компилятор Г.О.Грузенберг. Исключение тогда мотивировалось как протест против «контрреволюционных» и антисемитских статей Розанова («Не нужно давать амнистии» в «Богословском вестнике», «Андрюша Ющинский» и «Наша кошерная печать» в «Земщине» и др.) Сам факт исключения из Религиозно‑философского общества его старейшего члена, причем исключения по мотивам не имеющим ничего общего ни с религией, ни с философией, был встречен в интеллигентских кругах вполне положительно.
В это время Розанов находился почти в полной изоляции. Его произведения быстро раскупались, он был известен всей России, но у него не было учеников и единомышленников. В сущности, Розанов был духовно одинок и чужд тогдашней России. И лишь в «глубокой эмиграции», в 30‑40‑е годы естественное развитие свободной русской мысли привело к признанию исторической правоты Розанова. Что получилось само собой, «объективно», не смотря на неоднократные и непрекращающиеся попытки «вычеркнуть» Розанова, «исключить» (как историки русской философии такие попытки предпринимали Зеньковский и (особенно) Лосский.) В связи с этим можно сказать, что развитие философии в России шло вне Розанова, было мало связано с его творчеством. Косвенно он оказывал очень большое влияние, но оставался при этом как бы иностранным, нерусским писателем. Или точнее, если посмотреть с точки зрения исторической перспективы, русская философия не была собственно русской, илишь постепенно, через мучительное самоосознание, через многолетние поиски выхода из тупиков, она приобретала национальную сущность. Это и обусловило возникшую сейчас возможность интеграции Розанова в общее русло русской культуры. Отечественная философия развивалась не из Розанова, и не параллельно Розанову, а по направлению к нему.
Таким образом, Розанов, несмотря на то, что был старше других философов, резко обогнал их в своем духовном развитии. Причину этого следует искать не в интеллектуальном превосходстве Розанова, а в его гениальном чутье, в музыкальности его души. Он говорил о том, что «живет в непрерывной поэзии», что «каждый день замечает в жизни что‑нибудь поэтическое». Чуткость Розанова, его удивительная отзывчивость позволяли ему быть предсказателем, провидцем.
Но в этом было и бессилие Розанова. Он видел ту страшную дыру, в которую проваливалась его Россия, и он мог и умел кричать об этом. Умел он и убеждать. Но он не мог доказывать. А ведь его оппонентам были нужны не предсказания и прорицания, а «научные прогнозы». Розанов писал в октябре 1914 года:
"Дана нам красота невиданная
И богатство неслыханное.
Это – Россия.
Но глупые дети все растратили.
Это – русские."
Почему же растратили? Где? Когда? Дайте цифры, выкладки. Известный леволиберальный публицист Иванов‑Разумник тогда писал:
«Как бы то ни было, но несомненно одно: русская интеллигенция может с верой смотреть на свое будущее, черпая силы и уверенность в своем славном прошлом … ее прошлое – изумительно, ее будущее – невообразимо.»
Прошло энное количество лет и Разумник захлебывался кровью в чекистском подвале (ему выбили на допросе все зубы). Больше произведений Разумника в России никогда не печатали. Оказалось, что «не это нужно нашему народу, потому что это нашему народу не нужно».
"И оказались правы одни славянофилы.
Один Катков.
Один Константин Леонтьев."
(Из письма Розанова к Голлербаху 26 августа 1918 года.)
И один Розанов. А поскольку Катков, например, был журналистом, а Леонтьев культурологом, да и жили они в другую эпоху, то Розанов вообще один, один единственный русский философ, который был абсолютно прав (по крайней мере на том уровне, где еще возможна абсолютная правота). И поскольку он шел дальше простых предсказаний и намечал пути выхода из кризиса, причем выхода не в сиюминутно‑утилитарном, а в высшем, духовном плане, то Розанова можно назвать не только гениальным поэтом, но и гениальным политиком, гениальным идеологом, гениальным Учителем. И в этом, думается мне, шестое принципиалное отличие Розанова от прочих русских философов. Среди них были гениальные мыслители, но не было Политиков и Идеологов. Разве можно сравнить философию Булгакова с его жалкой политической деятельностью в качестве члена Государственной Думы? Бердяев был витией, пророком, но лишь в философских и литературных спорах. Пускай его философия прекрасна. Но жить «по Бердяеву» смешно. Чтение его работ возвышает, облагораживает человека, но в них нельзя черпать силы для создания жесткой иерархической структуры своего «я» (а только это может дать основу для противостояния нашему иерархически структурированному обществу).