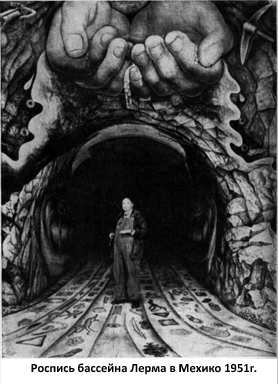Диего Ривера, предоставляя желающим спорить о судьбе монументального искусства в современном мире, твердо знал одно: только в этом искусстве он может по‑настоящему выразить себя, свою Мексику, свою ненасытную любовь к жизни, свою веру в те идеалы, без которых его работа потеряла бы смысл. Он охотно пошел навстречу требованиям, которые предъявила художникам новая архитектура – модернизировал арсенал технических средств, стал чаще, чем раньше, прибегать к декоративным решениям. На стенах стадиона в Университетском городке он выложил огромные мозаичные барельефы из естественного камня: перед расписанным им павильоном водораспределительной станции Лерма поставил среди искусственного озера стилизованную скульптуру индейского бога Тлалока… Однако параллельно с этим Диего не переставал работать в прежней манере – вернее, если можно так выразиться, во всех своих прежних манерах, от повествовательной до плакатной.
Прижизненный классик, он не испытывал недостатка в заказах и пользовался относительной независимостью. К тому же он действовал осмотрительней, чем Сикейрос, – там, где Давид шел напролом, Диего нередко пускался в обход, усыплял подозрения заказчика, а после ставил его перед совершившимся фактом.
Немало шума наделала очередная роспись на втором этаже Национального дворца. Обратившись еще раз к истории завоевания Мексики, Ривера вопреки традиции изобразил Эрнандо Кортеса не статным рыцарем, а омерзительным колченогим уродом. К ропоту мексиканских католиков присоединилась печать франкистской Испании, оскорбленная надругательством над хрестоматийным героем иберийской расы. Диего ответил пространным заявлением, в котором, ссылаясь на последние работы археологов, исследовавших останки конкистадора, доказывал, что тому действительно были присущи все физические дефекты, отмеченные на фреске.
Для выставки мексиканского искусства, открывающейся в Париже, Ривере было поручено написать большое панно. Тема, предложенная художником, – «Кошмар войны и мечта о мире» – не вызвала особого энтузиазма у устроителей выставки, но то, что они увидели вскоре, превзошло самые мрачные их ожидания. В глубине картины вставал грибообразный атомный взрыв, бушевали пожарища, развертывались сцены зверств американских солдат в Корее, выписанные с устрашающими подробностями. На переднем плане стояли, сидели и расхаживали известные деятели мексиканского движения сторонников мира, собирающие на улицах столицы – как это и было в действительности – подписи под Стокгольмским воззванием. А надо всем этим высились монументальные фигуры руководителей социалистических держав, которые протягивали Пакт Мира комической троице, олицетворяющей правителей Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, – Дяде Сэму, Джону Булю и Прекрасной Марианне.
Возмущение официальных лиц усугублялось тем, что автор, едва закончив работу, постарался привлечь к ней всеобщее внимание. Жители столицы повалили во Дворец изящных искусств, где находилось панно. Тысячи людей проходили перед картиной, громко заявляя о солидарности с чувствами, выраженными художником. Американский посол довел до сведения правительства свое неудовольствие. Наконец, Риверу уведомили, что его роспись не только не будет допущена на выставку, но и должна быть немедленно убрана из дворца.
Диего заартачился. Тогда власти прибегли к испытанному средству. «Неизвестные злоумышленники» похитили ночью громадное полотно. Лишь через несколько дней оно было якобы разыскано полицией и доставлено в дом художника в обмен на возвращенный им аванс.
Нет, он не остался в накладе. Еще ни одно его произведение не пользовалось такой известностью, какую завоевала эта отвергнутая картина. В репродукциях она разошлась по всему свету и была признана выдающимся вкладом в дело борьбы за мир. Особенно радовало художника то, что Коммунистическая партия Мексики снова оказывала ему доверие.
В 1952 году Ривера выступил с публичным признанием политических ошибок, совершенных им в минувшие годы. «Я признаю полнейшую справедливость критики, которой подвергала меня коммунистическая партия, – заявил он, – и принимаю эту критику как благородный и братский дар, как протянутую мне руку помощи. Я считаю наибольшим успехом за все время своей творческой деятельности то одобрение, которое заслужила у партии моя роспись «Кошмар войны и мечта о мире». Я выражаю твердую решимость следовать линии партии и надеюсь, что партия еще сочтет возможным восстановить меня в своих рядах».
В конце этого года Диего принял участие в Конгрессе народов в Вене. Оттуда направился в Чили, где произнес большую речь на континентальной конференции деятелей культуры. А в свободные от заседаний часы он написал портрет Матильды Уррутиа, возлюбленной своего старого друга Пабло Неруды. Этому портрету чилийский поэт посвятил один из «Ста сонетов о любви».
Диего Ривера, медведь терпеливый,
в красках искал изумруда лесного,
киноварь – крови внезапную вспышку,
свет всего мира в портрете твоем собирая.
Он написал эту властную линию носа,
искры зрачков твоих, ярко и дерзко раскрытых,
ногти, которым завидует на небе месяц,
летнюю кожу твою и арбузовый рот.
Он написал тебе две головы, две вершины,
два зажженных огнем и любовью арауканских вулкана;
два золотые лица из светящейся глины
он увенчал торжествующим шлемом пожара,
башней державной. И тайно от всех заплутался
профиль мой крошечный в этой пылающей гриве[6]
По возвращении в Мехико Ривера завершил еще одну работу – огромную многофигурную композицию на фасаде только что выстроенного театра «Инсурхентес». «Пластическая проблема, которую предстояло здесь решить, оказалась в высшей степени сложной, – признавался художник. – Поверхность, предназначенная для росписи, была выгнутой; к тому же большинству зрителей придется глядеть на нее из проносящихся мимо автобусов и машин».
Нужно признать, что Диего блестяще справился и с этой задачей. Соединив мозаику с фреской, он создал красочное и увлекательное зрелище, в котором воскресил всю историю сценических искусств в своей стране.
Центральную часть росписи – около трети ее пространства – занимает изображение женских рук, придерживающих перед глазами театральную маску. Вправо, влево и вверх развертывается многоцветная панорама, сверкающая всеми красками радуги.
Три эпохи – древняя, колониальная, современная – представлены здесь своими музыкантами, певцами, танцорами и лицедеями, разыгрывающими эпизоды извечной человеческой драмы: жизнь против смерти, добро против зла, угнетенные против угнетателей. Из пестрой толпы театральных персонажей вырастают фигуры реальных людей, воплотивших в себе народные чаяния, – Идальго, Морелоса, Хуареса, Сапаты. А посередине, как олицетворенное размышление о парадоксальной судьбе искусства в сегодняшней Мексике, стоит знаменитый Кантинфлас – популярнейший актер театра и кино, «мексиканский Чаплин», над похождениями которого ежевечерне хохочет и печалится вся страна. В мятой шляпенке, в сваливающихся штанах, с дырявой накидкой, перекинутой через плечо, стоит он, одной рукой принимая от богачей деньги, а другой – раздавая милостыню беднякам.
VII
«Никто никогда не поймет, как я люблю Диего, – записала однажды в своем дневнике Фрида Кало. – Я хочу одного: чтобы никто не ранил его и не беспокоил, не лишал энергии, которая необходима ему, чтобы жить. Жить так, как ему нравится, – писать, глядеть, любить, есть, спать, уединяться, встречаться с друзьями, но только не падать духом. Если бы я обладала здоровьем, я хотела бы целиком отдать его Диего…»
Увы, здоровье давно уже покинуло ее. Жестокая болезнь – результат полученной в юности травмы – неуклонно развивалась.
«В августе 1953 года, – вспоминает Диего, – ее снова положили в больницу, чтобы до колена отнять ногу, уже пораженную гангреной. Врачи заявили, что, если она не согласится на эту операцию, заражение распространится дальше. С присущим ей мужеством Фрида потребовала произвести ампутацию как можно скорее. Это была ее четырнадцатая операция за шестнадцать лет.
Лишившись ноги, Фрида впала в глубокую депрессию. Ее не могли развлечь даже мои рассказы о похождениях Диего Риверы, которые так забавляли ее раньше. Воля к жизни ее оставила.
Часто в период ее выздоровления мне звонила няня, которая за ней ухаживала: Фрида рыдает и говорит, что хочет умереть. Я немедленно бросал работу и мчался домой, чтобы утешить ее. Как только Фрида несколько успокаивалась, я возвращался к моей росписи и работал дольше обычного, чтобы наверстать потерянные часы. Иногда я так уставал, что засыпал прямо на стуле, установленном на лесах.
В конце концов пришлось организовать круглосуточное дежурство возле постели Фриды. Оплата дежурных сестер, расходы на лекарство настолько превысили сумму, которую я зарабатывал настенными росписями, что я оказался вынужден прирабатывать, наспех делая акварели – иногда даже по две большие акварели в день.
К маю 1954 года Фрида, казалось бы, пришла в себя. Как‑то дождливым июньским вечером она даже настояла на том, чтобы принять участие в демонстрации… и сразу же заболела воспалением легких. Еще на три недели ее уложили в постель. Едва оправившись, она поднялась и вопреки запрещению врачей приняла ванну.
Через три дня последовало резкое ухудшение. Я просидел около Фриды до половины третьего ночи. Часа в четыре утра ей стало совсем плохо. Доктор, явившийся на рассвете, констатировал внезапную смерть от эмболии легких.
Разбуженный, я ворвался в комнату Фриды. Лицо ее было спокойным и выглядело красивее, чем когда‑либо. Как раз накануне вечером она преподнесла мне в подарок кольцо, купленное к двадцатипятилетию нашей свадьбы. Я спросил, почему она делает этот подарок так рано – за семнадцать дней до срока, и она ответила:
– Потому, что я чувствую, что скоро покину тебя.
И все же, хоть она знала, что скоро умрет, она в этот раз была полна решимости бороться за свою жизнь. Иначе зачем бы понадобилось смерти тайком унести последнее дыхание Фриды, застигнув ее во время сна?
Согласно завещанию Фриды гроб с ее телом был покрыт знаменем Коммунистической партии Мексики и установлен во Дворце изящных искусств. Правительственные чиновники‑реакционеры разразились истошными воплями по поводу такой революционной демонстрации, и наш добрый друг Андрес Идуарте, директор Института изящных искусств, был уволен со своего поста за то, что допустил ее. Газеты подхватили скандал и разнесли весть о нем по всему миру.
Но меня все это уже не трогало. 13 июля 1954 года стало самым скорбным днем моей жизни. Я навсегда потерял мою Фриду, мою возлюбленную.
Наш дом в Койокане со всеми моими картинами, принадлежавшими Фриде, я передал государству, чтобы его превратили в музей. Я поставил единственное условие: в доме должен быть оставлен укромный уголок для меня, чтобы всякий раз, когда мне это станет необходимо, я мог бы снова побыть в атмосфере, создающей хотя бы иллюзию присутствия Фриды».
Диего погрузился в отчаяние. Он опустился, зарос, избегал знакомых, не брался за кисть – даже работа стала ему ненавистна. Пробовал напиваться, но и вино на него не действовало.
Минули месяцы, прежде чем он решился снова переступить порог мастерской, где пылились начатые холсты. Безучастно уставился на один из них. Сморщился, заметив ошибку. Рука сама потянулась поправить. Понемногу увлекся. Так и пошло.
Окончательно прийти в себя помогло ему долгожданное событие. В конце 1954 года Диего Ривера был восстановлен в Коммунистической партии Мексики. Жизнь продолжалась.
Проходит полтора года. Апрельским вечером в доме Диего Риверы собираются журналисты. Причин для этого более чем достаточно. Во‑первых, художник вместо с новой женой, владелицей картинной галереи Эммой Уртадо, только что вернулся из Советского Союза, где не был почти тридцать лет. Во‑вторых, его там вылечили от болезни, которую принято считать смертельной. В‑третьих, ходят слухи, что в присланном из Москвы письме он уведомил друзей о своем намерении заменить на фреске в отеле Прадо слова «Бога нет» какими‑нибудь другими, безобидными. В‑четвертых… да мало ли каких сенсаций можно еще ожидать от Риверы!
Диего несколько располнел, но не выглядит постаревшим и прямо‑таки излучает превосходное настроение. Развалившись в кресле, он обводит собравшихся выжидательным взглядом. Младший из журналистов выпаливает вопрос, который вертится на языке у остальных:
– Правда ли, что вас вылечили от… – и запинается, не решаясь произнести зловещее слово.
– От рака, – спокойно договаривает хозяин. – Чистая правда… – И принимается обстоятельнейшим образом, не упуская ни единой подробности, рассказывать о том, как московские врачи под руководством профессора Фрумкина, прибегнув к новейшим методам, с помощью изотопов кобальта избавили его от грозного недуга. Воодушевляясь, он описывает исключительную заботу, которой окружил его весь персонал клиники, от маститых ученых до молоденьких медицинских сестер, самоотверженностью, участливостью, да и красотой напоминавших ему ангелов…
– Ангелов? – переглядываются журналисты. Диего улыбается.
– Да, ангелов – тех, что создал великий русский живописец Андрей Рублев!
– Конечно, всем этим вы обязаны своей мировой славе?
– Вопрос извинительный, – прищуривается Ривера, – для журналиста, живущего в буржуазной стране, в условиях, так сказать, предыстории человечества… Но я побывал в том мире, где человечество вступило в эпоху своей настоящей истории, в мире всеобщего братства и торжествующего гуманизма. Так вот, сеньоры, записывайте: в больнице, где я лежал, находились на излечении мужчины и женщины, принадлежащие ко всем без исключения категориям общества, начиная от самых высокопоставленных руководителей и кончая чернорабочими, начиная от молодых людей и кончая девяностолетними стариками. И каждого из них лечили так же тщательно, каждого окружали таким же заботливым уходом, что и меня, потому что в Советском Союзе любой член общества представляет собой бесконечную ценность.
– Вы вторично приехали в Москву спустя много лет. Какие перемены бросились вам в глаза?
– О переменах можно говорить без конца. Возьму хотя бы такую деталь: очереди. В двадцать седьмом году я видел у магазинов очереди людей, стоящих за продуктами. Видел толпы, бравшие штурмом редкие трамваи. А теперь меня поразила очередь длиною больше километра – люди выстаивали в ней по многу часов, чтобы попасть на выставку картин Дрезденской галереи. И еще очереди – у ювелирных магазинов…
– Понравились ли вам произведения советских художников?
– В Советском Союзе тысячи художников, и, натурально, не все они гении. Однако лучшие из них настолько же отличаются от утонченных эстетов капиталистического мира, насколько страна, где люди стоят в очередях у ювелирных магазинов, отличается от страны, где люди стоят в очередях за углем или дожидаются на границе своей очереди переправиться в Техас, чтобы там продаться в рабство.
Ривера вспоминает о встречах с Сергеем Коненковым, Павлом Кориным, Сергеем Герасимовым.
– Живописцы в Советском Союзе, – говорит он, – обладают ясным рассудком, чистым сердцем и незамутненным зрением; они любят жизнь, любят людей и откровенно выражают свою любовь.
– Уж не заставит ли вас эта поездка что‑либо изменить в собственном творчестве?
– Ничуть! Напротив, теперь я еще решительнее убежден в правильности моего пути, еще энергичнее буду бороться за реалистическое искусство, способствующее построению нового общества.
– Как же в таком случае понимать ваше намерение убрать из фрески в отеле Прадо фразу «Бога нет»?
Диего ждал этого вопроса.
– Чтобы разрушить старый порядок, – объясняет он терпеливо, – нужно опираться на поддержку народа. Мексиканский народ нуждается прежде всего в создании единого национального фронта, который подымет самые широкие слои населения на защиту нашей экономической, политической и культурной независимости. Стремясь посильно способствовать достижению национального единства, я и принял решение отказаться от надписи «Бога нет», потому что цель моей работы состоит не в том, чтобы отталкивать верующих, а в том, чтобы помочь и им увидеть движение нашей истории, пути, ведущие к освобождению народа.
– Болезнь, по‑видимому, помешала вам привезти из поездки новые произведения?
– Помешать мне могла бы только смерть. Находясь в клинике, а потом в санатории, я сделал множество зарисовок, писал портреты, пейзажи. В день празднования тридцать восьмой годовщины Октябрьской революции мне удалось отпроситься из больницы, и, стоя на балконе гостиницы «Националь», я набросал демонстрацию трудящихся, могучим потоком вливавшуюся на Красную площадь, а потом превратил набросок в картину. В ближайшее время я собираюсь устроить выставку работ, посвященных миру социализма.
– Еще один вопрос, сеньор Ривера. Почему все‑таки вы стали коммунистом?
Ривера отвечает не задумываясь:
– По глубоко личным соображениям. – И, забавляясь недоумением журналистов, поясняет: – Видите ли, для меня жить – значит радоваться, а я не умею радоваться в одиночку. Мне нужно, чтобы и все вокруг были счастливы. Весь мой народ. Все люди на земле.
Воскресное утро. На площади Сокало Ривера вылезает из автомобиля и смешивается с толпой гуляющих. Надо бы заглянуть в Национальный дворец, где предстоит еще немало работы, но сегодня ему хочется побездельничать. Неторопливо бредет он, ни во что особенно не всматриваясь, наслаждаясь свежестью вешнего воздуха, знакомым шумом столицы, долетающими до него возгласами: «Глядите, Диего идет!» Теперь он по‑настоящему дома.
Уже пройдя мимо ряда цветочниц, он останавливается. Что это было? Да, алые маки среди зелени на белом, разостланном на коленях платке…
Он возвращается. Вот она, эта фигура, коренастая, грубая и вместе с тем неотразимо женственная. По округлым плечам струятся заплетенные косы, связанные узлом на груди.
Между косами, словно в черной раме, бронзовое, скуластое замкнутое лицо.
Присев на скамейку напротив, Диего вытаскивает блокнот. Его грузное семидесятилетнее тело могло бы показаться окаменевшим, если бы не еле заметные движения руки, сжимающей карандаш, не пристальный, цепкий, ненасытный взгляд. А кругом кипит столичная площадь, и на тысячи верст окрест простирается бессмертная Мексика, которая в эту минуту еще раз встречается сама с собою на крохотном бумажном клочке.
И это, пожалуй, самая подходящая минута, чтобы закончить рассказ о художнике Диего Ривере.