АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА
АЭЛИТА
Детгиз, 1959
Содержание
Гиперболоид инженера Гарина. Роман. Рисунки В.Богаткина
Аэлита. Фантастическая повесть. Рисунки И.Архипова
В.Щербина. Научно-фантастические произведения А.Н.Толстого
ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА
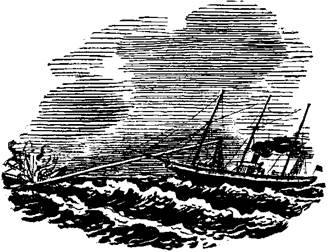
Этот роман написан в 1926–1927 годах. Переработан, со включением новых глав, в 1937 году.
Автор

В этом сезоне деловой мир Парижа собирался к завтраку в гостиницу «Мажестик». Там можно было встретить образцы всех наций, кроме французской. Там между блюдами велись деловые разговоры и заключались сделки под звуки оркестра, хлопанье пробок и женское щебетанье.
В великолепном холле гостиницы, устланном драгоценными коврами, близ стеклянных крутящихся дверей, важно прохаживался высокий человек, с седой головой и энергичным бритым лицом, напоминающим героическое прошлое Франции. Он был одет в черный широкий фрак, шелковые чулки и лакированные туфли с пряжками. На груди его лежала серебряная цепь. Это был верховный швейцар, духовный заместитель акционерного общества, эксплуатирующего гостиницу «Мажестик».
Заложив за спину подагрические руки, он останавливался перед стеклянной стеной, где среди цветущих в зеленых кадках деревьев и пальмовых листьев обедали посетители. Он походил в эту минуту на профессора, изучающего жизнь растений и насекомых за стенкой аквариума.
Женщины были хороши, что и говорить. Молоденькие прельщали молодостью, блеском глаз: синих – англосаксонских, темных, как ночь, – южноамериканских, лиловых – французских. Пожилые женщины приправляли, как острым соусом, блекнущую красоту необычайностью туалетов.
Да, что касается женщин, – все обстояло благополучно. Но верховный швейцар не мог того же сказать о мужчинах, сидевших в ресторане.
Откуда, из каких чертополохов после войны вылезли эти жирненькие молодчики, коротенькие ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспаленными щеками, трудно поддающимися бритве?
Они суетливо глотали всевозможные напитки с утра до утра. Волосатые пальцы их плели из воздуха деньги, деньги, деньги… Они ползли из Америки по преимуществу, из проклятой страны, где шагают по колена в золоте, где собираются по дешевке скупить весь добрый старый мир.
К подъезду гостиницы бесшумно подкатил рольс-ройс – длинная машина с кузовом из красного дерева. Швейцар, бренча цепью, поспешил к крутящимся дверям.
Первым вошел желтовато-бледный человек небольшого роста, с черной коротко подстриженной бородой, с раздутыми ноздрями мясистого носа. Он был в мешковатом длинном пальто и в котелке, надвинутом на брови.
Он остановился, брюзгливо поджидая спутницу, которая говорила с молодым человеком, выскочившим навстречу автомобилю из-за колонны подъезда. Кивнув ему головой, она прошла сквозь крутящиеся двери. Это была знаменитая Зоя Монроз, одна из самых красивых женщин Парижа,- сероглазая, тонкая, высокая,в белом суконном костюме.
– Мы будем обедать, Роллинг? – спросила она человека в котелке.
– Нет. Я буду с ним говорить до обеда. 
Зоя Монроз усмехнулась, как бы снисходительно извиняя резкий тон ответа. В это время в дверь проскочил молодой человек, говоривший с Зоей Монроз у автомобиля. Он был в распахнутом стареньком пальто, с тростью и мягкой шляпой в руке. Возбужденное лицо его было покрыто веснушками. Редкие жесткие усики точно приклеены. Он намеревался, видимо, поздороваться за руку, но Роллинг, не вынимая рук из карманов пальто, сказал еще резче:
– Вы опоздали на четверть часа, Семенов.
– Меня задержали… По нашему же делу… Ужасно извиняюсь… Все устроено… Они согласны… завтра могут выехать в Варшаву…
– Если вы будете орать на всю гостиницу, вас выведут, – сказал Роллинг, уставившись на него мутноватыми глазами, не обещающими ничего доброго.
– Простите – я шепотом… В Варшаве все уже подготовлено: паспорта, одежда, оружие и прочее. В первых числах апреля они перейдут границу…
– Сейчас я и мадемуазель Монроз будем обедать, – сказал Роллинг, – вы поедете к этим господам и передадите им, что я желаю их видеть сегодня в начале пятого. Предупредите, что, если они вздумают водить меня за нос, – я выдам их полиции…
Этот разговор происходил в начале мая 192… года.
В Ленинграде на рассвете, близ бонов[1] гребной школы, на реке Крестовке остановилась двухвесельная лодка.
Из нее вышли двое, и у самой воды произошел у них короткий разговор, – говорил только один – резко и повелительно, другой глядел на полноводную, тихую, темную реку.
За чащами Крестовского острова, в ночной синеве, разливалась весенняя заря.
Затем эти двое наклонились над лодкой, огонек спички осветил их лица. Они вынули со дна лодки свертки, и тот, кто молчал, взял их и скрылся в лесу, а тот, кто говорил, прыгнул в лодку, оттолкнулся от берега и торопливо заскрипел уключинами. Очертание гребущего человека прошло через заревую полосу воды и растворилось в тени противоположного берега. Небольшая волна плеснула на боны.
Спартаковец Тарашкин, «загребной» на гоночной распашной гичке, дежурил в эту ночь в клубе. По молодости лет и весеннему времени, вместо того чтобы безрассудно тратить на спанье быстролетные часы жизни, Тарашкин сидел над сонной водой на бонах, обхватив коленки.
В ночной тишине было о чем подумать. Два лета подряд проклятые москвичи, не понимающие даже запаха настоящей воды, били гребную школу на одиночках, на четверках и на восьмерках. Это было обидно.
Но спортсмен знает, что поражение ведет к победе. Это одно, да еще, пожалуй, прелесть весеннего рассвета, пахнущего острой травкой и мокрым деревом, поддерживали в Тарашкине присутствие духа, необходимое для тренировки перед большими июньскими гонками.
Сидя на бонах, Тарашкин видел, как пришвартовалась и затем ушла двухвесельная лодка. Тарашкин относился спокойно к жизненным явлениям. Но здесь показалось ему странным одно обстоятельство: двое высадившиеся на берегу были похожи друг на друга, как два весла. Одного роста, одеты в одинаковые широкие пальто, у обоих мягкие шляпы, надвинутые на лоб, и одинаковая остренькая бородка.
Но в конце концов в республике не запрещается шататься по ночам, посуху и по воде, со своим двойником. Тарашкин, наверно, тут же бы и забыл о личностях с острыми бородками, если бы не странное событие, происшедшее в то же утро поблизости гребной школы в березовом леску в полуразвалившейся дачке с заколоченными окнами.
Когда из розовой зари над зарослями островов поднялось солнце, Тарашкин хрустнул мускулами и пошел во двор клуба собирать щепки. Время было шестой час в начале. Стукнула калитка, и по влажной дорожке, ведя велосипед, подошел Василий Витальевич Шельга. 
Шельга был хорошо тренированный спортсмен, мускулистый и легкий, среднего роста, с крепкой шеей, быстрый, спокойный и осторожный. Он служил в уголовном розыске и спортом занимался для общей тренировки.
– Ну, как дела, товарищ Тарашкин? Все в порядке? – спросил он, ставя велосипед у крыльца. – Приехал повозиться немного… Смотри – мусор, ай, ай.
Он снял гимнастерку, закатал рукава на худых мускулистых руках и принялся за уборку клубного двора, еще заваленного материалами, оставшимися от ремонта бонов.
– Сегодня придут ребята с завода, – за одну ночь наведем порядок, – сказал Тарашкин. – Так как же, Василий Витальевич, записываетесь в команду на шестерку?
– Не знаю, как и быть, – сказал Шельга, откатывая смоляной бочонок, – москвичей, с одной стороны, бить нужно, с другой – боюсь, не смогу быть аккуратным… Смешное дело одно у нас навертывается.
– Опять насчет бандитов что-нибудь?
– Нет, поднимай выше – уголовщина в международном масштабе.
– Жаль, – сказал Тарашкин, – а то бы погребли.
Выйдя на боны и глядя, как по всей реке играют солнечные зайчики, Шельга стукнул черенком метлы и вполголоса позвал Тарашкина:
– Вы хорошо знаете, кто тут живет поблизости на дачах?
– Живут кое-где зимогоры.
– А никто не переезжал в одну из этих дач в середине марта?
Тарашкин покосился на солнечную реку, почесал ногтями ноги другую ногу.
– Вон в том лесишке заколоченная дача, – сказал он, – недели четыре назад, это я помню, гляжу – из трубы дым. Мы так и подумали – не то там беспризорные, не то бандиты.
– Видели кого-нибудь с той дачи?
– Постойте, Василий Витальевич. Их-то я, должно быть, и видел сегодня.
И Тарашкин рассказал о двух людях, причаливших на рассвете к болотистому берегу.
Шельга поддакивал: «так, так», острые глаза его стали, как щелки.
– Пойдем, покажи дачу, – сказал он и тронул висевшую сзади на ремне кобуру револьвера.
Дача в чахлом березовом леску казалась необитаемой, – крыльцо сгнило, окна заколочены досками поверх ставен. В мезонине выбиты стекла, углы дома под остатками водосточных труб поросли мохом, под подоконниками росла лебеда.

– Вы правы – там живут, – сказал Шельга, осмотрев дачу из-за деревьев, потом осторожно обошел ее кругом. – Сегодня здесь были… Но за каким дьяволом им понадобилось лазить в окошко? Тарашкин, идите-ка сюда, здесь что-то неладно.
Они быстро подошли к крыльцу. На нем были видны следы ног. Налево от крыльца на окне висела боком ставня – свежесорванная. Окно раскрыто внутрь. Под окном, на влажном песке – опять отпечатки ног. Следы большие, видимо тяжелого человека, и другие – поменьше, узкие – носками внутрь.
– На крыльце следы другой обуви, – сказал Шельга.
Он заглянул в окно, тихо свистнул, позвал: «Эй, дядя, у вас окошко отворено, кабы чего не унесли». Никто не ответил. Из полутемной комнаты тянуло сладковатым неприятным запахом.
Шельга позвал громче, поднялся на подоконник, вынул револьвер и мягко спрыгнул в комнату. Полез за ним и Тарашкин.
Первая комната была пустая, под ногами валялись битые кирпичи, штукатурка, обрывки газет. Полуоткрытая дверь вела в кухню. Здесь на плите под ржавым колпаком, на столах и табуретах стояли примусы, фарфоровые тигли, стеклянные, металлические реторты, банки и цинковые ящики. Один из примусов еще шипел, догорая.
Шельга опять позвал: «Эй, дядя!» Покачал головой и осторожно приотворил дверь в полутемную комнату, прорезанную плоскими, сквозь щели ставен, лучами солнца.
– Вон он! – сказал Шельга.
В глубине комнаты на железной кровати, навзничь, лежал одетый человек. Руки его были закинуты за голову и прикручены к прутьям кровати. Ноги обмотаны веревкой. Пиджак и рубашка на груди разорваны. Голова неестественно запрокинута, остро торчала бородка.
– Ага, вот они как его, – сказал Шельга, осматривая под соском убитого до рукоятки загнанный финский нож. – Пытали… Смотрите…
– Василий Витальевич, это тот самый, кто на лодке приплыл. Его не больше как часа полтора назад убили.
– Будьте здесь, караульте, ничего не трогать, никого не пускать, – слышите, Тарашкин?
Через несколько минут Шельга говорил по телефону из клуба:
– Наряд на вокзалы… Проверять всех пассажиров… Наряды по всем гостиницам. Проверить всех, кто возвратился между шестью и восемью утра. Агента и собаку в мое распоряжение.
До прибытия собаки-ищейки Шельга приступил к тщательному осмотру дачи, начиная с чердака.
Повсюду валялся мусор, битое стекло, обрывки обоев, ржавые банки от консервов. Окна затянуты паутиной, в углах – плесень, грибы. Дача, видимо, была заброшена еще с 1918 года. Обитаемыми оказались только кухня и комната с железной кроватью. Нигде ни признака удобств, никаких остатков еды, кроме найденной в кармане убитого французской булки и куска чайной колбасы.
Здесь не жили, сюда приезжали делать что-то, что нужно было скрывать. Таков был первый вывод, сделанный Шельгой в результате обыска. Обследование кухни показало, что здесь работали над какими-то химическими препаратами. Исследуя кучки золы на плите под колпаком, где, очевидно, производились химические пробы, перелистав несколько брошюр с загнутыми уголками страниц, он установил второе: убитый человек занимался всего-навсего обыкновенной пиротехникой[2].
Такое умозаключение поставило Шельгу в тупик. Он еще раз обыскал платье убитого – нового ничего не обнаружил. Тогда он подошел к вопросу с другой стороны.
Следы ног у окна показывали, что убийц было двое, что они проникли через окно, неминуемо рискуя встретить сопротивление, так как человек на даче не мог не услышать треска срываемой ставни.
Это означало, что убийцам нужно было во что бы то ни стало либо получить что-то чрезвычайно важное, либо умертвить человека на даче.
Далее: если предположить, что они хотели просто умертвить его, то, во-первых, они могли это сделать проще, скажем, подкараулив его где-нибудь по пути на дачу, и, во-вторых, положение убитого на кровати показывало, что его пытали, зарезан он был не сразу. Убийцам нужно было узнать что-то от этого человека, чего он не хотел сказать.
Что они могли выпытывать у него? Деньги? Трудно предположить, чтобы человек, отправляясь ночью на заброшенную дачу заниматься пиротехникой, стал брать с собой большие деньги. Вернее – убийцы хотели узнать какую-то тайну, связанную с ночными занятиями убитого.
Таким образом, ход мыслей привел Шельгу к новому исследованию кухни. Он отодвинул от стены ящики и обнаружил квадратный люк в подвал, который часто устраивают на дачах прямо под полом кухни. Тарашкин зажег огарок и лег на живот, освещая сырое подполье, куда Шельга осторожно спустился по тронутой гнилью, скользкой лестнице.
– Идите-ка сюда со свечкой, – крикнул из темноты Шельга, – вот где у него была настоящая-то лаборатория.
Подвал занимал площадь под всей дачей: у кирпичных стен стояло несколько дощатых столов на козлах, баллоны с газом, небольшой мотор и динамо, стеклянные ванны, в которых обычно производят электролиз, слесарные инструменты и повсюду на столах – кучки пепла…
– Вот он чем тут занимался, – с некоторым недоумением сказал Шельга, рассматривая прислоненные к стене подвала толстые деревянные бруски и листы железа. И листы и бруски во многих местах были просверлены, иные разрезаны пополам, места разрезов и отверстий казались обожженными и оплавленными.
В дубовой доске, стоящей торчмя, отверстия эти были диаметром в десятую долю миллиметра, будто от укола иголкой. Посередине доски выведено большими буквами «П. П. Гарин». Шельга перевернул доску, и на обратной стороне оказались те же навыворот буквы: каким-то непонятным способом трехдюймовая доска была прожжена этой надписью насквозь.
– Фу ты, черт, – сказал Шельга, – нет, П. П. Гарин здесь не пиротехникой занимался.
– Василий Витальевич, а это что такое? – спросил Тарашкин, показывая пирамидку дюйма в полтора высоты, около дюйма в основании, спрессованную из какого-то серого вещества.
– Где вы нашли?
– Их там целый ящик.
Повертев, понюхав пирамидку, Шельга поставил ее на край стола, воткнул сбоку в нее зажженную спичку и отошел в дальний угол подвала. Спичка догорела, пирамидка вспыхнула ослепительным бело-голубоватым светом. Горела пять минут с секундами без копоти, почти без запаха.
– Рекомендую в следующий раз таких опытов не производить, – сказал Шельга, – пирамидка могла оказаться газовой свечкой. Тогда бы мы не ушли из подвала. Очень хорошо, – что же мы узнали? Попробуем установить: во-первых, убийство было не с целью мщения или грабежа. Во-вторых, установим фамилию убитого – П. П. Гарин. Вот пока и все. Вы хотите возразить, Тарашкин, что, может быть, П. П. Гарин тот, кто уехал на лодке. Не думаю. Фамилию на доске написал сам Гарин. Это психологически ясно. Если бы я, скажем, изобрел какую-нибудь такую замечательную штуку, то уж наверно от восторга написал бы свою фамилию, но уж никак не вашу. Мы знаем, что убитый работал в лаборатории; значит, он и есть изобретатель, то есть – Гарин.
Шельга и Тарашкин вылезли из подвала и, закурив, сели на крылечке, на солнцепеке, поджидая агента с собакой.
На главном почтамте в одно из окошек приема заграничных телеграмм просунулась жирная красноватая рука и повисла с дрожащим телеграфным бланком.
Телеграфист несколько секунд глядел на эту руку и, наконец, понял: «Ага, пятого пальца нет – мизинца», и стал читать бланк.
«Варшава, Маршалковская, Семенову. Поручение выполнено наполовину, инженер отбыл, документы получить не удалось, жду распоряжений. Стась».
Телеграфист подчеркнул красным – Варшава. Поднялся и, заслонив собой окошечко, стал глядеть через решетку на подателя телеграммы. Это был массивный, средних лет человек, с нездоровой, желтовато-серой кожей надутого лица, с висячими, прикрывающими рот желтыми усами. Глаза спрятаны под щелками опухших век. На бритой голове коричневый бархатный картуз.
– В чем дело? – спросил он грубо. – Принимайте телеграмму.
– Телеграмма шифрованная, – сказал телеграфист.
– То есть как – шифрованная? Что вы мне ерунду порете! Это коммерческая телеграмма, вы обязаны принять. Я покажу удостоверение, я состою при польском консульстве, вы ответите за малейшую задержку.
Четырехпалый гражданин рассердился и тряс щеками, не говорил, а лаял, – но рука его на прилавке окошечка продолжала тревожно дрожать.
– Видите ли, гражданин, – говорил ему телеграфист, – хотя вы уверяете, будто ваша телеграмма коммерческая, а я уверяю, что – политическая, шифрованная.
Телеграфист усмехался. Желтый господин, сердясь, повышал голос, а между тем телеграмму его незаметно взяла барышня и отнесла к столу, где Василий Витальевич Шельга просматривал всю подачу телеграмм этого дня.
Взглянув на бланк: «Варшава, Маршалковская», он вышел за перегородку в зал, остановился позади сердитого отправителя и сделал знак телеграфисту. Тот, покрутив носом, прошелся насчет панской политики и сел писать квитанцию. Поляк тяжело сопел от злости, переминаясь, скрипел лакированными башмаками. Шельга внимательно глядел на его большие ноги. Отошел к выходным дверям, кивнул дежурному агенту на поляка:
– Проследить.
Вчерашние поиски с ищейкой привели от дачи в березовом леску к реке Крестовке, где и оборвались: здесь убийцы, очевидно, сели в лодку. Вчерашний день не принес новых данных. Преступники, по всей видимости, были хорошо скрыты в Ленинграде. Не дал ничего и просмотр телеграмм. Только эта последняя, пожалуй, – в Варшаву Семенову, – представляла некоторый интерес.
Телеграфист подал поляку квитанцию, тот полез в жилетный карман за мелочью. В это время к окошечку быстро подошел с бланком в руке красивый темноглазый человек с острой бородкой и, поджидая, когда место освободится, со спокойным недоброжелательством глядел на солидный живот сердитого поляка.
Затем Шельга увидел, как человек с острой бородкой вдруг весь подобрался: он заметил четырехпалую руку и сейчас же взглянул поляку в лицо.
Глаза их встретились. У поляка отвалилась челюсть. Опухшие веки широко раскрылись. В мутных глазах мелькнул ужас. Лицо его, как у чудовищного хамелеона, изменилось – стало свинцовым.
И только тогда Шельга понял, – узнал стоявшего перед поляком человека с бородкой: это был двойник убитого на даче в березовом леску на Крестовском…
Поляк хрипло вскрикнул и понесся с невероятной быстротой к выходу. Дежурный агент, которому было приказано лишь следить за ним издали, беспрепятственно пропустил его на улицу и проскользнул вслед.
Двойник убитого остался стоять у окошечка. Холодные, с темным ободком, глаза его не выражали ничего, кроме изумления. Он пожал плечом и, когда поляк скрылся, подал телеграфисту бланк:
«Париж, бульвар Батиньоль, до востребования, номеру 555. Немедленно приступите к анализу, качество повысить на пятьдесят процентов, в середине мая жду первой посылки. П. П.».
– Телеграмма касается научных работ, ими сейчас занят мой товарищ, командированный в Париж Институтом неорганической химии, – сказал он телеграфисту. Затем не спеша потянул из кармана папиросную коробку, постукал папиросой и осторожно закурил ее. Шельга учтиво сказал ему:
– Разрешите вас на два слова.
Человек с бородкой взглянул на него, опустил ресницы и ответил с крайней любезностью:
– Пожалуйста.
– Я агент уголовного розыска, – сказал Шельга, приоткрывая карточку, – может быть, поищем более удобное место для разговора.
– Вы хотите арестовать меня?
– Ни малейшего намерения. Я хочу вас предупредить, что поляк, который отсюда выбежал, намерен вас убить, так же как вчера на Крестовском он убил инженера Гарина.
Человек с бородкой на минуту задумался. Ни вежливость, ни спокойствие не покинули его.
– Пожалуйста, – сказал он, – идемте, у меня четверть часа свободного времени.
На улице близ почтамта к Шельге подбежал дежурный агент – весь красный, в пятнах:
– Товарищ Шельга, он ушел.
– Зачем же вы его упустили?
– Его автомобиль ждал, товарищ Шельга.
– Где ваш мотоциклет?
– Вон валяется, – сказал агент, показывая на мотоцикл в ста шагах от почтамтского подъезда, – он подскочил и ножом по шине. Я засвистал. Он – в машину и – ходу.
– Заметили номер автомобиля?
– Нет.
– Я подам на вас рапорт.
– Так как же, когда у него номер нарочно весь грязью залеплен?
– Хорошо, идите в угрозыск, через двадцать минут я буду.
Шельга догнал человека с бородкой. Некоторое время они шли молча. Свернули к бульвару Профсоюзов.
– Вы поразительно похожи на убитого, – сказал Шельга.
– Мне это неоднократно приходилось слышать, моя фамилия Пьянков-Питкевич, – с готовностью ответил человек с бородкой. – Во вчерашней вечерней я прочел об убийстве Гарина. Это ужасно. Я хорошо знал этого человека, дельный работник, прекрасный химик. Я часто бывал в его лаборатории на Крестовском. Он готовил крупное открытие по военной химии. Вы имеете понятие о так называемых дымовых свечах?
Шельга покосился на него, не ответил, спросил:
– Как вы думаете – убийство Гарина связано с интересами Польши?
– Не думаю. Причина убийства гораздо глубже. Сведения о работах Гарина попали в американскую печать. Польша могла быть только передаточной инстанцией.
На бульваре Шельга предложил присесть. Было безлюдно. Шельга вынул из портфеля вырезки из русских и иностранных газет, разложил на коленях.
– Вы говорите, что Гарин работал по химии, сведения о нем проникли в зарубежную печать. Здесь кое-что совпадает с вашими словами, кое-что мне не совсем ясно. Вот прочтите:
«…В Америке заинтересованы сообщением из Ленинграда о работах одного русского изобретателя. Предполагают, что его прибор обладает наиболее могучей, изо всех известных до сих пор, разрушительной силой».
Питкевич прочел и – улыбаясь:
– Странно, – не знаю… Не слышал про это. Нет, это не про Гарина.
Шельга протянул вторую вырезку:
«…В связи с предстоящими большими маневрами американского флота в тихоокеанских водах был сделан запрос в военном министерстве, – известно ли о приборах колоссальной разрушительной силы, строящихся в Советской России».
Питкевич пожал плечами: «Чепуха», – и взял у Шельги третью вырезку:
«…Химический король, миллиардер Роллинг, отбыл в Европу. Его отъезд связан с организацией треста заводов, обрабатывающих продукты угольной смолы и поваренной соли. Роллинг дал в Париже интервью, выразив уверенность, что его чудовищный химический концерн[3] внесет успокоение в страны Старого Света, потрясаемые революционными силами. В особенности агрессивно Роллинг говорил о Советской России, где, по слухам, ведутся загадочные работы над передачей на расстояние тепловой энергии».
Питкевич внимательно прочел. Задумался. Сказал, нахмурив брови:
– Да. Весьма возможно, – убийство Гарина связано как-то с этой заметкой.
– Вы спортсмен? – неожиданно спросил Шельга, взял руку Питкевича и повернул ее ладонью вверх. – Я страстно увлекаюсь спортом.
– Вы смотрите, нет ли у меня мозолей от весел, товарищ Шельга… Видите – два пузырька, – это указывает, что я плохо гребу и что я два дня тому назад действительно греб около полутора часов подряд, отвозя Гарина в лодке на Крестовский остров… Вас удовлетворяют эти сведения?
Шельга отпустил его руку и засмеялся:
– Вы молодчина, товарищ Питкевич, с вами любопытно было бы повозиться всерьез.
– От серьезной борьбы я никогда не отказываюсь.
– Скажите, Питкевич, вы знали раньше этого поляка с четырьмя пальцами?
– Вы хотите знать, почему я изумился, увидя у него четырехпалую руку? Вы очень наблюдательны, товарищ Шельга. Да, я изумился… больше – я испугался.
– Почему?
– Ну, вот этого я вам не скажу.
Шельга покусал кожицу на губе. Смотрел вдоль пустынного бульвара.
Питкевич продолжал:
– У него не только изуродована рука, – у него на теле чудовищный шрам наискосок через грудь. Изуродовал Гарин в тысяча девятьсот девятнадцатом году. Человека этого зовут Стась Тыклинский…
– Что же, – спросил Шельга, – покойный Гарин изуродовал его тем же способом, каким он разрезал трехдюймовые доски?
Питкевич быстро повернул голову к собеседнику, и они некоторое время глядели в глаза друг другу: один спокойно и непроницаемо, другой весело и открыто.
– Арестовать меня все-таки вы намереваетесь, товарищ Шельга?
– Нет… Это мы всегда успеем.
– Вы правы. Я знаю много. Но, разумеется, никакими принудительными мерами вы не выпытаете у меня того, чего я не хочу открывать. В преступлении я не замешан, вы сами знаете. Хотите – игру в открытую? Условия борьбы: после хорошего удара мы встречаемся и откровенно беседуем. Это будет похоже на шахматную партию. Запрещенные приемы – убивать друг друга до смерти. Кстати – покуда мы с вами беседуем, вы подвергались смертельной опасности, уверяю вас, – я не шучу. Если бы на вашем месте сидел Стась Тыклинский, то я бы, скажем, осмотрелся, – пустынно, – и пошел бы, не спеша, на Сенатскую площадь, а его бы нашли на этой скамейке безнадежно мертвым, с отвратительными пятнами на теле. Но, повторяю, к вам этих фокусов применять не стану. Хотите партию?
– Ладно. Согласен, – сказал Шельга, блестя глазами, – нападать буду я первым, так?
– Разумеется, если бы вы не поймали меня на почтамте, я бы сам, конечно, не предложил игры. А что касается четырехпалого поляка – обещаю помогать в его розыске. Где бы его ни встретил – я вам немедленно сообщу по телефону или телеграфно.
– Ладно. А теперь, Питкевич, покажите, что у вас за штука такая, чем вы грозитесь…
Питкевич качнул головой, усмехнулся: «Будь по-вашему – игра открытая», и осторожно вынул из бокового кармана плоскую коробку. В ней лежала металлическая, в палец толщины, трубка.
– Вот и все, только надавить с одного конца, – там внутри хрустнет стеклышко.
Подходя к уголовному розыску, Шельга сразу остановился, – будто налетел на телеграфный столб. «Хе! – выдохнул он, – хе! – и бешено топнул ногой: – Ах, ловкач, ах, артист!»
Шельга действительно был одурачен вчистую. Он стоял в двух шагах от убийцы (в этом теперь не было сомнения) и не взял его. Он говорил с человеком, знающим, видимо, все нити убийства, и тот умудрился ничего ему не сказать по существу. Этот Пьянков-Питкевич владел какой-то тайной… Шельга вдруг понял – именно государственного, мирового значения была эта тайна… Он уже за хвост держал Пьянкова-Питкевича, – «вывернулся, проклятый, обошел!»
Шельга взбежал на третий этаж к себе в отдел. На столе лежал пакет из газетной бумаги. В глубокой нише окна сидел смирный толстенький человек в смазных сапогах. Держа картуз у живота, он поклонился Шельге.
– Бабичев, управдом, – сказал он с сильно самогонным духом, – по Пушкарской улице двадцать четвертый номер дома, жилтоварищество.
– Это вы принесли пакет?
– Я принес. Из квартиры номер тринадцатый… Это не в главном корпусе, а в пристроечке. Жилец вторые сутки у нас пропал. Сегодня милицию позвали, дверь вскрыли, составили акт в порядке закона, – управдом прикрыл рот рукой, щеки его покраснели, глаза слегка вылезли, увлажнились, дух самогона наполнил комнату, – значит, этот пакет я нашел дополнительно в печке.
– Фамилия пропавшего жильца?
– Савельев, Иван Алексеевич.
Шельга развернул пакет. Там оказались – фотографическая карточка Пьянкова-Питкевича, гребень, ножницы и склянка темной жидкости, краска для волос.
– Чем занимался Савельев?
– По ученой части. Когда у нас фановая труба лопнула – комитет к нему обратился… Он – «рад бы, говорит, вам помочь, но я химик».
– Он часто отлучался по ночам с квартиры?
– По ночам? Нет. Не замечалось, – управдом опять прикрыл рот, – чуть свет он – со двора, это верно. Но так, чтобы по ночам, – не замечалось, пьяным не видели.