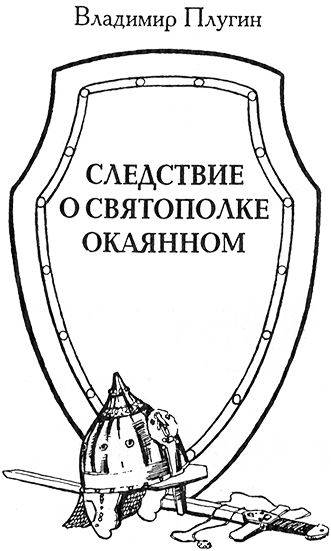
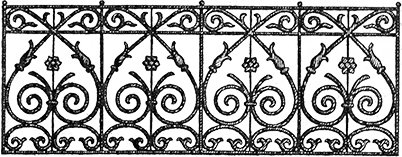
Со времён Ярослава Мудрого и до наших дней не было и нет на Руси человека, который не слышал бы имени Святополка Окаянного. Правда, известность известности рознь и не всякой стоит радоваться. Но такие соображения редко кого останавливали. И людей, предпочитавших мраку забвения любую славу, всегда было в достатке. Не уверен, что Святополк к такой славе стремился, но в историю он вошёл с прозвищем Окаянного и характеристикой «второго Каина» за убийство своих братьев — Бориса, Глеба и Святослава. Ныне, впрочем, некоторые исследователи склонны умалять или даже вообще отрицать вину Святополка, в которой абсолютно не сомневались наши предки. Попробуем и мы пролить свет на эту непростую историю. И начнём с начала — с происхождения Святополка.
СЫН ИЛИ БРАТАНИЧ [14]
В июне 980 года Владимир Святославич — пожав плоды предательства Блуда и убив своего брата Ярополка — вступил в Киев. Вместе с киевским княжением победителю досталась вдова несчастного предшественника, красавица гречанка, которую привёз из похода Святослав Игоревич и выдал за старшего сына. Очарованный прелестью полонянки, Владимир, легко попадавший в женские сети, не смог избежать искушения и, скажем так, сохранил за княгиней уже приобретённый ею статус. А вскоре на свет появился Святополк. Чьим сыном он был? В исторических справочниках и указателях Святополка называют то Ярополчичем, то Владимировичем. Между тем для летописцев и агиографов такой проблемы, кажется, не существовало. «Сказание о Борисе и Глебе» — литературный памятник конца XI века — говорит о Святополке с предельной ясностью: «Сего мати преже бе чьрницею, грькыни сущи, и поял ю бе (взял её в жёны. — Авт.) Яропълк, брат Володимирь, и ростриг ю красоты для лица ея и зача от нея сего Святоплъка окаяньнааго. Володимер же, поганьи ещё (язычник. — Авт.), убив Яроплъка и поят жену его... От нея же родися сий окаянный Святопълк и бысть от дъвою отьцю и брату сущю (от двоих отцов, которые были братьями. — Авт.). Темь же илюбляаше его Володимир, акы не от себе ему сущю». Почти так же, только чуть сбивчивей излагают эту историю и «Повесть временных лет», и Несторово «Чтение о Борисе и Глебе», да и другие средневековые сочинения ничего нового не сообщают.
Сомневающиеся кивают на то, что и «Сказание» и летопись составлены отнюдь не по свежим следам событий, а главное, слишком тенденциозны: Святополк для них заведомо окаянный. Но ведь обвинение только выиграло бы, если бы у Святополка были отняты любые нравственные оправдания совершенных злодеяний, то есть если бы он был не двоюродным, а родным братом убитых им сыновей Владимира. Потому что, какой бы смысл ни вкладывала средневековая мораль в понятие «двух отцов», ясно, что и Владимир в последовавшем по его смерти братоубийстве был бы не без вины. Так что если древних авторов и можно в чём-либо изобличить, то, скорее всего, в правдивости.
Итак, Владимир знал, что Святополк не его сын (видимо, он родился в конце 978 или в начале 979 года; либо, соответственно, 980-х и 981-х). Не подозревал, не мучился сомнениями, а знал. Это, очевидно, делало его отношение к пасынку спокойным и ровным, хотя не очень дружелюбным. Конечно, ему было досадно, что среди его детей резвится один «не от себя». Может быть, при виде мальчика он и мрачнел, вспоминая убийство Ярополка, особенно если Святополк походил лицом или повадками на отца. Но вообще-то Владимир должен был чувствовать себя нравственно более умиротворённым и чистым оттого, что не погубил младенца, не пресёк братнего рода... Но всё это продолжалось до поры до времени. Святополк мужал. Надлежало подумать о его судьбе. Владимир, несомненно, чувствовал тревогу после смерти старших сыновей, Вышеслава и Изяслава. Теперь самыми взрослыми в его обширном гнезде стали Святополк и Ярослав. Понятно, что делать Святополка преемником, наследником верховной власти — значило погубить всё, за что он боролся прежде. Я думаю, что, переводя Ярослава из Ростова в Новгород, киевский князь намекнул, на кого он собирается оставить Русь, — ведь Новгород был столицей его прадеда, основателя державы, крупнейшим центром всего северо-западного края, городом, из которого начинал свой путь на киевский стол и он сам. Впрочем, есть веские основания и для другого предположения — что наследовать Владимиру должен был его любимый сын Борис. Ну а Святополк... Его надо с глаз долой, однако не очень далеко — чтобы легче за ним присматривать. И, отправляя Святополка то ли в Туров, то ли в Пинск (когда это точно произошло — неизвестно), Владимир, конечно, не забыл приставить к нему свои «глаза и уши».
Так всё и шло, пока неожиданно не начала разыгрываться «германо-польско-печенежская карта».
В начале 1007 года Киев посетил проездом из Венгрии в Печенежскую степь епископ Бруно Кверфуртский. Это был один из многочисленных в ту пору западных миссионеров, увлечённых идеей проповеди Евангелия среди язычников. В Венгрии он не преуспел (так как король Стефан настороженно отнёсся к деятельности политического эмиссара германского императора). И теперь рассчитывал взять реванш в кочевьях «самых диких», по его собственным словам, из всех варваров. Владимир принял гостя очень радушно, потчевал целый месяц и всё это время всячески отговаривал от опасной и бесполезной затеи («...противился моему намерению и хлопотал обо мне, как будто я из тех, кто добровольно бросается на гибель», — писал Бруно королю Генриху II).
При всём внешнем отличии поведение киевского князя очень напоминало поведение Стефана. Владимиру явно не хотелось пускать Бруно к печенегам. Он прекрасно понимал, что вслед за римскими священниками туда придут немецкие или польские (поскольку Бруно был связан и с польским королём Болеславом Храбрым) дипломаты и советники. Уж лучше управляться со степными ханами один на один, чем иметь их в качестве вассалов и без того сильных ближних или дальних соседей. Очевидно, эти мысли и делали улыбку князя такой добродушной, а гостеприимство столь обязывающим.
Однако епископ, по-видимому, дал понять, что трудность задачи его не смущает, и при этом предложил заодно взять на себя миссию посредника между «русским государем»), «славным могуществом и богатством» и сияющим добродетелями, и кочевыми варварами, склоняя последних к миру с Киевской державой. Это меняло дело. Владимир был растроган. К тому же, как поведал князь своему гостю, ему приснился о нём сон, очень его напугавший, — что через три дня молодой епископ потеряет свою буйну голову. Почему-то отсюда вытекало, что немецкий проповедник должен как можно быстрее покинуть Русь. Очевидно, князю не хотелось, чтобы это печальное событие совершилось на его земле и сделало его самого косвенно к нему причастным. Поэтому он не только не стал больше ни на день задерживать Бруно, но почти вытолкал его (правда, и нужды держать его уже не стало) и даже решил лично проводить до границы — чтобы на пути в степь его никто не обидел. А может быть, для того, чтобы епископ зря не «плутал» и не проявлял излишнего любопытства. Кто знает, какими тайными наставлениями снабдили его венценосные покровители?..
Когда подъехали к валам, все спешились и вышли за ворота. Владимир в сопровождении старшей дружины поднялся на холм и, увидев, что Бруно и его свита удаляются, послал к ним боярина с такими речами: «Я тебя проводил до того места, где кончается моя земля и начинается неприятельская. Прошу тебя, ради Бога, не терять, к моему бесчестию, твоей молодой жизни. Я знаю, что ты завтра ещё до трёх часов испытаешь горькую смерть без всякой причины и выгоды». Из этого достаточно тёмного — в изложении Бруно — напутствия, в котором один тезис уничтожает другой, ясно лишь то, что князя волновала дальнейшая судьба епископа. Но что вызывало такое волнение — христианская тревога за ближнего или сложные политические расчёты?..
Однако вышло всё как нельзя лучше (для Владимира). Миссионерская деятельность Бруно у печенегов закончилась такой же неудачей, как у венгров. Он крестил только 30 человек. Зато, возвратившись через пять-шесть месяцев на Русь, епископ порадовал киевского князя успехом своей посреднической мирной инициативы. Печенеги не имели ничего против добрососедских отношений с Киевом и в подтверждение искренности намерений Владимира предложили ему прислать заложника (скорее всего, речь шла об обмене заложниками — талями). Владимир, говорит Бруно, отправил к ним своего сына. Какого? Многие исследователи полагают, что это был Святополк.
В самом деле, кого ещё было и послать? И дело важное, и с княжества пока долой, а там видно будет. Ещё воротится ли... К тому же печенеги когда-то водили дружбу с Ярополком. Его человек — Варяжко — сколько раз оттуда раньше набегом приходил. Значит, Святополку будет у них легче, чем собственным сыновьям, которыми и рисковать не хотелось бы... Так примерно мог рассуждать Владимир, делая выбор. Я не исключаю при этом, что на решение киевского князя повлияла информация, которую он должен был получать от приставленных к пасынку людей. Потому что если Святополк сидел в это время в Турове, то, конечно, не сложа руки. Он весьма активно, хотя и осторожно, наводил мосты с соседней Польшей. А то и с Чехией или враждебно затаившимся Полоцком. Этого Владимир допускать никак не хотел. Можно предположить, что «послу» было дано наставление доставить Святополка в Киев во что бы то ни стало, при нужде прибегнув к помощи киевской «диаспоры». Но случилось всё (мне кажется) совсем не так, как опасались Владимир и его советники. Попробуем напрячь воображение.
Передав на попечение отроков утомлённого коня и отряхивая с корзно, шапки и сапог дорожную пыль, киевский гридин, или муж, вошёл через просторные сени в палату, где его ждал встревоженный появлением нежданного гостя Святополк. Перекрестившись и привычно демонстрируя умение плести дипломатические сети, посланец произнёс, оттеняя голосом свою непричастность к тому, что сообщает:
— Княже, Володимир тебе кланяется и спрашивает: здоров ли? А сам он молитвами Пречистые Богородицы и святого Василья по сю пору благополучен...
И, с облегчением выслушав успокоительный ответ Святополка (значит, на нездоровье туровский сиделец уже сослаться не сможет), перешёл к главному:
— Да наряжает тебя, Святополче, великий князь на службу великую. Ехать тебе к печенегам — покрепить мир. — Потом, невольно опустив глаза, прибавил: — А в Киев ти быть не мешкая со мною, слугой его.
Посланец замер, ожидая вспышки княжеского гнева и думая, где и как искать в случае чего обещанных помощников. Но, подняв глаза, увидел: на красивом, по-южному смуглом, сухощавом и горбоносом лице Святополка змеится довольная улыбка, а во взгляде светится радость.
— Благодарствую батюшке за ласку, — отвечал Святополк. — Волю его выполню, часа не умедлив. Ступай покуда в гридницу. Отведай хлеба-соли моей.
«И чего полошился князь?» — недоумённо вопрошал себя дружинник, с поклоном закрывая дверь. «Удача как лебедь белая в руки ко мне плывёт», — ликовал Святополк, глядя вслед посланцу «любимого батюшки»...
ТЕНЬ ЯРОПОЛКА
Рассказывал ли киевский князь подраставшему Святополку о его настоящем отце, мы не знаем. Если и рассказывал, то, конечно, не всю правду, особенно о гибели его. А очень может быть, что вообще на любые речи о Ярополке негласно был наложен строжайший запрет и секретным агентам вменили в обязанность неукоснительно следить за его соблюдением. Однако хорошо известно, что уберечь подобную «государственную тайну» от заинтересованного в ней лица практически невозможно. И Святополк рано или поздно о ней тоже услышал. От матери или от каких-нибудь «доброхотов». Мало ли оставалось ещё свидетелей событий 978 (980) года к тому времени, когда отроческий разум Святополка стал способен осмысливать происходящее и задаваться серьёзными вопросами бытия. Кто-то ещё и карьеру мог себе сделать, утирая слёзы и просветляя мозги юному Ярополчичу. Ну а если Святополк узнал однажды, кто он и сколь тяжкий грех лежит на душе Владимира, то какие чувства должны были созревать и укрепляться в нём? Ясно, что он не мог признать себя сыном двух отцов, то есть любить равно и Ярополка и Владимира. И не нужно быть тонким психологом, чтобы представить, как сердце его наполнялось жаждой мести. По мере своего возмужания Святополк, несомненно, всё более сознавал себя единственным полноправным наследником Ярополка, а Владимира и его сыновей считал узурпаторами, заслуживающими возмездия. Все дальнейшие поступки Святополка при таком понимании их предыстории становятся очевидными, мотивированными и логичными (конечно, это была жестокая логика)...
Нужно помнить притом, что жажда мести за сородича в раннесредневековом обществе не воспринималась как нечто постыдное. Её нравственная законность была удостоверена самой первой статьёй древнейшего, известного нам письменного памятника древнерусского права — Русской Правды Ярослава Мудрого: брат мстит за брата, сын — за отца, отец — за сына; распространяется это право и на племянников. Только в случае отсутствия способных на подобное деяние родственников дело решается крупным штрафом. Хотя князь в этой статье не упоминается, естественно предполагать, что он не изымался из обшей юрисдикции. Другое дело, что в данном случае правовой казус можно было трактовать по-разному. Владимир ведь, по крайней мере формально, мстил Ярополку за гибель ближайшего сородича — брата Олега. И, убив Ярополка, как бы лишь исполнял нравственную заповедь обычного права и восстанавливал справедливость. Однако Святополк мог возразить на это, что, во-первых, Олег Святославич сам совершил убийство (Люта Свенельдича). Поэтому Свенельд, отец его жертвы, в свою очередь был вправе требовать у Ярополка отмщения. Во-вторых, Ярополк всё-таки не убивал брата. Тот погиб случайно в конце боя под Вручим. Ярополк плакал над телом Олега, когда его нашли, и упрекал в происшедшем Свенельда... Не знаю, можно ли найти только правых и только виноватых, размышляя над этой взаимосвязанной цепочкой преступлений. Но ясно, я полагаю, что последующие поступки Святополка вытекали из них и не были поступками патологического, не контролировавшего себя маньяка. В действиях Туровского князя, как уже говорилось, был свой жестокий резон. Громадная тень Ярополка, тень, отбрасываемая в вечность, покрыла Русскую землю. Кара «попущением Божиим» и искупление кровью невинных ожидали её.
Получив во владение Туров (или Пинск), Святополк, повторяю, развернул там, по-видимому, кипучую, хотя и скрытую от посторонних глаз и ушей деятельность. Его ближайшим соседом на западе был Болеслав Храбрый, правитель Польши. К нему-то, надо думать, и помчались прежде всего секретные послы Святополка. Чего мог желать в это время Ярополчич? На что рассчитывал? Думаю, что если он и заносился мыслями высоко, то ближайшую цель ставил скромную, но весьма реальную. Уже давно историками было высказано мнение, что Святополк стремился вывести своё княжество из состава восточнославянской федерации и сделать его самостоятельным. Ну, хотя бы полусамостоятельным, под временным протекторатом той же Польши. Святополк понимал, конечно, что союзнику придётся заплатить. Болеслав со своей стороны, как показывает дальнейшее развитие событий, ничего не имел против сближения с Туровом и возможности политического проникновения на Русь. Это сулило Польше, уже завязавшей — может быть, с помощью епископа Бруно — Бонифация — какие-то отношения с печенегами, завидные перспективы на Востоке. Поэтому дипломатический зондаж Святополка должен был встретить у Болеслава самый благосклонный отклик. Однако у польского князя и без русских дел хлопот было невпроворот. Война с германским королём обходилась Польше во всех смыслах недёшево. И Святополк в какой-то момент, вероятно, понял, что на Болеслава ему пока рассчитывать нельзя. По крайней мере, на его военную помощь. Неизвестно, пробовал ли он завязать дружбу ещё с кем-либо, — например, с чехами или Полоцком. Но если такое и было, то результатов, судя по всему, не принесло.
И тогда (а может быть, гораздо раньше) взгляд Туровского князя обратился на юго-восток, к кочевьям печенегов. Можно не сомневаться, что прошлые связи с ними его отца также не остались для него тайной. Святополк ведь, как и Владимир, действовал не в одиночку. Как и всем княжичам, ему «по штату» положен был дядька-пестун из числа старых опытных воевод. Такой дядька становился при подраставшем Рюриковиче мажордомом с почти неограниченной властью. Он был и нянькой, и ближайшим советником, и наперсником, и главным администратором, и начальником тайной службы, и военным руководителем. Кто именно пестовал Святополка, точно неизвестно. Но в первом сражении Святополка с Ярославом его войском командовал Волчий Хвост. Это был старый Владимиров воевода, отец которого, Волк, служил ещё Святославу Игоревичу. Можно предположить, что он-то и был наставником этого трудного дитяти. Наверное, князь предполагал, что Волчий Хвост будет не столько дядькой, сколько осведомителем при Святополке. Возможно, что сначала так оно и было и воевода оправдывал его надежды. Но по мере того как Владимир старел, Волчий Хвост (если это был он) не мог не задумываться над будущим. И эти раздумья, вероятно, подсказали ему однажды, что пора делать ставку на Святополка. Знал воевода немало и сведениями располагал такими, которые стоили очень дорого. Не последнее место среди них занимали, конечно, и воспоминания о том, как печенежский хан Илдея со своим родом переселился при Ярополке на Русь и как Варяжко водил степняков на отечественные грады и веси, мстя Владимиру за гибель своего господина — Ярополка. Узнав об этом, Святополк, естественно, должен был загореться желанием возобновить утраченные связи. Только вот как добраться до далёких кибиток? Одиночных рядовых агентов под видом хотя бы калик перехожих заслать не так уж трудно (может быть, их и засылали), но и толку от них не много. А нескольким «нарочитым мужам», с которыми печенеги согласились бы вести переговоры, пробраться через столько застав незамеченными или хотя бы неузнанными почти невозможно. Сразу всё провалишь и сам окажешься в погребе у «любимого батюшки». Положение казалось безвыходным, как вдруг порог Туровского дворца переступил посланец Владимира...
Вот как, в моём представлении, всё это произошло. Хотя, конечно, ни на реальности картин, ни на безошибочности умозаключений я не настаиваю. Но я убеждён в одном: Святополк стремился установить связь с печенегами, и он этого добился. А Владимир и его мудрецы из дружинного совета, вызвав Святополка в Киев и отправив его к печенегам, совершили большую ошибку. (Наверное, это были не лучшие времена для Владимировых спецслужб. Малуша, мать Владимира и (по сагам) прорицательница, умерла. Добрыня тоже сошёл со сцены. А Илья Моровлин-Муромец, может быть, сидел в погребе или пребывал в дальней ссылке. Впрочем, мы помним, что фольклор освободил его от подобных дел). Глядя вслед отъезжавшему пасынку и его нарядной свите и напутственно махая рукой, Владимир не подозревал, что даёт благословение зарождению великой крамолы, которая посеет смуту в его державе и едва не уничтожит династию. Первый раунд противоборства двух секретных служб остался, скорее всего, за Святополком.