И в Физике прочтешь,[117]и не в исходе,
А только лишь перелистав едва:
Искусство смертных следует природе,
Как ученик ее, за пядью пядь;
Оно есть божий внук, в известном роде.
Им и природой, как ты должен знать
Из книги Бытия, господне слово
Велело людям жить и процветать.
А ростовщик, сойдя с пути благого,
И самою природой пренебрег,
И спутником ее,[118]ища другого.
Но нам пора; прошел немалый срок;
Блеснули Рыбы над чертой востока,
И Воз уже совсем над Кавром лег,[119]
А к спуску нам идти еще далеко».

Песнь двенадцатая
Круг седьмой — Минотавр — Первый пояс — Флегетон — Насильники над ближним и над его достоянием
Был грозен срыв, откуда надо было
Спускаться вниз, и зрелище являл,
Которое любого бы смутило.
Как ниже Тренто видится обвал,
Обрушенный на Адиче когда-то
Землетрясеньем иль паденьем скал,[120]
И каменная круча так щербата,
Что для идущих сверху поселян
Как бы тропинкой служат глыбы ската,
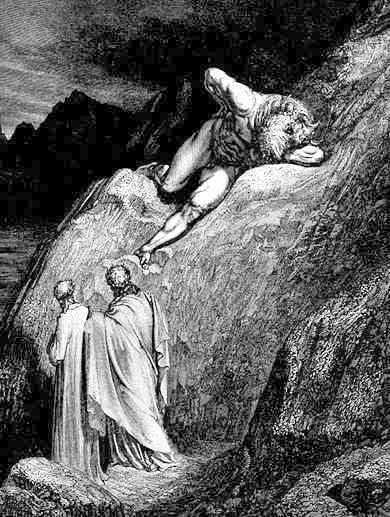
Таков был облик этих мрачных стран;
А на краю, над сходом к бездне новой,
Раскинувшись, лежал позор критян,
Зачатый древле мнимою коровой.[121]
Завидев нас, он сам себя терзать
Зубами начал в злобе бестолковой.
Мудрец ему: «Ты бесишься опять?
Ты думаешь, я здесь с Афинским дуком,
Который приходил тебя заклать?
Посторонись, скот! Хитростным наукам
Твоей сестрой мой спутник не учен;
Он только соглядатай вашим мукам».[122]
Как бык, секирой насмерть поражен,
Рвет свой аркан, но к бегу неспособен
И только скачет, болью оглушен,
Так Минотавр метался, дик и злобен;
И зоркий вождь мне крикнул: «Вниз беги!
Пока он в гневе, миг как раз удобен».
Мы под уклон направили шаги,
И часто камень угрожал обвалом
Под новой тяжестью моей ноги.
Я шел в раздумье. «Ты дивишься скалам,
Где этот лютый зверь не тронул нас? —
Промолвил вождь по размышленье малом. —
Так знай же, что, когда я прошлый раз[123]
Шел нижним Адом в сумрак сокровенный,
Здесь не лежали глыбы, как сейчас.
Но перед тем, как в первый круг геенны
Явился тот, кто стольких в небо взял,
Которые у Дита были пленны,
Так мощно дрогнул пасмурный провал,[124]
Что я подумал — мир любовь объяла,
Которая, как некто полагал,
Его и прежде в хаос обращала;[125]
Тогда и этот рушился утес,
И не одна кой-где скала упала.
Но посмотри: вот, окаймив откос,
Течет поток кровавый,[126]сожигая
Тех, кто насилье ближнему нанес».
О гнев безумный, о корысть слепая,
Вы мучите наш краткий век земной
И в вечности томите, истязая!
Я видел ров, изогнутый дугой
И всю равнину обходящий кругом,
Как это мне поведал спутник мой;
Меж ним и кручей мчались друг за другом
Кентавры, как, бывало, на земле,
Гоняя зверя, мчались вольным лугом.
Все стали, нас приметив на скале,
А трое подскакали ближе к краю,
Готовя лук и выбрав по стреле.
Один из них, опередивший стаю,
Кричал: «Кто вас послал на этот след?
Скажите с места, или я стреляю».
Учитель мой промолвил: «Мы ответ
Дадим Хирону[127], под его защитой.
Ты был всегда горяч, себе во вред».
И, тронув плащ мой: «Это Несс, убитый
За Деяниру, гнев предсмертный свой
Запечатлевший местью знаменитой.[128]
Тот, средний, со склоненной головой, —
Хирон, Ахиллов пестун величавый;
А третий — Фол[129], с душою грозовой.
Их толпы вдоль реки снуют облавой,
Стреляя в тех, кто, по своим грехам,
Всплывет не в меру из волны кровавой».
Мы подошли к проворным скакунам;
Хирон, браздой стрелы раздвинув клубы
Густых усов, пригладил их к щекам
И, опростав свои большие губы,
Сказал другим: «Вон тот, второй, пришлец,
Когда идет, шевелит камень грубый;
Так не ступает ни один мертвец».
Мой добрый вождь, к его приблизясь груди,
Где две природы[130]сочетал стрелец,
Сказал: «Он жив, как все живые люди;
Я — вождь его сквозь сумрачный простор;
Он следует нужде, а не причуде.
А та, чей я свершаю приговор,
Сходя ко мне, прервала аллилуйя;[131]
Я сам не грешный дух, и он не вор.
Верховной волей в страшный путь иду я.
Так пусть же с нами двинется в поход
Один из вас, дорогу указуя,
И этого на круп к себе возьмет
И переправит в месте неглубоком;
Ведь он не тень, что в воздухе плывет».
Хирон направо обратился боком
И молвил Нессу: «Будь проводником;
Других гони, коль встретишь ненароком».
Вдоль берега, над алым кипятком,
Вожатый нас повел без прекословий.
Был страшен крик варившихся живьем.
Я видел погрузившихся по брови.
Кентавр сказал: «Здесь не один тиран,
Который жаждал золота и крови:
Все, кто насильем осквернил свой сан.
Здесь Александр[132]и Дионисий лютый,
Сицилии нанесший много ран;
Вот этот, с черной шерстью, — пресловутый
Граф Адзолино;[133]светлый, рядом с ним, —
Обиццо д'Эсте, тот, что в мире смуты
Родимым сыном истреблен своим».[134]
Поняв мой взгляд, вождь молвил, благосклонный:
«Здесь он да будет первым, я — вторым».[135]
Потом мы подошли к неотдаленной
Толпе людей, где каждый был покрыт
По горло этой влагой раскаленной.
Мы видели — один вдали стоит.
Несс молвил: «Он пронзил под божьей сенью
То сердце, что над Темзой кровь точит».[136]
Потом я видел, ниже по теченью,
Других, являвших плечи, грудь, живот;
Иной из них мне был знакомой тенью.
За пядью пядь, спадал волноворот,
И под конец он обжигал лишь ноги;
И здесь мы реку пересекли вброд.
«Как до сих пор, всю эту часть дороги, —
Сказал кентавр, — мелеет кипяток,
Так, дальше, снова под уклон отлогий
Уходит дно, и пучится поток,
И, полный круг смыкая там, где стонет
Толпа тиранов, он опять глубок.
Там под небесным гневом выю клонит
И Аттила[137], когда-то бич земли,
И Пирр, и Секст;[138]там мука слезы гонит,
И вечным плачем лица обожгли
Риньер де'Пацци и Риньер Корнето,[139]
Которые такой разбой вели».
Тут он помчался вспять и скрылся где-то.

Песнь тринадцатая
Круг седьмой — Второй пояс — Насильники над собою и над своим достоянием
Еще кентавр не пересек потока,
Как мы вступили в одичалый лес,
Где ни тропы не находило око.
Там бурых листьев сумрачен навес,
Там вьется в узел каждый сук ползущий,
Там нет плодов, и яд в шипах древес.
Такой унылой и дремучей пущи
От Чечины и до Корнето[140]нет,
Приют зверью пустынному дающей.

Там гнезда гарпий, их поганый след,
Тех, что троян, закинутых кочевьем,
Прогнали со Строфад предвестьем бед.[141]
С широкими крылами, с ликом девьим,
Когтистые, с пернатым животом,
Они тоскливо кличут по деревьям.
«Пред тем, как дальше мы с тобой пойдем, —
Так начал мой учитель, наставляя, —
Знай, что сейчас мы в поясе втором,
А там, за ним, пустыня огневая.
Здесь ты увидишь то, — добавил он, —
Чему бы не поверил, мне внимая».
Я отовсюду слышал громкий стон,
Но никого окрест не появлялось;
И я остановился, изумлен.
Учителю, мне кажется, казалось,
Что мне казалось, будто это крик
Толпы какой-то, что в кустах скрывалась.
И мне сказал мой мудрый проводник:
«Тебе любую ветвь сломать довольно,
Чтоб домысел твой рухнул в тот же миг».
Тогда я руку протянул невольно
К терновнику и отломил сучок;
И ствол воскликнул: «Не ломай, мне больно!»
В надломе кровью потемнел росток
И снова крикнул: «Прекрати мученья!
Ужели дух твой до того жесток?
Мы были люди, а теперь растенья.
И к душам гадов было бы грешно
Выказывать так мало сожаленья».
И как с конца палимое бревно
От тока ветра и его накала
В другом конце трещит и слез полно,
Так раненое древо источало
Слова и кровь; я в ужасе затих,
И наземь ветвь из рук моих упала.
«Когда б он знал, что на путях своих, —
Ответил вождь мой жалобному звуку, —
Он встретит то, о чем вещал мой стих,[142]
О бедный дух, он не простер бы руку.
Но чтоб он мог чудесное познать,
Тебя со скорбью я обрек на муку.
Скажи ему, кто ты; дабы воздать
Тебе добром, он о тебе вспомянет
В земном краю, куда взойдет опять».
И древо: «Твой призыв меня так манит,
Что не могу внимать ему, молча;
И пусть не в тягость вам рассказ мой станет.
Я тот,[143]кто оба сберегал ключа[144]
От сердца Федерика и вращал их
К затвору и к отвору, не звуча,
Хранитель тайн его, больших и малых.
Неся мой долг, который мне был свят,
Я не щадил ни сна, ни сил усталых.
Развратница[145], от кесарских палат
Не отводящая очей тлетворных,
Чума народов и дворцовый яд,
Так воспалила на меня придворных,
Что Август[146], их пыланьем воспылав,
Низверг мой блеск в пучину бедствий черных
Смятенный дух мой, вознегодовав,
Замыслил смертью помешать злословью,
И правый стал перед собой неправ.[147]
Моих корней клянусь ужасной кровью,
Я жил и умер, свой обет храня,
И господину я служил любовью!
И тот из вас, кто выйдет к свету дня,
Пусть честь мою излечит от извета,
Которым зависть ранила меня!»
«Он смолк, — услышал я из уст поэта. —
Заговори с ним, — время не ушло, —
Когда ты ждешь на что-нибудь ответа».
«Спроси его что хочешь, что б могло
Быть мне полезным, — молвил я, смущенный. —
Я не решусь; мне слишком тяжело».
«Вот этот, — начал спутник благосклонный, —
Готов свершить тобой просимый труд.
А ты, о дух, в темницу заточенный,
Поведай нам, как душу в плен берут
Узлы ветвей; поведай, если можно,
Выходят ли когда из этих пут».
Тут ствол дохнул огромно и тревожно,
И в этом вздохе слову был исход:
«Ответ вам будет дан немногосложно.
Когда душа, ожесточась, порвет
Самоуправно оболочку тела,
Минос[148]ее в седьмую бездну шлет.
Ей не дается точного предела;
Упав в лесу, как малое зерно,
Она растет, где ей судьба велела.
Зерно в побег и в ствол превращено;
И гарпии, кормясь его листами,
Боль создают и боли той окно.[149]
Пойдем и мы за нашими телами,[150]
Но их мы не наденем в Судный день:
Не наше то, что сбросили мы сами.[151]
Мы их притащим в сумрачную сень,
И плоть повиснет на кусте колючем,
Где спит ее безжалостная тень».
Мы думали, что ствол, тоскою мучим,
Еще и дальше говорить готов,
Но услыхали шум в лесу дремучем,
Как на облаве внемлет зверолов,
Что мчится вепрь и вслед за ним борзые,
И слышит хруст растоптанных кустов.
И вот бегут,[152]левее нас, нагие,
Истерзанные двое, меж ветвей,
Ломая грудью заросли тугие.
Передний[153]: «Смерть, ко мне, ко мне скорей!»
Другой[154], который не отстать старался,
Кричал: «Сегодня, Лано, ты быстрей,
Чем был, когда у Топпо подвизался!»
Он, задыхаясь, посмотрел вокруг,
Свалился в куст и в груду с ним смешался.
А сзади лес был полон черных сук,
Голодных и бегущих без оглядки,
Как гончие, когда их спустят вдруг.
В упавшего, всей силой жадной хватки,
Они впились зубами на лету
И растащили бедные остатки.
Мой проводник повел меня к кусту;
А тот, в крови, оплакивал, стеная,
Своих поломов горькую тщету:
«О Джакомо да Сант-Андреа! Злая
Была затея защищаться мной!
Я ль виноват, что жизнь твоя дурная?»
Остановясь над ним, наставник мой
Промолвил: «Кем ты был, сквозь эти раны
Струящий с кровью скорбный голос свой?»
И он в ответ: «О души, в эти страны
Пришедшие сквозь вековую тьму,
Чтоб видеть в прахе мой покров раздранный,
Сгребите листья к терну моему!
Мой город — тот, где ради Иоанна
Забыт былой заступник; потому
Его искусство мстит нам неустанно;[155]
И если бы поднесь у Арнских вод
Его частица не была сохранна,
То строившие сызнова оплот
На Аттиловом грозном пепелище —
Напрасно утруждали бы народ.[156]
Я сам себя казнил в моем жилище».[157]

Песнь четырнадцатая
Круг седьмой — Третий пояс — Насильники над божеством
Объят печалью о местах, мне милых,
Я подобрал опавшие листы
И обессиленному возвратил их.
Пройдя сквозь лес, мы вышли у черты,
Где третий пояс лег внутри второго
И гневный суд вершится с высоты.
Дабы явить, что взору было ново,
Скажу, что нам, огромной пеленой,
Открылась степь, где нет ростка живого.

Злосчастный лес ее обвил[158]каймой,
Как он и сам обвит рекой горючей;
Мы стали с краю, я и спутник мой.
Вся даль была сплошной песок сыпучий,
Как тот, который попирал Катон[159],
Из края в край пройдя равниной жгучей.
О божья месть, как тяжко устрашен
Быть должен тот, кто прочитает ныне,
На что мой взгляд был въяве устремлен!
Я видел толпы голых душ в пустыне:
Все плакали, в терзанье вековом,
Но разной обреченные судьбине.
Кто был повержен навзничь, вверх лицом,
Кто, съежившись, сидел на почве пыльной,
А кто сновал без устали кругом.[160]
Разряд шагавших самый был обильный;
Лежавших я всех меньше насчитал,
Но вопль их скорбных уст был самый сильный.
А над пустыней медленно спадал
Дождь пламени, широкими платками,
Как снег в безветрии нагорных скал.
Как Александр, под знойными лучами
Сквозь Индию ведя свои полки,
Настигнут был падучими огнями
И приказал, чтобы его стрелки
Усерднее топтали землю, зная,
Что порознь легче гаснут языки,[161]—
Так опускалась вьюга огневая;
И прах пылал, как под огнивом трут,
Мучения казнимых удвояя.
И я смотрел, как вечный пляс ведут
Худые руки, стряхивая с тела
То здесь, то там огнепалящий зуд.
Я начал: «Ты, чья сила одолела
Все, кроме бесов, коими закрыт
Нам доступ был у грозного предела,[162]
Кто это, рослый, хмуро так лежит,[163]
Презрев пожар, палящий отовсюду?
Его и дождь, я вижу, не мягчит».
А тот, поняв, что я дивлюсь, как чуду,
Его гордыне, отвечал, крича:
«Каким я жил, таким и в смерти буду!
Пускай Зевес замучит ковача,[164]
Из чьей руки он взял перун железный,
Чтоб в смертный день меня сразить сплеча,
Или пускай работой бесполезной
Всех в Монджибельской кузне[165]надорвет,
Вопя: «Спасай, спасай, Вулкан любезный!»,
Как он над Флегрой[166]возглашал с высот,
И пусть меня громит грозой всечасной, —
Веселой мести он не обретет!»
Тогда мой вождь воскликнул с силой страстной,
Какой я в нем не слышал никогда:
«О Капаней, в гордыне неугасной —
Твоя наитягчайшая беда:
Ты сам себя, в неистовстве великом,
Казнишь жесточе всякого суда».
И молвил мне, с уже спокойным ликом:
«Он был один из тех семи царей,
Что осаждали Фивы; в буйстве диком,
Гнушался богом — и не стал смирней;
Как я ему сказал, он по заслугам
Украшен славой дерзостных речей.
Теперь идем, как прежде, друг за другом;
Но не касайся жгучего песка,
А обходи, держась опушки, кругом».
В безмолвье мы дошли до ручейка,
Спешащего из леса быстрым током,
Чья алость мне и до сих пор жутка.
Как Буликаме убегает стоком,
В котором воду грешницы берут,
Так нистекал и он в песке глубоком.[167]
Закраины, что по бокам идут,
И дно его, и склоны — камнем стали;
Я понял, что дорога наша — тут.
«Среди всего, что мы с тобой видали
С тех самых пор, как перешли порог,
Открытый всем входящим, ты едва ли
Чудеснее что-либо встретить мог,
Чем эта речка, силой испаренья
Смиряющая всякий огонек».
Так молвил вождь; взыскуя поученья,
Я попросил, чтоб, голоду вослед,
Он мне и пищу дал для утоленья.
«В средине моря, — молвил он в ответ, —
Есть ветхий край, носящий имя Крита,
Под чьим владыкой был безгрешен свет.[168]
Меж прочих гор там Ида знаменита;
Когда-то влагой и листвой блестя,
Теперь она пустынна и забыта.
Ей Рея вверила свое дитя,
Ища ему приюта и опеки
И плачущего шумом защитя.[169]
В горе стоит великий старец некий;
Он к Дамиате обращен спиной
И к Риму, как к зерцалу, поднял веки.
Он золотой сияет головой,
А грудь и руки — серебро литое,
И дальше — медь, дотуда, где раздвой;
Затем — железо донизу простое,
Но глиняная правая плюсна,
И он на ней почил, как на устое.[170]
Вся плоть, от шеи вниз, рассечена,
И капли слез сквозь трещины струятся,
И дно пещеры гложет их волна.
В подземной глубине из них родятся
И Ахерон, и Стикс, и Флегетон;
Потом они сквозь этот сток стремятся,
Чтоб там, внизу, последний минув склон,
Создать Коцит; но умолчу про это;
Ты вскоре сам увидишь тот затон».[171]
Я молвил: «Если из земного света
Досюда эта речка дотекла,
Зачем она от нас таилась где-то?»
И он: «Вся эта впадина кругла;
Хотя и шел ты многими тропами
Все влево, опускаясь в глубь жерла,
Но полный круг еще не пройден нами;[172]
И если случай новое принес,
То не дивись смущенными очами».
«А Лета где? — вновь задал я вопрос. —
Где Флегетон? Ее ты не отметил,
А тот, ты говоришь, возник из слез».
«Ты правильно спросил, — мой вождь ответил.
Но в клокотаньи этих алых вод
Одну разгадку ты воочью встретил.[173]
Придешь и к Лете, но она течет
Там, где душа восходит к омовенью,
Когда вина избытая спадет».
Потом сказал: «Теперь мы с этой сенью[174]
Простимся; следуй мне и след храни:
Тропа идет вдоль русла, по теченью,
Где влажный воздух гасит все огни».

Песнь пятнадцатая
Круг седьмой — Третий пояс (продолжение) — Насильники над естеством (содомиты)
Вот мы идем вдоль каменного края;
А над ручьем обильный пар встает,
От пламени плотину избавляя.
Как у фламандцев выстроен оплот
Меж Бруджей и Гвидзантом, чтоб заране
Предотвратить напор могучих вод,
И как вдоль Бренты строят падуане,
Чтоб замок и посад был защищен,
Пока не дышит зной на Кьярентане,[175]

Так сделаны и эти,[176]с двух сторон,
Хоть и не столь высоко и широко
Их создал мастер, кто бы ни был он.
Уже от рощи были мы далеко,
И сколько б я ни обращался раз,
Я к ней напрасно устремлял бы око.
Навстречу нам шли тени и на нас
Смотрели снизу, глаз сощуря в щелку,
Как в новолунье люди, в поздний час,
Друг друга озирают втихомолку;
И каждый бровью пристально повел,
Как старый швец, вдевая нить в иголку.
Одним из тех, кто, так взирая, шел,
Я был опознан. Вскрикнув: «Что за диво!»
Он ухватил меня за мой подол.
Я в опаленный лик взглянул пытливо,
Когда рукой он взялся за кайму,
И темный образ явственно и живо
Себя открыл рассудку моему;
Склонясь к лицу, где пламень выжег пятна:
«Вы, сэр Брунетто[177]?» — молвил я ему.
И он: «Мой сын, тебе не неприятно,
Чтобы, покинув остальных, с тобой
Латино чуточку прошел обратно?»
Я отвечал: «Прошу вас всей душой;
А то, хотите, я присяду с вами,
Когда на то согласен спутник мой».
И он: «Мой сын, кто из казнимых с нами
Помедлит миг, потом лежит сто лет,